Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Так и представляешь себе стаи плоских «таблеток», которые сосредоточенно тащат на себе башни из палет по огромным складам, не ошибаются, не сталкиваются, а главное – не увольняются. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах.
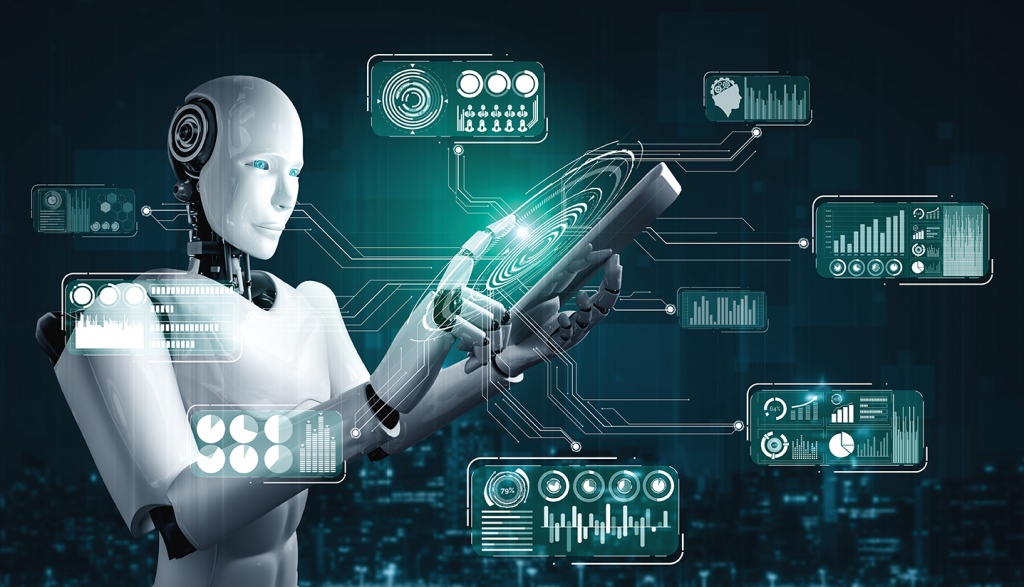
Софтверные роботы, или RPA (robotic process automation), умеют работать с пользовательским интерфейсом и применяются для автоматизации бизнес-процессов. Зачем нужно умение «видеть» кнопки в программах и нажимать на них? Чтобы имитировать деятельность человека: заполнять бесчисленные поля в табличках, носить данные из одного документа в другой, находить в ERP компании и отсылать клиентам нужные сведения, миллион раз проставлять галочки. Вы увидите, как курсор сам двигается по экрану, открывая нужные приложения. А вот робота, который это делает, увидеть затруднительно.
Применять такую технологию можно везде: от бухгалтерии до ИТ-отдела. Роботы работают с любой системой: могут отслеживать работу ИТ-инфраструктуры, оформлять больничные, обрабатывать заявки на кредит. Даже наказывать воришек! Как это может сделать невидимый робот, который не выполняет ничего тяжелее нажатия одной клавиши, рассказывали на осенней конференции Tadviser представители X5 Retail Group. Мы увидим детали этого кейса чуть позже, а пока обсудим вот что: почему такая отличная технология стала набирать популярность только сейчас? Ведь RPA – не самая горячая новинка. Они появились еще в начале двухтысячных.
За это время начали говорить и про искусственный интеллект, и про BPM-автоматизацию процессов. Программные роботы в эту тусовку не вписались. Но если судить по их функционалу, очевидно, что должно было бы быть наоборот. Набор технологий, который позволяет заменить сотрудников компании роботами, – звучит как мечта. Если задачи выполняются качественно и в срок, то для бизнеса по большому счету нет разницы, работает ли над задачами штат сотрудников или программный робот. Бизнес всегда будет выбирать решения, которые позволят делать дела быстрее, качественнее и за меньшие деньги. «В теории RPA-технологии должны предоставить бизнесу данные преимущества, однако не все так гладко, – делится своими соображениями Кирилл Филенков, руководитель направления роботизации компании Bell Integrator. – Во-первых, подавляющее большинство средств RPA платные, что означает ежегодные расходы на лицензии. С учетом курса доллара и уровня заработных плат в нашей стране порой проще нанять целый штат низкооплачиваемых сотрудников для рутинных задач, чем создавать и поддерживать роботов. Во-вторых, в России до сих пор распространен бумажный документооборот, с которым роботизация попросту не справляется. Любая автоматизация закончится тогда, когда заявления нужно писать от руки и согласовывать в «кабинете номер 68 в соседнем корпусе в порядке живой очереди». По его словам, есть еще ряд причин, препятствующих развитию RPA в нашей стране, однако для понимания картины приведенных выше более чем достаточно.
Золотые программисты
У истоков развития RPA стояла компания Blue Prism. Мы обратились к ней с вопросом: что же изменилось сейчас? На множестве профильных конференций с самого начала года один ритейлер за другим объявляют темой своего выступления этих самых роботов и рассказывают, как здорово их внедрили. Появился какой-то свежий взгляд на старое решение? «Компания Blue Prism была основана в 2001 году, и первое решение по автоматизации бизнес-процессов было выпущено в 2003 году, – предлагает заглянуть в прошлое Кристиан Уэллс (Christian Wells), эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России. – В Россию Blue Prism пришла в 2017 году, предварительно наработав опыт по роботизации в Европе и США. Сейчас российский рынок находится в состоянии активного развития и внедрения нашей технологии. Компания и продукт зрелые, но в России о нас действительно узнали сравнительно недавно. Нас начали обсуждать и внедрять нашу технологию особенно интенсивно в этом году в результате перезагрузки российского бизнеса».
Мы все знаем, что обеспечило эту внезапную перезагрузку. Становится даже немного забавно наблюдать, как все те старые веяния, о которых раньше было приятно поговорить, но так не хотелось пользоваться на практике, вроде перевода сотрудников на удаленную работу, сейчас не только стали реальностью, но и понравились бизнесу.
Очные согласования документов стали практически невозможны. Компании одна за другой начали меняться в сторону цифровизации. «Как следствие, разработчиков, да и ИТ-специалистов в целом, не хватает, заработная плата хоть и не сильно, не во всех областях, но начала расти. Следовательно, все больше бизнес-процессов становится возможно роботизировать, RPA становится все более выгодным, – поясняет Кирилл Филенков. – Однако, на мой взгляд, говорить о каком-то прорыве в данной области или «свежем взгляде» преждевременно. Просто современные реалии изменились. RPA все чаще воспринимается как инструмент, позволяющий повысить качество бизнес-процессов и сократить фонд заработной платы, а не как «хипстерская новинка».
Еще одна причина, почему мы так долго запрягали, лежит в неожиданной области. Дело в том, что в России очень распространены решения на платформе 1С, которые многое позволяют дорабатывать своими силами. «В отличие, например, от Запада, где любая доработка стоит больших денег, и поэтому местные компании задумываются, что же делать, и приходят, например, к RPA. Плюс на Западе более высокие зарплаты и, соответственно, экономический эффект считается быстрее, а бизнесу в этом случае более очевидно, зачем вообще что-то роботизировать», – говорит Сергей Ложкин, исполнительный директор компании PIX Robotics.
Теперь эту же боль почувствовали и отечественные управленцы. Заработные платы в мире ИТ действительно стали такими, что как только директор хочет внедрить какую-то непопулярную среди сотрудников программу вроде контроля за работой удаленных сотрудников, начальник ИТ-отдела сразу предупреждает топ-менеджеров: «Зарплаты с весны в этой сфере выросли в полтора раза. Если кто-то уйдет, нового на те же деньги найти будет трудно. Давайте оставим эксперименты на потом».
Недавно всех потрясла компания Cisco, которая предложила российскому разработчику не только вид на жительство, помощь с переездом за границу и зарплату $20 тыс. в месяц, но и приветственный бонус $500 тыс. Станислав Иодковский, директор ИТ-компании «ИВКС» (IVA Technologies), обнародовавший эти цифры, пожаловался, что таким образом у них увели генерального конструктора. В подобных условиях поневоле задумаешься о технологии, которая не перейдет завтра на сторону конкурентов и не вывернет карманы собственника слишком сильно.
«Два года пандемии преподали бизнесу новые и болезненные уроки. Если до пандемии от нас отмахивались со словами, что и вручную прекрасно работают и что если надо, то без проблем наймут больший штат сотрудников, то теперь к нашему предложению прислушиваются, – рассказывает Кристиан Уэллс. – То, что все воспринимали как должное, постоянное и обыденное, оказалось весьма шатким и хрупким. Мы предоставляем надежный фундамент для бизнеса и облегчаем зависимость от обычных сотрудников. Бизнес получает гибкость и может фокусироваться на привлечении лучших сотрудников и экспертов, а не заниматься массовым наймом. От наших клиентов мы знаем, что на данный момент на рынке ощущается дефицит хороших кадров, и прогнозы на будущее неутешительные».
Роботизаторы не дремлют
В доковидные времена применение RPA подчас не только не снижало, а, наоборот, повышало стоимость производства. Разумеется, в таких реалиях не о каком массовом внедрении RPA и речи быть не могло. «Конечно, сказать, что RPA не применялось вовсе, будет некорректно, но долгие годы данная технология оставалась в нашей стране узкоспециализированной и применялась точечно, по необходимости», – вспоминает Кирилл Филенков.
Поначалу владельцы компаний не поняли даже концепции решения. «ИТ-службы считали, что это просто системы тестирования или кликеры, – говорит Сергей Ложкин, – но зрелая RPA-платформа – это не только кликеры, но и система оркестрации (централизованного управления), и smart-роботы, и активности по интеграциям с системами, и самое главное, это накопленный опыт эффективного использования роботов. Компании учатся друг у друга и таким образом проникаются темой RPA все больше».
Не было четкого видения того, как именно программные роботы смогут приносить выгоду предприятию. Было слишком много ограничений в способностях самих роботов. «Наш мир наполнен неструктурированными данными, а боты требуют четко структурированную информацию. Интеллектуальная автоматизация на базе цифровых сотрудников Blue Prism решила эту проблему путем когнитивных умений роботов на базе ИИ и машинного обучения. Наши роботы могут работать с неструктурированными данными, что убирает ограничения в работе с документами, человеческим общением и принятием решений на базе наработанного опыта», – рассказывает Кристиан Уэллс.
RPA в России начала внедряться в 2018 году. «Мы были на заре развития этой технологии. Она «прорастает» каскадно: вначале идут proof of concept, затем пилоты, и эти этапы каждая компания проходит по-своему, – рассуждает Александр Садыков, руководитель департамента контроля качества ИТ-компании «Инфосистемы Джет», ведущий специалист по RPA. – Бывает такое, что компания начала proof of concept, а ИТ-служба не оказала поддержки. Потом проходит год-два, и компания снова возвращается к теме RPA. Технология полностью переосмысливается, и это частая практика».
Бывает и так, что компания решила – программные роботы не нужны, но через какое-то время вдруг видит, что RPA внедряют конкуренты. Тогда руководство снова поднимет этот вопрос. Сейчас увеличилось количество успешных кейсов, они накапливаются, и это приводит к тому, что об RPA-технологии говорят больше. «Год назад и даже два года назад компании уже внедряли роботов, но только сейчас пошли их тиражи, – комментирует Александр Садыков. – От пилотного проекта сложно получить экономический эффект, а когда тираж роботов идет успешно, то компании об этом начинают рапортовать. Мы наблюдаем ситуацию, когда о тиражных историях уже есть что рассказать».
И вот сейчас настало время рассмотреть кейс X5 Retail Group. Здесь с помощью RPA закрывают вопросы интеграции между системами, делают простые сервисы самообслуживания, чтобы не дожидаться вечно занятых сложными проблемами программистов и не копить технические долги. Но самый интересный пример – борьба с кражами. «Чтобы оформить кражу, нужно найти закупочную цену на украденный товар. И этой информации у директоров магазинов нет, потому что она закрыта, важная коммерческая тайна. Из-за этого было сложно завести на злоумышленника административное или уголовное дело, то есть кражи часто оставались безнаказанными», – рассказывает Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов и аналитики, X5 Tech.
Задачу пытались решить, но постоянно откладывали, потому что нужно было проводить аналитику, интегрировать торговую программу с SAP ERP, все это долго. Все это тянулось ровно до тех пор, пока ИТ-отдел не сконструировал робота. Он по заявке сам искал в ERP нужные накладные, выдавал их менеджеру ИБ. Теперь ничто не мешало завести дело.
«И мы тут же увидели, что поток краж значительно увеличился, – отмечает парадокс Юрий Пчелин. – Стало ясно, что раньше многие торговые точки их просто не регистрировали, потому что это было сложно для директора любого магазина. После этого мы поняли, что наша служба поддержки создает сервисы. Возможно, в будущем такая служба вообще отомрет, и вместо поддержки у нас будут роботизаторы или автоматизаторы».
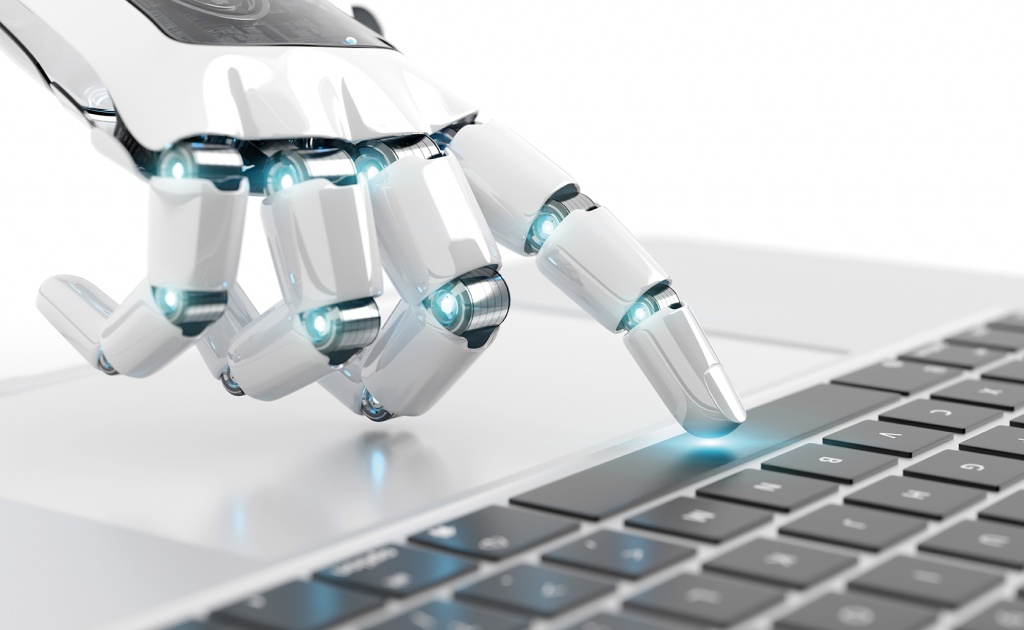
Фронт работ
Прогрессивные компании переосмысливают свой бизнес с внедрением интеллектуальной автоматизации и цифровой рабочей силы, так как появляются новые возможности в сфере контроля и отчетности. «Роботы могут собирать и обобщать данные в реальном времени, что не под силу человеку. Также есть задачи, которые просто невыгодны предприятию в режиме ручной обработки, но могут приносить выгоду, если выполняются цифровой рабочей силой, где одна единица выполненной работы от общего объема практически ничего не стоит, – акцентирует Кристиан Уэллс. – Основные затраты идут на конфигурацию и внедрение бизнес-процесса, а выполнение в продуктивной среде автономно».
На какие задачи лучше всего поставить программных роботов? Они намного лучше человека справятся с ежедневными рутинными работами, которые не требуют сложных действий или решений, но утомительны и трудозатратны. Хороши роботы и там, где речь идет о тысячах строчек, которые надо проверить. Люди начнут ошибаться очень быстро, RPA не будет ошибаться совсем. Ввод и обработка данных, генерация отчетов, распознавание и классификация документов, а также работа с внешними системами через API или интерфейс – вот идеальные кандидаты на роботизацию.
Цифровая рабочая сила прекрасно справляется с монотонными действиями, которые неэффективны в ручном режиме. В случае сверки данных между системами можно быстро идентифицировать случайные или намеренные ошибки. «Известны случаи открытия кредитов в разных отделениях банка под один и тот же паспорт в течение дня, а системы синхронизируются только ночью, поэтому казус замечают не сразу, – говорит Кристиан Уэллс. – Роботы могут постоянно опрашивать разрозненные системы и выявлять несоответствие данных».
Создание отчетов и выгрузки данных для дальнейшего анализа из разных систем – тоже хорошая работа для робота. Руководители организаций и департаментов принимают решения, базируясь на данных. Правильное решение, основанное на ложных данных, не принесет желаемого результата. «Доклады и отчеты, подготовленные в ручном режиме раз в месяц, устаревают еще до публикации. Роботы могут готовить отчеты несколько раз за день, предоставляя актуальную информацию и динамику изменений для принятия решений», – подчеркивает Кристиан Уэллс.
Как это ни странно, но даже нерегулярный процесс подходит для того, чтобы его «скормить» RPA. Своим опытом поделилась компания Mary Kay, выступая в секции ритейла на ноябрьском CNews Forum. Нерегулярный процесс возникает редко, зачем же его автоматизировать? Чтобы избежать затрат, которые выражаются в сотне человекочасов. Mary Kay продает билеты на корпоративные массовые мероприятия для своих партнеров-консультантов. Наступившие по всей Европе карантины потребовали от компании в срочном порядке вернуть покупателям деньги за билеты. «Вернуть деньги можно, но это нужно делать вручную. А когда речь идет о десятках тысяч билетов, это превращается в кошмар для людей, которые будут заниматься такими возвратами», – объясняет Илья Садовенко, директор по информационным технологиям Mary Kay Europe. Выходом стал софтверный робот. «Мы создали его буквально за несколько часов, – подчеркивает Илья Садовенко, – и он начал возвращать билеты. Вот прекрасный пример того, как применение роботизации в нерегулярном процессе позволил сохранить огромное количество человеческого труда». При этом подобный робот не требует использования специфических интерфейсов или коннекторов, может быть просто адаптирован к другому типу операции и легко переносится между функциями или филиалами.
Не панацея, но лечит
Звучит все это замечательно, но мы заметили вот что: некоторые ритейлеры, внедрявшие у себя RPA, потом высказывались в том духе, что технология закрепляет бардак в информационных системах, препятствует их изменению в сторону большей упорядоченности. Вместо глобальной модификации попросту ставятся «заплатки». «При правильном подходе RPA, наоборот, является драйвером цифровизации и «выпрямления» процессов», – не соглашается с этим мнением Сергей Ложкин.
По его мнению, RPA – это как раз возможность пересмотреть, упорядочить, оптимизировать и ускорить процессы, отказаться от чего-либо или внести что-то новое. А вот использование RPA в качестве «заплаток» себя глобально не окупит. Да, оно локально может помочь, но, по сути, это и есть тот «старый» подход, который мы видели в самом начале развития роботизации.
Бардак вполне возможен, считают другие эксперты. Но не роботы тому виной. «Это происходит, когда организация, которая взялась внедрять RPA, не имеет достаточной квалификации в разработке роботов, – объясняет Кирилл Филенков. – Перед разработкой критически важно провести анализ текущих бизнес-процессов и не просто задокументировать текущее положение дел, но и предложить пути оптимизации производства. Наша компания и наши партнеры обычно тратят до 70% трудозатрат на анализ и доработку бизнес-процессов и только 30% на разработку, тестирование, внедрение. Именно поэтому важно заказывать внедрение первых роботов у проверенных вендоров, а не пытаться построить отдел RPA самостоятельно».
Мы попробовали найти другие минусы технологии. Возможно, ее непросто внедрить? «На самом деле создать программного робота намного проще, чем автоматизировать бизнес-процесс на любом из языков программирования. Это один из важнейших плюсов RPA», – парирует Кирилл Филенков.
В идеале поддерживать программных роботов способен даже сотрудник без глубоких знаний программирования. Обычно сложности возникают на этапе анализа бизнес-процесса и создания робота. Качественный робот должен работать всегда, чтобы ни случилось. Зависло приложение, перезагрузился компьютер, не работает система – неважно. Робот должен попытаться сделать все, что от него зависит, чтобы выполнить процесс. Если процесс выполнить не удается, надо сообщить сотруднику о сбое посредством электронной почты, смс или даже звонка на телефон. «Из всего вышеперечисленного следует, что для создания качественных роботов на этапе анализа нужно проработать максимально возможное число вариантов развития событий при выполнении бизнес-процесса, а на этапе разработки предусмотреть максимально возможное число отказов, вплоть до удара молнии в сервер во время землетрясения, и это не шутка, – перечисляет Кирилл Филенков. – Поэтому процесс, который изначально выглядел, как обычная последовательность действий пользователя, состоящий из нажатия десятка клавиш да пары кнопок, в конечном итоге выливается в масштабного робота с сотней возможных действий на разных этапах процесса».
Сложности внедрения технологии RPA могут появиться при отсутствии надлежащей экспертизы вендора. «Иногда к роботизации подходят как к проекту по внедрению ПО, – говорит Кристиан Уэллс. – Это коренным образом неверно. Внедрение цифровой рабочей силы – это проект по внедрению организационных изменений. Интеллектуальная автоматизация должна быть рассмотрена с точки зрения цифрового аутсорса. Помимо технологической составляющей нужно подумать о контроле и управлении, поиске процессов, пересмотре бизнес-операций и сотрудничестве между человеческими и цифровыми работниками. А когда ожидания клиента от роботизации правильно скоординированы, мы видим масштабирование и окупаемость практики в первый год. Помимо финансовой выгоды у наших клиентов улучшается опыт клиентов и сотрудников, а меньшее количество ошибок снижает риски штрафов от регулятора».
Любая технология, как любой инструмент, должна применяться по месту назначения. Роботы не являются панацеей, а лишь одним из инструментов. «Я встречал случай, когда компания хотела переложить все свои системы на роботов. Естественно, это невозможно, – говорит Сергей Ложкин. – RPA-технология занимает свое место в линейке, она должна встать на обеспечение ИТ-службы, и ИТ-служба должна поддерживать эти инициативы. Иначе все просто завянет. Поэтому минусом я считаю то, что эта технология может показаться легкой и не требующей серьезного отношения, а подходить к ней нужно так же, как и к внедрению большого классического проекта – со всей аккуратностью, с подготовкой и обучением».
Недоверчивое человечество
Однако мы все же постарались и нашли слабое место невидимых роботов. Ахиллесовой пятой оказался, как обычно, человек. Сотрудники не любят, когда их рабочие места уходят бездушной машине, и стараются что-нибудь незаметно сломать. «Такие работники могут скрывать какие-то потенциально интересные для роботизации бизнес-процессы, оказывать пассивное сопротивление сотрудникам, внедряющим RPA-решения, – рассказывает Светлана Анисимова, генеральный директор Uipath в России и странах СНГ. – Этот вопрос снимается просветительской работой, объясняющей, что RPA направлена на повышение эффективности существующих кадров, а не на их замену».
Происходит все это так: руководство заручилось поддержкой, оповестило все уровни организации об инициативе по роботизации и разослало опросник. А департаменты и отделы ответили, что кандидатов на роботизацию пока нет, но когда появятся, обязательно сообщат. Несомненно, в организации есть сотрудники, чья работа не может быть автоматизирована. Но более вероятно, что тут компания имеет дело с безразличием к инициативе по роботизации, а может быть, и с тихим саботажем.
«В одной из организаций, наименование которой я не буду называть из-за соображений конфиденциальности, наша компания создавала робота, который выдавал справки 2-НДФЛ по запросу коллег, – вспоминает подобный случай Кирилл Филенков. – Данный робот брал заявку, формировал справку, заверял ЭЦП и отправлял коллегам. Изначально задачей занимался целый отдел, число сотрудников которого приближалось к сотне. Перед внедрением технологии заказчик захотел «устроить соревнование»: запустить робота вместе с сотрудниками и посмотреть, кто больше справок сформирует. Разумеется, у сотрудников не было шансов, они это понимали. Что они сделали? Не давали роботу задачи! Как только появлялись заявки, их сразу же разбирали люди, даже если были очень загружены работой и не справлялись».
Выглядит это как попытка соревноваться в скорости с автомобилем. С одной стороны, мы все проиграем, а с другой – никого сейчас почему-то не беспокоит, что он бежит намного медленнее феррари. На самом деле важно понимать, что RPA не конкурент человеку. Он лишь помощник, который позволит освободить сотрудников от рутины. «С внедрением RPA рабочих мест станет даже больше, – полагает Кирилл Филенков. – Процесс смены профессий сопровождает человечество по мере его развития. К примеру, после изобретения автомобиля практически полностью исчезли профессии извозчик, конюх и другие. Стало ли рабочих мест меньше? Конечно же, нет! Робот даст новый виток развитию технологий, который сократит рутинные задачи и создаст целый ряд новых профессий».
Будут ли сотрудники ненавидеть робота, зависит и от того, как начальство представит грядущий проект. «Был случай, как раз в одной торговой сети, когда собственник пришел к главному бухгалтеру и сказал, что сейчас мы внедрим роботов, а позже вас всех сократим, – рассказывает Сергей Ложкин. – Он получил массу саботажа, и проект в целом не масштабировался. Да, было запущено несколько роботов, но поскольку бухгалтерия была против, технология в компании не «полетела». Здесь очень важен правильный посыл. RPA, на наш взгляд, не приводит к увольнению людей, она приводит к тому, что люди начинают заниматься другой работой, более осмысленной».
«Чтобы продвигать роботизацию снизу вверх, необходимо объяснить выгоду и плюсы участия в роботизации, – советует Кристиан Уэллс. – Возможно, есть и проблемы с выносом на общее обозрение деятельности отдела. В данной ситуации поможет поддержка высшего руководства. Руководители не должны бояться показать свою внутреннюю кухню. Обязательно разработайте стратегию реакционного действия, она поможет справиться со страхом сотрудничества».
Внедрение роботизации возможно после того, как пользу от подобных сервисов осознают на уровне высших руководящих позиций. Руководство должно определить, какие функции сотрудников уже сейчас можно отдать роботам. «Не стоит экономить на наращивании компетенций по RPA, нужно вкладываться в собственных специалистов по поддержке и развитию решений, – говорит Александр Садыков. – Необходимо внимательно относиться к массовому использованию RPA-технологий в бизнес-процессах компании, но сначала нужно научиться управлять процессом внедрения. По этой причине должна быть единая точка входа – ответственный сотрудник, который будет драйвить этот процесс и добиваться результата».
Тем же, кто очень хочет непременно доказать беспомощность роботов, придется закопаться в бумаге. Ведь именно бумажный документооборот является одним из важнейших ограничений применения RPA. «Также данная технология слабо применима в областях, где принятие решений сложно поддается алгоритмизации, – добавляет Кирилл Филенков. – Роботы оперируют булевой алгеброй, если процесс можно описать как последовательность решений «да/нет», то процесс роботизируем. Если такое невозможно, то и RPA-технологии слабо применимы».
Помимо саботажа на местах проблема может возникнуть и с сотрудниками безопасности. «Если сравнивать полноценную разработку и внедрение программных роботов для решения одной и той же бизнес-задачи, то RPA, несомненно, будет более простым и экономически выгодным решением. Однако, как и у любой технологии, у RPA есть моменты, на которые стоит сразу обращать внимание. Самый распространенный – это вопросы информационной безопасности, – предупреждает Светлана Анисимова. – Программные роботы интегрируются во все ИТ-системы компании, в том числе и в унаследованное (legacy) обеспечение. Придется провести много согласований со службами ИБ, которые должны разработать и утвердить четкие схемы взаимодействия с роботами, очертить круг их полномочий и доступов».
Для успешного внедрения RPA необходимо, чтобы у компании была четкая стратегия роботизации с четко прописанными целями и задачами. Реализация и масштабирование RPA-технологии требует наличия в компании специализированного центра компетенций и затраты определенных ресурсов для его работы.
Нужно понимать, что для внедрения RPA пригодны не все процессы, а лишь регулярные, хорошо описанные, с четкой бизнес-логикой. «Главная задача – найти и выявить процессы, потенциально пригодные для роботизации, – считает Светлана Анисимова. – Изменяющиеся интерфейсы, которые ранее требовали доработок реализованных схем роботизированных процессов, сегодня уже не являются какой-то сложностью при роботизации. У вендоров уже появились решения, которые позволяют создавать автотесты для роботов и запускать все тесты как вручную, так и по наступлении какого-нибудь события».
Ума нет, но будет
Наверное, нужно обозначить, что RPA – вовсе не искусственный интеллект. В отличие от него это «тупая» автоматизация, и воспринимать ее нужно соответствующим образом. Это значит, что софтверные роботы не могут адаптироваться к внезапно возникающим и неизвестным ранее обстоятельствам, у них нет механизма принятия решений.
А вот что у них есть в отличие от искусственного интеллекта – это хороший опыт по внедрению и сравнительно быстрая окупаемость. Как заверили нас в компании Blue Prism, в среднем программные роботы окупаются в первый же год. «Все очень просто, – помогает справиться с калькуляцией Кирилл Филенков. – Считаем фонд заработной платы сотрудников, которых заменил робот. Считаем стоимость лицензий. Дельта – экономия за счет внедрения средств RPA. Для каждой организации данные показатели будут свои. Для более быстрой окупаемости следует выбирать бизнес-процессы, в которых задействовано большое число сотрудников, выполняющих рутинные и однообразные задачи. В среднем окупаемость варьируется от одного года до нескольких лет. Бывают и исключения».
«При масштабе роботы могут окупаться за несколько месяцев, но только когда найдены процессы, посчитаны экономические эффекты и план действия реализован. Тут не просто программный робот, здесь система изменения процессов, создание служб поддержки, обучение людей. Роботизация – этот проект, который необходимо готовить. Когда речь идет о масштабе, когда подготовлена RPA-платформа, когда есть центр компетенций, вот тогда роботы могут окупаться в считаные месяцы», – уверен Сергей Ложкин.
Есть и совсем оптимистичные прогнозы. «Одно из важных преимуществ RPA – то, что технология достаточно быстро окупается. В среднем это период около трех месяцев после внедрения, но у нас есть и кейсы, когда роботизация в компании окупилась за три недели», – говорит Светлана Анисимова, – В целом экономия трудозатрат компаний на рутинные процессы после внедрения роботизации может достигать 70%».
Несмотря на то что пока RPA совсем не искусственный интеллект, он будет развиваться, возможно, в ту же сторону, что ИИ. Вселенная роботизации будет расти и становиться более понятной и дружественной по отношению к бизнесу, связывая людей, системы и роботов в одну эффективную и гибкую функциональную единицу.
«RPA становятся все более интеллектуальными, сложность принятия решений возрастает. Однако, на мой взгляд, пока не будет создан искусственный интеллект, прорывов в данной области ждать не стоит», – комментирует Кирилл Филенков.
«Сейчас это классические «тупые» роботы, которые работают по заданному алгоритму, но все меняется, – рассуждает Сергей Ложкин. – Постепенно будут развиваться (и они уже есть) smart-роботы, когда разного рода нейронные сети добавляются к роботу и, таким образом, появляется возможность покрыть большее количество процессов. Платформы начинают захватывать дополнительные области, такие как BPM, например. Будет больше наработано кейсов, будет уход в отраслевую специфику и специализацию и будет происходить демократизация цены». Семантическая автоматизация станет для RPA гигантским скачком вперед. Это ускорит и упростит разработку автоматизации, повысит надежность роботизации и расширит возможности ее использования в бизнесе и промышленности.
«Мы верим, что в ближайшем будущем программные роботы смогут обучаться в той же парадигме, что и человек. Смогут находить сходства и проводить аналогии, делая выводы о том, как нужно правильно выполнять задачи, – говорит Светлана Анисимова. – Это откроет новые возможности для автоматизации с помощью роботов, которые смогут понимать более высокие уровни абстракции данных в документах, приложениях и процессах, которые они используют».
Проприетарные VS опенсорсные RPA
Опенсорсные решения по RPA сейчас стоят намного ближе к автоматизации на языке программирования, чем к роботизации, однако не требуют затрат на лицензии. Обычно выбор довольно прост.
Если организация готова платить за лицензии RPA, фонд заработной платы сотрудников, которых заменит робот, превышает зарплаты на лицензии – стоит выбирать проприетарный софт. Это позволит сократить трудозатраты на создание и поддержку роботов, а также гарантирует поддержку вендора в дальнейшем. Также проприетарный софт следует применять при автоматизации в одном бизнес-процессе сразу нескольких технологий: сайт, приложение, база данных, почта, офисный пакет и др. Проприетарный софт позволит использовать один и тот же подход к роботизации разных программ с использованием уже разработанных средств.
При использовании опенсорс придется создавать фреймворки для каждого приложения в отдельности. Несмотря на явные преимущества проприетарного софта, опенсорс также имеет свою область применения: обычно его используют при автоматизации работы браузера, а также Rest API. Данные задачи решаются уже довольно давно, и для их автоматизации существует целый ряд хорошо задокументированных библиотек.
По мнению компании Bell Integrator
Риски и ограничения RPA-решений
· Любые изменения в работе системы неизбежно ведут к необходимости их поддерживать на уровне роботов, что влечет дополнительные затраты на поддержку решения по роботизации.
· Невозможность применения RPA при отсутствии алгоритма работы. Роботизировать можно только стабильные управляемые процессы.
· Обязательное наличие «плана Б»: как поддержать работу бизнеса в случае отказа или вынужденной доработки роботизированного процесса.
· Необходимость мониторинга и контроля процесса роботизации со стороны человека, а также назначение ответственного лица для решения потенциальных проблем. Доверяйте процессы, связанные с работой роботов, только проверенным людям и организациям, которые смогут обеспечить безопасность выполнения ваших бизнес-задач после внедрения RPA. Это позволит существенно снизить затраты на аналитику и разработку, а также даст возможность гарантийной поддержки в случае возникновения серьезных проблем с роботами.
· Информационная безопасность: роботы должны работать в закрытом программном контуре, чтобы не подвергаться воздействию вредоносных систем.
По версии компании «Инфосистемы Джет»
[~DETAIL_TEXT] =>
Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Так и представляешь себе стаи плоских «таблеток», которые сосредоточенно тащат на себе башни из палет по огромным складам, не ошибаются, не сталкиваются, а главное – не увольняются. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах.
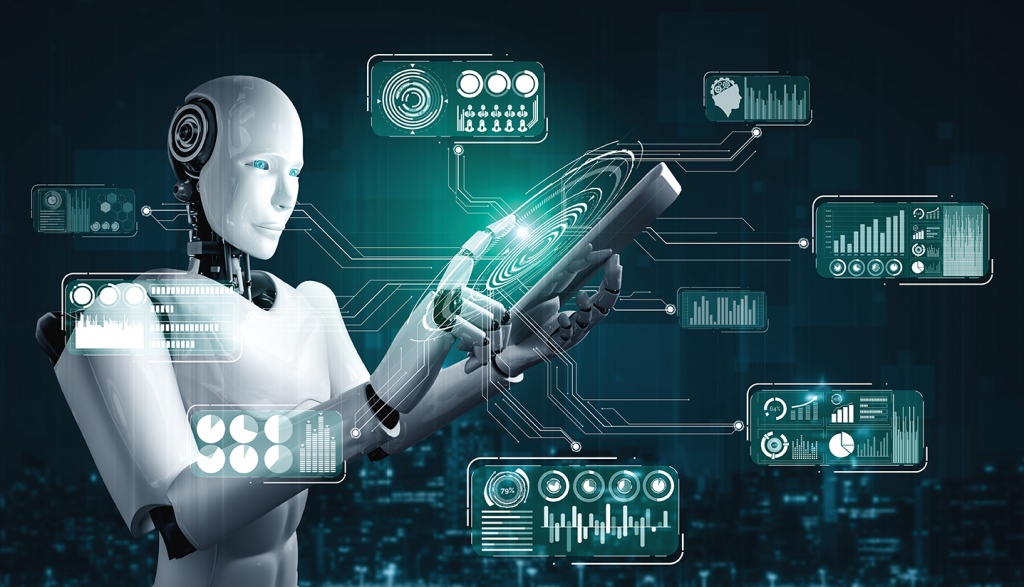
Софтверные роботы, или RPA (robotic process automation), умеют работать с пользовательским интерфейсом и применяются для автоматизации бизнес-процессов. Зачем нужно умение «видеть» кнопки в программах и нажимать на них? Чтобы имитировать деятельность человека: заполнять бесчисленные поля в табличках, носить данные из одного документа в другой, находить в ERP компании и отсылать клиентам нужные сведения, миллион раз проставлять галочки. Вы увидите, как курсор сам двигается по экрану, открывая нужные приложения. А вот робота, который это делает, увидеть затруднительно.
Применять такую технологию можно везде: от бухгалтерии до ИТ-отдела. Роботы работают с любой системой: могут отслеживать работу ИТ-инфраструктуры, оформлять больничные, обрабатывать заявки на кредит. Даже наказывать воришек! Как это может сделать невидимый робот, который не выполняет ничего тяжелее нажатия одной клавиши, рассказывали на осенней конференции Tadviser представители X5 Retail Group. Мы увидим детали этого кейса чуть позже, а пока обсудим вот что: почему такая отличная технология стала набирать популярность только сейчас? Ведь RPA – не самая горячая новинка. Они появились еще в начале двухтысячных.
За это время начали говорить и про искусственный интеллект, и про BPM-автоматизацию процессов. Программные роботы в эту тусовку не вписались. Но если судить по их функционалу, очевидно, что должно было бы быть наоборот. Набор технологий, который позволяет заменить сотрудников компании роботами, – звучит как мечта. Если задачи выполняются качественно и в срок, то для бизнеса по большому счету нет разницы, работает ли над задачами штат сотрудников или программный робот. Бизнес всегда будет выбирать решения, которые позволят делать дела быстрее, качественнее и за меньшие деньги. «В теории RPA-технологии должны предоставить бизнесу данные преимущества, однако не все так гладко, – делится своими соображениями Кирилл Филенков, руководитель направления роботизации компании Bell Integrator. – Во-первых, подавляющее большинство средств RPA платные, что означает ежегодные расходы на лицензии. С учетом курса доллара и уровня заработных плат в нашей стране порой проще нанять целый штат низкооплачиваемых сотрудников для рутинных задач, чем создавать и поддерживать роботов. Во-вторых, в России до сих пор распространен бумажный документооборот, с которым роботизация попросту не справляется. Любая автоматизация закончится тогда, когда заявления нужно писать от руки и согласовывать в «кабинете номер 68 в соседнем корпусе в порядке живой очереди». По его словам, есть еще ряд причин, препятствующих развитию RPA в нашей стране, однако для понимания картины приведенных выше более чем достаточно.
Золотые программисты
У истоков развития RPA стояла компания Blue Prism. Мы обратились к ней с вопросом: что же изменилось сейчас? На множестве профильных конференций с самого начала года один ритейлер за другим объявляют темой своего выступления этих самых роботов и рассказывают, как здорово их внедрили. Появился какой-то свежий взгляд на старое решение? «Компания Blue Prism была основана в 2001 году, и первое решение по автоматизации бизнес-процессов было выпущено в 2003 году, – предлагает заглянуть в прошлое Кристиан Уэллс (Christian Wells), эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России. – В Россию Blue Prism пришла в 2017 году, предварительно наработав опыт по роботизации в Европе и США. Сейчас российский рынок находится в состоянии активного развития и внедрения нашей технологии. Компания и продукт зрелые, но в России о нас действительно узнали сравнительно недавно. Нас начали обсуждать и внедрять нашу технологию особенно интенсивно в этом году в результате перезагрузки российского бизнеса».
Мы все знаем, что обеспечило эту внезапную перезагрузку. Становится даже немного забавно наблюдать, как все те старые веяния, о которых раньше было приятно поговорить, но так не хотелось пользоваться на практике, вроде перевода сотрудников на удаленную работу, сейчас не только стали реальностью, но и понравились бизнесу.
Очные согласования документов стали практически невозможны. Компании одна за другой начали меняться в сторону цифровизации. «Как следствие, разработчиков, да и ИТ-специалистов в целом, не хватает, заработная плата хоть и не сильно, не во всех областях, но начала расти. Следовательно, все больше бизнес-процессов становится возможно роботизировать, RPA становится все более выгодным, – поясняет Кирилл Филенков. – Однако, на мой взгляд, говорить о каком-то прорыве в данной области или «свежем взгляде» преждевременно. Просто современные реалии изменились. RPA все чаще воспринимается как инструмент, позволяющий повысить качество бизнес-процессов и сократить фонд заработной платы, а не как «хипстерская новинка».
Еще одна причина, почему мы так долго запрягали, лежит в неожиданной области. Дело в том, что в России очень распространены решения на платформе 1С, которые многое позволяют дорабатывать своими силами. «В отличие, например, от Запада, где любая доработка стоит больших денег, и поэтому местные компании задумываются, что же делать, и приходят, например, к RPA. Плюс на Западе более высокие зарплаты и, соответственно, экономический эффект считается быстрее, а бизнесу в этом случае более очевидно, зачем вообще что-то роботизировать», – говорит Сергей Ложкин, исполнительный директор компании PIX Robotics.
Теперь эту же боль почувствовали и отечественные управленцы. Заработные платы в мире ИТ действительно стали такими, что как только директор хочет внедрить какую-то непопулярную среди сотрудников программу вроде контроля за работой удаленных сотрудников, начальник ИТ-отдела сразу предупреждает топ-менеджеров: «Зарплаты с весны в этой сфере выросли в полтора раза. Если кто-то уйдет, нового на те же деньги найти будет трудно. Давайте оставим эксперименты на потом».
Недавно всех потрясла компания Cisco, которая предложила российскому разработчику не только вид на жительство, помощь с переездом за границу и зарплату $20 тыс. в месяц, но и приветственный бонус $500 тыс. Станислав Иодковский, директор ИТ-компании «ИВКС» (IVA Technologies), обнародовавший эти цифры, пожаловался, что таким образом у них увели генерального конструктора. В подобных условиях поневоле задумаешься о технологии, которая не перейдет завтра на сторону конкурентов и не вывернет карманы собственника слишком сильно.
«Два года пандемии преподали бизнесу новые и болезненные уроки. Если до пандемии от нас отмахивались со словами, что и вручную прекрасно работают и что если надо, то без проблем наймут больший штат сотрудников, то теперь к нашему предложению прислушиваются, – рассказывает Кристиан Уэллс. – То, что все воспринимали как должное, постоянное и обыденное, оказалось весьма шатким и хрупким. Мы предоставляем надежный фундамент для бизнеса и облегчаем зависимость от обычных сотрудников. Бизнес получает гибкость и может фокусироваться на привлечении лучших сотрудников и экспертов, а не заниматься массовым наймом. От наших клиентов мы знаем, что на данный момент на рынке ощущается дефицит хороших кадров, и прогнозы на будущее неутешительные».
Роботизаторы не дремлют
В доковидные времена применение RPA подчас не только не снижало, а, наоборот, повышало стоимость производства. Разумеется, в таких реалиях не о каком массовом внедрении RPA и речи быть не могло. «Конечно, сказать, что RPA не применялось вовсе, будет некорректно, но долгие годы данная технология оставалась в нашей стране узкоспециализированной и применялась точечно, по необходимости», – вспоминает Кирилл Филенков.
Поначалу владельцы компаний не поняли даже концепции решения. «ИТ-службы считали, что это просто системы тестирования или кликеры, – говорит Сергей Ложкин, – но зрелая RPA-платформа – это не только кликеры, но и система оркестрации (централизованного управления), и smart-роботы, и активности по интеграциям с системами, и самое главное, это накопленный опыт эффективного использования роботов. Компании учатся друг у друга и таким образом проникаются темой RPA все больше».
Не было четкого видения того, как именно программные роботы смогут приносить выгоду предприятию. Было слишком много ограничений в способностях самих роботов. «Наш мир наполнен неструктурированными данными, а боты требуют четко структурированную информацию. Интеллектуальная автоматизация на базе цифровых сотрудников Blue Prism решила эту проблему путем когнитивных умений роботов на базе ИИ и машинного обучения. Наши роботы могут работать с неструктурированными данными, что убирает ограничения в работе с документами, человеческим общением и принятием решений на базе наработанного опыта», – рассказывает Кристиан Уэллс.
RPA в России начала внедряться в 2018 году. «Мы были на заре развития этой технологии. Она «прорастает» каскадно: вначале идут proof of concept, затем пилоты, и эти этапы каждая компания проходит по-своему, – рассуждает Александр Садыков, руководитель департамента контроля качества ИТ-компании «Инфосистемы Джет», ведущий специалист по RPA. – Бывает такое, что компания начала proof of concept, а ИТ-служба не оказала поддержки. Потом проходит год-два, и компания снова возвращается к теме RPA. Технология полностью переосмысливается, и это частая практика».
Бывает и так, что компания решила – программные роботы не нужны, но через какое-то время вдруг видит, что RPA внедряют конкуренты. Тогда руководство снова поднимет этот вопрос. Сейчас увеличилось количество успешных кейсов, они накапливаются, и это приводит к тому, что об RPA-технологии говорят больше. «Год назад и даже два года назад компании уже внедряли роботов, но только сейчас пошли их тиражи, – комментирует Александр Садыков. – От пилотного проекта сложно получить экономический эффект, а когда тираж роботов идет успешно, то компании об этом начинают рапортовать. Мы наблюдаем ситуацию, когда о тиражных историях уже есть что рассказать».
И вот сейчас настало время рассмотреть кейс X5 Retail Group. Здесь с помощью RPA закрывают вопросы интеграции между системами, делают простые сервисы самообслуживания, чтобы не дожидаться вечно занятых сложными проблемами программистов и не копить технические долги. Но самый интересный пример – борьба с кражами. «Чтобы оформить кражу, нужно найти закупочную цену на украденный товар. И этой информации у директоров магазинов нет, потому что она закрыта, важная коммерческая тайна. Из-за этого было сложно завести на злоумышленника административное или уголовное дело, то есть кражи часто оставались безнаказанными», – рассказывает Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов и аналитики, X5 Tech.
Задачу пытались решить, но постоянно откладывали, потому что нужно было проводить аналитику, интегрировать торговую программу с SAP ERP, все это долго. Все это тянулось ровно до тех пор, пока ИТ-отдел не сконструировал робота. Он по заявке сам искал в ERP нужные накладные, выдавал их менеджеру ИБ. Теперь ничто не мешало завести дело.
«И мы тут же увидели, что поток краж значительно увеличился, – отмечает парадокс Юрий Пчелин. – Стало ясно, что раньше многие торговые точки их просто не регистрировали, потому что это было сложно для директора любого магазина. После этого мы поняли, что наша служба поддержки создает сервисы. Возможно, в будущем такая служба вообще отомрет, и вместо поддержки у нас будут роботизаторы или автоматизаторы».
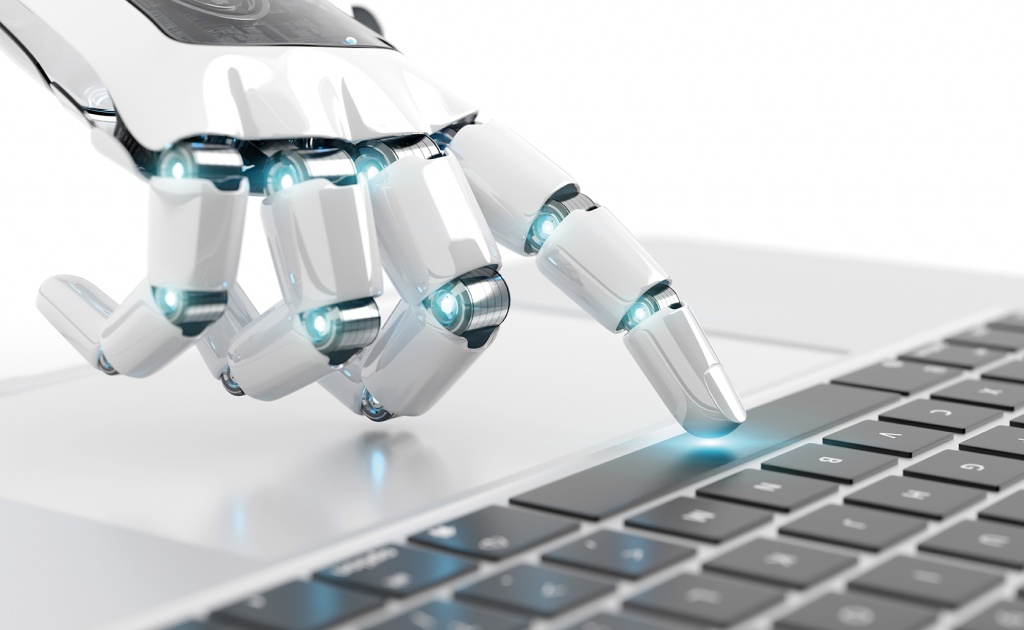
Фронт работ
Прогрессивные компании переосмысливают свой бизнес с внедрением интеллектуальной автоматизации и цифровой рабочей силы, так как появляются новые возможности в сфере контроля и отчетности. «Роботы могут собирать и обобщать данные в реальном времени, что не под силу человеку. Также есть задачи, которые просто невыгодны предприятию в режиме ручной обработки, но могут приносить выгоду, если выполняются цифровой рабочей силой, где одна единица выполненной работы от общего объема практически ничего не стоит, – акцентирует Кристиан Уэллс. – Основные затраты идут на конфигурацию и внедрение бизнес-процесса, а выполнение в продуктивной среде автономно».
На какие задачи лучше всего поставить программных роботов? Они намного лучше человека справятся с ежедневными рутинными работами, которые не требуют сложных действий или решений, но утомительны и трудозатратны. Хороши роботы и там, где речь идет о тысячах строчек, которые надо проверить. Люди начнут ошибаться очень быстро, RPA не будет ошибаться совсем. Ввод и обработка данных, генерация отчетов, распознавание и классификация документов, а также работа с внешними системами через API или интерфейс – вот идеальные кандидаты на роботизацию.
Цифровая рабочая сила прекрасно справляется с монотонными действиями, которые неэффективны в ручном режиме. В случае сверки данных между системами можно быстро идентифицировать случайные или намеренные ошибки. «Известны случаи открытия кредитов в разных отделениях банка под один и тот же паспорт в течение дня, а системы синхронизируются только ночью, поэтому казус замечают не сразу, – говорит Кристиан Уэллс. – Роботы могут постоянно опрашивать разрозненные системы и выявлять несоответствие данных».
Создание отчетов и выгрузки данных для дальнейшего анализа из разных систем – тоже хорошая работа для робота. Руководители организаций и департаментов принимают решения, базируясь на данных. Правильное решение, основанное на ложных данных, не принесет желаемого результата. «Доклады и отчеты, подготовленные в ручном режиме раз в месяц, устаревают еще до публикации. Роботы могут готовить отчеты несколько раз за день, предоставляя актуальную информацию и динамику изменений для принятия решений», – подчеркивает Кристиан Уэллс.
Как это ни странно, но даже нерегулярный процесс подходит для того, чтобы его «скормить» RPA. Своим опытом поделилась компания Mary Kay, выступая в секции ритейла на ноябрьском CNews Forum. Нерегулярный процесс возникает редко, зачем же его автоматизировать? Чтобы избежать затрат, которые выражаются в сотне человекочасов. Mary Kay продает билеты на корпоративные массовые мероприятия для своих партнеров-консультантов. Наступившие по всей Европе карантины потребовали от компании в срочном порядке вернуть покупателям деньги за билеты. «Вернуть деньги можно, но это нужно делать вручную. А когда речь идет о десятках тысяч билетов, это превращается в кошмар для людей, которые будут заниматься такими возвратами», – объясняет Илья Садовенко, директор по информационным технологиям Mary Kay Europe. Выходом стал софтверный робот. «Мы создали его буквально за несколько часов, – подчеркивает Илья Садовенко, – и он начал возвращать билеты. Вот прекрасный пример того, как применение роботизации в нерегулярном процессе позволил сохранить огромное количество человеческого труда». При этом подобный робот не требует использования специфических интерфейсов или коннекторов, может быть просто адаптирован к другому типу операции и легко переносится между функциями или филиалами.
Не панацея, но лечит
Звучит все это замечательно, но мы заметили вот что: некоторые ритейлеры, внедрявшие у себя RPA, потом высказывались в том духе, что технология закрепляет бардак в информационных системах, препятствует их изменению в сторону большей упорядоченности. Вместо глобальной модификации попросту ставятся «заплатки». «При правильном подходе RPA, наоборот, является драйвером цифровизации и «выпрямления» процессов», – не соглашается с этим мнением Сергей Ложкин.
По его мнению, RPA – это как раз возможность пересмотреть, упорядочить, оптимизировать и ускорить процессы, отказаться от чего-либо или внести что-то новое. А вот использование RPA в качестве «заплаток» себя глобально не окупит. Да, оно локально может помочь, но, по сути, это и есть тот «старый» подход, который мы видели в самом начале развития роботизации.
Бардак вполне возможен, считают другие эксперты. Но не роботы тому виной. «Это происходит, когда организация, которая взялась внедрять RPA, не имеет достаточной квалификации в разработке роботов, – объясняет Кирилл Филенков. – Перед разработкой критически важно провести анализ текущих бизнес-процессов и не просто задокументировать текущее положение дел, но и предложить пути оптимизации производства. Наша компания и наши партнеры обычно тратят до 70% трудозатрат на анализ и доработку бизнес-процессов и только 30% на разработку, тестирование, внедрение. Именно поэтому важно заказывать внедрение первых роботов у проверенных вендоров, а не пытаться построить отдел RPA самостоятельно».
Мы попробовали найти другие минусы технологии. Возможно, ее непросто внедрить? «На самом деле создать программного робота намного проще, чем автоматизировать бизнес-процесс на любом из языков программирования. Это один из важнейших плюсов RPA», – парирует Кирилл Филенков.
В идеале поддерживать программных роботов способен даже сотрудник без глубоких знаний программирования. Обычно сложности возникают на этапе анализа бизнес-процесса и создания робота. Качественный робот должен работать всегда, чтобы ни случилось. Зависло приложение, перезагрузился компьютер, не работает система – неважно. Робот должен попытаться сделать все, что от него зависит, чтобы выполнить процесс. Если процесс выполнить не удается, надо сообщить сотруднику о сбое посредством электронной почты, смс или даже звонка на телефон. «Из всего вышеперечисленного следует, что для создания качественных роботов на этапе анализа нужно проработать максимально возможное число вариантов развития событий при выполнении бизнес-процесса, а на этапе разработки предусмотреть максимально возможное число отказов, вплоть до удара молнии в сервер во время землетрясения, и это не шутка, – перечисляет Кирилл Филенков. – Поэтому процесс, который изначально выглядел, как обычная последовательность действий пользователя, состоящий из нажатия десятка клавиш да пары кнопок, в конечном итоге выливается в масштабного робота с сотней возможных действий на разных этапах процесса».
Сложности внедрения технологии RPA могут появиться при отсутствии надлежащей экспертизы вендора. «Иногда к роботизации подходят как к проекту по внедрению ПО, – говорит Кристиан Уэллс. – Это коренным образом неверно. Внедрение цифровой рабочей силы – это проект по внедрению организационных изменений. Интеллектуальная автоматизация должна быть рассмотрена с точки зрения цифрового аутсорса. Помимо технологической составляющей нужно подумать о контроле и управлении, поиске процессов, пересмотре бизнес-операций и сотрудничестве между человеческими и цифровыми работниками. А когда ожидания клиента от роботизации правильно скоординированы, мы видим масштабирование и окупаемость практики в первый год. Помимо финансовой выгоды у наших клиентов улучшается опыт клиентов и сотрудников, а меньшее количество ошибок снижает риски штрафов от регулятора».
Любая технология, как любой инструмент, должна применяться по месту назначения. Роботы не являются панацеей, а лишь одним из инструментов. «Я встречал случай, когда компания хотела переложить все свои системы на роботов. Естественно, это невозможно, – говорит Сергей Ложкин. – RPA-технология занимает свое место в линейке, она должна встать на обеспечение ИТ-службы, и ИТ-служба должна поддерживать эти инициативы. Иначе все просто завянет. Поэтому минусом я считаю то, что эта технология может показаться легкой и не требующей серьезного отношения, а подходить к ней нужно так же, как и к внедрению большого классического проекта – со всей аккуратностью, с подготовкой и обучением».
Недоверчивое человечество
Однако мы все же постарались и нашли слабое место невидимых роботов. Ахиллесовой пятой оказался, как обычно, человек. Сотрудники не любят, когда их рабочие места уходят бездушной машине, и стараются что-нибудь незаметно сломать. «Такие работники могут скрывать какие-то потенциально интересные для роботизации бизнес-процессы, оказывать пассивное сопротивление сотрудникам, внедряющим RPA-решения, – рассказывает Светлана Анисимова, генеральный директор Uipath в России и странах СНГ. – Этот вопрос снимается просветительской работой, объясняющей, что RPA направлена на повышение эффективности существующих кадров, а не на их замену».
Происходит все это так: руководство заручилось поддержкой, оповестило все уровни организации об инициативе по роботизации и разослало опросник. А департаменты и отделы ответили, что кандидатов на роботизацию пока нет, но когда появятся, обязательно сообщат. Несомненно, в организации есть сотрудники, чья работа не может быть автоматизирована. Но более вероятно, что тут компания имеет дело с безразличием к инициативе по роботизации, а может быть, и с тихим саботажем.
«В одной из организаций, наименование которой я не буду называть из-за соображений конфиденциальности, наша компания создавала робота, который выдавал справки 2-НДФЛ по запросу коллег, – вспоминает подобный случай Кирилл Филенков. – Данный робот брал заявку, формировал справку, заверял ЭЦП и отправлял коллегам. Изначально задачей занимался целый отдел, число сотрудников которого приближалось к сотне. Перед внедрением технологии заказчик захотел «устроить соревнование»: запустить робота вместе с сотрудниками и посмотреть, кто больше справок сформирует. Разумеется, у сотрудников не было шансов, они это понимали. Что они сделали? Не давали роботу задачи! Как только появлялись заявки, их сразу же разбирали люди, даже если были очень загружены работой и не справлялись».
Выглядит это как попытка соревноваться в скорости с автомобилем. С одной стороны, мы все проиграем, а с другой – никого сейчас почему-то не беспокоит, что он бежит намного медленнее феррари. На самом деле важно понимать, что RPA не конкурент человеку. Он лишь помощник, который позволит освободить сотрудников от рутины. «С внедрением RPA рабочих мест станет даже больше, – полагает Кирилл Филенков. – Процесс смены профессий сопровождает человечество по мере его развития. К примеру, после изобретения автомобиля практически полностью исчезли профессии извозчик, конюх и другие. Стало ли рабочих мест меньше? Конечно же, нет! Робот даст новый виток развитию технологий, который сократит рутинные задачи и создаст целый ряд новых профессий».
Будут ли сотрудники ненавидеть робота, зависит и от того, как начальство представит грядущий проект. «Был случай, как раз в одной торговой сети, когда собственник пришел к главному бухгалтеру и сказал, что сейчас мы внедрим роботов, а позже вас всех сократим, – рассказывает Сергей Ложкин. – Он получил массу саботажа, и проект в целом не масштабировался. Да, было запущено несколько роботов, но поскольку бухгалтерия была против, технология в компании не «полетела». Здесь очень важен правильный посыл. RPA, на наш взгляд, не приводит к увольнению людей, она приводит к тому, что люди начинают заниматься другой работой, более осмысленной».
«Чтобы продвигать роботизацию снизу вверх, необходимо объяснить выгоду и плюсы участия в роботизации, – советует Кристиан Уэллс. – Возможно, есть и проблемы с выносом на общее обозрение деятельности отдела. В данной ситуации поможет поддержка высшего руководства. Руководители не должны бояться показать свою внутреннюю кухню. Обязательно разработайте стратегию реакционного действия, она поможет справиться со страхом сотрудничества».
Внедрение роботизации возможно после того, как пользу от подобных сервисов осознают на уровне высших руководящих позиций. Руководство должно определить, какие функции сотрудников уже сейчас можно отдать роботам. «Не стоит экономить на наращивании компетенций по RPA, нужно вкладываться в собственных специалистов по поддержке и развитию решений, – говорит Александр Садыков. – Необходимо внимательно относиться к массовому использованию RPA-технологий в бизнес-процессах компании, но сначала нужно научиться управлять процессом внедрения. По этой причине должна быть единая точка входа – ответственный сотрудник, который будет драйвить этот процесс и добиваться результата».
Тем же, кто очень хочет непременно доказать беспомощность роботов, придется закопаться в бумаге. Ведь именно бумажный документооборот является одним из важнейших ограничений применения RPA. «Также данная технология слабо применима в областях, где принятие решений сложно поддается алгоритмизации, – добавляет Кирилл Филенков. – Роботы оперируют булевой алгеброй, если процесс можно описать как последовательность решений «да/нет», то процесс роботизируем. Если такое невозможно, то и RPA-технологии слабо применимы».
Помимо саботажа на местах проблема может возникнуть и с сотрудниками безопасности. «Если сравнивать полноценную разработку и внедрение программных роботов для решения одной и той же бизнес-задачи, то RPA, несомненно, будет более простым и экономически выгодным решением. Однако, как и у любой технологии, у RPA есть моменты, на которые стоит сразу обращать внимание. Самый распространенный – это вопросы информационной безопасности, – предупреждает Светлана Анисимова. – Программные роботы интегрируются во все ИТ-системы компании, в том числе и в унаследованное (legacy) обеспечение. Придется провести много согласований со службами ИБ, которые должны разработать и утвердить четкие схемы взаимодействия с роботами, очертить круг их полномочий и доступов».
Для успешного внедрения RPA необходимо, чтобы у компании была четкая стратегия роботизации с четко прописанными целями и задачами. Реализация и масштабирование RPA-технологии требует наличия в компании специализированного центра компетенций и затраты определенных ресурсов для его работы.
Нужно понимать, что для внедрения RPA пригодны не все процессы, а лишь регулярные, хорошо описанные, с четкой бизнес-логикой. «Главная задача – найти и выявить процессы, потенциально пригодные для роботизации, – считает Светлана Анисимова. – Изменяющиеся интерфейсы, которые ранее требовали доработок реализованных схем роботизированных процессов, сегодня уже не являются какой-то сложностью при роботизации. У вендоров уже появились решения, которые позволяют создавать автотесты для роботов и запускать все тесты как вручную, так и по наступлении какого-нибудь события».
Ума нет, но будет
Наверное, нужно обозначить, что RPA – вовсе не искусственный интеллект. В отличие от него это «тупая» автоматизация, и воспринимать ее нужно соответствующим образом. Это значит, что софтверные роботы не могут адаптироваться к внезапно возникающим и неизвестным ранее обстоятельствам, у них нет механизма принятия решений.
А вот что у них есть в отличие от искусственного интеллекта – это хороший опыт по внедрению и сравнительно быстрая окупаемость. Как заверили нас в компании Blue Prism, в среднем программные роботы окупаются в первый же год. «Все очень просто, – помогает справиться с калькуляцией Кирилл Филенков. – Считаем фонд заработной платы сотрудников, которых заменил робот. Считаем стоимость лицензий. Дельта – экономия за счет внедрения средств RPA. Для каждой организации данные показатели будут свои. Для более быстрой окупаемости следует выбирать бизнес-процессы, в которых задействовано большое число сотрудников, выполняющих рутинные и однообразные задачи. В среднем окупаемость варьируется от одного года до нескольких лет. Бывают и исключения».
«При масштабе роботы могут окупаться за несколько месяцев, но только когда найдены процессы, посчитаны экономические эффекты и план действия реализован. Тут не просто программный робот, здесь система изменения процессов, создание служб поддержки, обучение людей. Роботизация – этот проект, который необходимо готовить. Когда речь идет о масштабе, когда подготовлена RPA-платформа, когда есть центр компетенций, вот тогда роботы могут окупаться в считаные месяцы», – уверен Сергей Ложкин.
Есть и совсем оптимистичные прогнозы. «Одно из важных преимуществ RPA – то, что технология достаточно быстро окупается. В среднем это период около трех месяцев после внедрения, но у нас есть и кейсы, когда роботизация в компании окупилась за три недели», – говорит Светлана Анисимова, – В целом экономия трудозатрат компаний на рутинные процессы после внедрения роботизации может достигать 70%».
Несмотря на то что пока RPA совсем не искусственный интеллект, он будет развиваться, возможно, в ту же сторону, что ИИ. Вселенная роботизации будет расти и становиться более понятной и дружественной по отношению к бизнесу, связывая людей, системы и роботов в одну эффективную и гибкую функциональную единицу.
«RPA становятся все более интеллектуальными, сложность принятия решений возрастает. Однако, на мой взгляд, пока не будет создан искусственный интеллект, прорывов в данной области ждать не стоит», – комментирует Кирилл Филенков.
«Сейчас это классические «тупые» роботы, которые работают по заданному алгоритму, но все меняется, – рассуждает Сергей Ложкин. – Постепенно будут развиваться (и они уже есть) smart-роботы, когда разного рода нейронные сети добавляются к роботу и, таким образом, появляется возможность покрыть большее количество процессов. Платформы начинают захватывать дополнительные области, такие как BPM, например. Будет больше наработано кейсов, будет уход в отраслевую специфику и специализацию и будет происходить демократизация цены». Семантическая автоматизация станет для RPA гигантским скачком вперед. Это ускорит и упростит разработку автоматизации, повысит надежность роботизации и расширит возможности ее использования в бизнесе и промышленности.
«Мы верим, что в ближайшем будущем программные роботы смогут обучаться в той же парадигме, что и человек. Смогут находить сходства и проводить аналогии, делая выводы о том, как нужно правильно выполнять задачи, – говорит Светлана Анисимова. – Это откроет новые возможности для автоматизации с помощью роботов, которые смогут понимать более высокие уровни абстракции данных в документах, приложениях и процессах, которые они используют».
Проприетарные VS опенсорсные RPA
Опенсорсные решения по RPA сейчас стоят намного ближе к автоматизации на языке программирования, чем к роботизации, однако не требуют затрат на лицензии. Обычно выбор довольно прост.
Если организация готова платить за лицензии RPA, фонд заработной платы сотрудников, которых заменит робот, превышает зарплаты на лицензии – стоит выбирать проприетарный софт. Это позволит сократить трудозатраты на создание и поддержку роботов, а также гарантирует поддержку вендора в дальнейшем. Также проприетарный софт следует применять при автоматизации в одном бизнес-процессе сразу нескольких технологий: сайт, приложение, база данных, почта, офисный пакет и др. Проприетарный софт позволит использовать один и тот же подход к роботизации разных программ с использованием уже разработанных средств.
При использовании опенсорс придется создавать фреймворки для каждого приложения в отдельности. Несмотря на явные преимущества проприетарного софта, опенсорс также имеет свою область применения: обычно его используют при автоматизации работы браузера, а также Rest API. Данные задачи решаются уже довольно давно, и для их автоматизации существует целый ряд хорошо задокументированных библиотек.
По мнению компании Bell Integrator
Риски и ограничения RPA-решений
· Любые изменения в работе системы неизбежно ведут к необходимости их поддерживать на уровне роботов, что влечет дополнительные затраты на поддержку решения по роботизации.
· Невозможность применения RPA при отсутствии алгоритма работы. Роботизировать можно только стабильные управляемые процессы.
· Обязательное наличие «плана Б»: как поддержать работу бизнеса в случае отказа или вынужденной доработки роботизированного процесса.
· Необходимость мониторинга и контроля процесса роботизации со стороны человека, а также назначение ответственного лица для решения потенциальных проблем. Доверяйте процессы, связанные с работой роботов, только проверенным людям и организациям, которые смогут обеспечить безопасность выполнения ваших бизнес-задач после внедрения RPA. Это позволит существенно снизить затраты на аналитику и разработку, а также даст возможность гарантийной поддержки в случае возникновения серьезных проблем с роботами.
· Информационная безопасность: роботы должны работать в закрытом программном контуре, чтобы не подвергаться воздействию вредоносных систем.
По версии компании «Инфосистемы Джет»
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах. [~PREVIEW_TEXT] => Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6695 [TIMESTAMP_X] => 06.02.2022 15:11:17 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 825 [WIDTH] => 1437 [FILE_SIZE] => 711966 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/36d [FILE_NAME] => 36df76b9b504f962d6e1515ee18e6af9.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1802245063.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 097925b9400db13507957d7dd617d0f9 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/36d/36df76b9b504f962d6e1515ee18e6af9.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/36d/36df76b9b504f962d6e1515ee18e6af9.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/36d/36df76b9b504f962d6e1515ee18e6af9.jpg [ALT] => Невидимые роботы [TITLE] => Невидимые роботы ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6695 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => nevidimye-roboty [~CODE] => nevidimye-roboty [EXTERNAL_ID] => 6770 [~EXTERNAL_ID] => 6770 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 06.02.2022 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Невидимые роботы [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Невидимые роботы [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Невидимые роботы [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => {Невидимые роботы} | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [1] => Array ( [ID] => 6651 [~ID] => 6651 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Ум за разум [~NAME] => Ум за разум [ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-16 15:28:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-16 15:28:00 [ACTIVE_FROM] => 16.11.2021 15:28:00 [~ACTIVE_FROM] => 16.11.2021 15:28:00 [TIMESTAMP_X] => 16.11.2021 18:33:06 [~TIMESTAMP_X] => 16.11.2021 18:33:06 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/um-za-razum/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/um-za-razum/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта, что связано с большим объемом накапливаемых данных, которые можно направить на машинное обучение, а также с широким спектром потребностей бизнеса, которые можно с помощью этих технологий удовлетворить. Тем не менее даже лидеры рынка с очень большими финансовыми возможностями не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли.

Лето было богато на новости о победном шествии искусственного интеллекта в ритейле. Десять лет назад мы много размышляли об «умных» полках и тележках. Теперь умным становится все. Сразу две торговые сети тестируют интеллектуальные весы самообслуживания, которые сами понимают, какой продукт на них поставили, – и это только начало. «Магнит» пытается распознать эмоции посетителей, установив на дисплеи покупателей технологию, которая считывает пол, возраст и такие эмоции, как грусть, счастье, злость, удивление, а также нейтральное выражение лица. X5 Retail Group открыла новую «Пятерочку», в которой все происходит «налету» за счет полностью автоматизированной системы покупок. Магазин работает по принципу «умного» дома: на основе архитектуры IoT (Интернета вещей) за происходящим в зале наблюдают 15 камер, полки оснащены электронными ценниками.
Не отстают и ИТ-компании (даже если это банк): Сбер только что сообщил о том, что предлагает ритейлерам сразу три продукта на основе искусственного интеллекта: «AI-маркетолог», «AI-координатор» и «AI-ритейл локатор». Решения выявляют как потенциальных клиентов, так и дают советы территориального характера: где лучше открыть новую точку и что не так с уже имеющимися магазинами.
На втором конкурсе MGNTech (российского акселератора для розничной сети) в июле среди прочих победили стартапы, предлагающие тележки с интеллектуальным подбором заказов в распределительном центре; нейросетевой сервис определения реакций покупателей на дегустационную еду и напитки; наконец, персонализированный подбор косметики на основе искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект, кажется, проник всюду. «Крупный ритейл на сто процентов использует ИИ, хотя местами может этого даже не подозревать, – заявляет Юрий Ледаков, руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов компании BSS. – Когда такая компания заказывает маркетинговое исследование инхаус или у агентства, там точно используется механизм с применением ИИ. Он анализирует движение информации, ее полезность и применимость, возможность использования для бизнеса. Большие данные никто уже вручную не обрабатывает. Прогнозирование тоже строится с использованием искусственного интеллекта».
Обычные дела
Именно поэтому сейчас на профессиональных конференциях говорят: ИИ в тренде, но это уже не будущее, а банальность, повседневность. Какие-то решения действительно встречаются повсеместно. «Как раз сейчас мы наблюдаем за процессом того, как ИИ становится стандартной технологией для продуктовой розницы, – говорит Кристиан Уэллс, эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России. – Но важно отметить, что речь здесь идет именно про ИИ-технологии, а не решения для роботизации, так как роботизация уже давно стала стандартной и привычной практикой. Итак, есть два направления использования ИИ-технологий: бэк-офис и точка продажи. В бэк-офисе технология используется для распознавания отсканированных документов и экстракции слабо структурированных данных. В точке продажи интеллект задействован в сфере машинного зрения для распознавания людей, действий и продуктов».
Разговорные интерфейсы – тоже вполне стандартная история применения ИИ в ритейле. «Создаются цифровые виртуальные ассистенты, интеллектуальные помощники, которые способны заменять сотрудника в общении с клиентами как в текстовом, так и голосовом канале. Такой помощник обладает знаниями в области поддержки продаж, непосредственно продажи, телемаркетинга, опросов и других возможных коммуникаций компании с внешним миром», – рассказывает Юрий Ледаков.
Другой стандартный вариант – использование ИИ для анализа состояния бизнеса, чтобы понять, насколько последний адекватно работает, эффективно развивается. Используется анализ больших данных для выявления паттернов, которые могут быть полезными. «Это может быть анализ платежей, среднего чека, возвратов клиентов, любой текстовой и визуальной информации, данных о проводках, счетах, платежах, товарах, всех возможных движениях информации внутри компании», – перечисляет Юрий Ледаков.
Смотри в оба
Видео – вот та тема, которая давно стала привычной полянкой для выпаса искусственного интеллекта. Интеллектуальные системы видеонаблюдения, оснащенные алгоритмами ИИ, пришли в ритейл более шести лет назад. Начав с обеспечения безопасности в торговых залах и на складах, сегодня они с помощью видеоаналитических модулей составляют портрет покупателя, анализируют аудиторию и оптимизируют трудозатраты.
Для компаний, производящих решения в области видеоаналитики, ритейл – самый крупный рынок сбыта. «По нашим данным, около 30% пользователей аналитических сервисов работают в сфере розничной торговли, – делится Заур Абуталимов, директор по продуктам компании Ivideon. – По прогнозам аналитиков Juniper Research, к 2023 году глобальные расходы ритейлеров на решения искусственного интеллекта достигнут $12 млрд против $3,6 млрд в 2019 году. Таким образом, прогнозируемый рост по этому показателю за четыре года составит более чем 230%».
По мнению Заура Абуталимова, это вполне ожидаемо, ведь «умные» системы действительно пользуются все большим спросом у торговых сетей. «Умное» видеонаблюдение позволяет предотвращать мошенничество на кассах или продажу алкоголя несовершеннолетним: система синхронизирует данные с чека с видеорядом, а специальные алгоритмы выявляют потенциально мошеннические операции и нарушения. Внедряя такие камеры слежения, ритейлер может следить за всеми процессами на торговых точках и контролировать их. «Это особенно важно, когда речь идет о кражах и так называемых шоплифтерах (магазинных ворах). По данным Американской национальной федерации ритейлеров (NRF), в 2019 году 71,3% предприятий розничной торговли сообщали об увеличении организованной преступности в магазинах по сравнению с годом ранее. В России воровство в магазинах становится для ритейлеров серьезным налоговым риском: недостача товара всегда привлекает внимание налоговых органов, которые требуют от владельцев платить за нее налог. Так, наблюдение за посетителями и сотрудниками позволяет ритейлерам снизить убытки», – подчеркивает он.
Видеонаблюдение в торговых точках также помогает следствию разобраться в хронологии разбоев и терактов. Еще в 2017 году данные с камер видеонаблюдения позволили установить причины взрыва в петербургском «Перекрестке». Местами подобных преступлений часто становятся точки массового скопления людей. И это не только магазины и торговые центры, но и банки, общественный транспорт и центральные улицы города. Сегодня в любом из этих мест видеонаблюдение не прихоть, а необходимость.
Кроме того, видеокамеры активно используются с целью аналитики. Они позволяют торговым сетям составлять портрет покупателя, профилировать посетителей по гендерному и возрастному признакам, а также выявлять постоянных клиентов и VIP-покупателей. В конечном счете ритейлер может использовать эту информацию для планирования рекламных кампаний и распродаж.
Наконец, с помощью искусственного интеллекта торговые сети отслеживают маршрут передвижения покупателей по магазину, количество человек у кассы и время их ожидания в очереди. «Один из наших клиентов – глобальная сеть магазинов товаров для красоты и ухода за собой – использует видеонаблюдение, для того,чтобы считать посетителей магазина, – рассказывает Заур Абуталимов. – Когда покупателей много, в зал выходит больше продавцов-консультантов, а когда гостей меньше – продавцы переключаются на другие задачи. В сети столичных супермаркетов наши видеокамеры определяют количество покупателей в очереди. Если их больше пяти, то менеджеру магазина приходит уведомление о том, что нужно открыть дополнительную кассу».
Контроль появления нежелательных лиц – наиболее рабочий и популярный кейс. Магазины накапливают базы данных людей, которые уже были уличены в кражах или в принципе представляют потенциальную опасность. Видео с камер постоянно прогоняется через нейронные сети, которые детектируют лица и сверяют их с биометрическими шаблонами, хранящимися в базе данных. В случае совпадения событие сохраняется, а службе безопасности или сотрудникам торговой точки отправляется соответствующее уведомление на мобильный телефон. «Применение подобной технологии позволяет значительно сократить потери от краж и сэкономить на фонде оплаты труда, – говорит Виталий Виноградов, продакт-менеджер В2В-продуктов компании NtechLab. – Одним из недавних проектов, которые мне удалось внедрить, был в Белоруссии с сетью супермаркетов Bigzz, крупнейшей в стране. Результаты внедрения говорят сами за себя. Потери от краж снизились на 60%. На 40% выросло количество выявленных фактов воровства и совершивших их лиц – это в первый же месяц использования решения. После внедрения распознавания был раскрыт практически каждый случай хищения товаров, и установлены преступники, их совершившие».
Снизились и расходы на ФОТ – на 25%. «Давайте посчитаем, – предлагает Виталий Виноградов, – средняя рыночная зарплата одного сотрудника охраны с учетом всех налогов составляет около $650. При этом, по внутренней статистике магазина, охранник может предотвратить кражу в лучшем случае на $10–15 в день, а против схем профессиональных воров зачастую и вовсе бессилен. После установки системы распознавания лиц компания смогла полностью отказаться от классической схемы с охранниками на объектах в пользу искусственного интеллекта».
Странный случай
Что же может предложить искусственный интеллект ритейлу такого, что можно было бы счесть необычным применением технологии? Казалось бы, все области уже задействованы. «Есть примеры использования ИИ для сопоставления людей на видео с системой управления персоналом. Если в служебное помещение зашел человек, чьей фотографии нет в базе данных персонала, то соответствующее оповещение поступает в службу безопасности», – говорит Кристиан Уэллс.
«Одним из самых необычных кейсов, что я встречал (собственно, его мы и разрабатываем), – обогащение процесса покупок через Scan & Go индивидуальными предложениями, работающими через дополненную реальность, – делится подробностями проекта Павел Подкорытов, директор компании Napoleon IT. – Человек приходит в магазин, открывает на своем смартфоне приложение Scan & Go, и после сканирования макарон и сосисок на витрине ему делается специальное предложение с кетчупом, которое он видит в реальном времени в режиме дополненной реальности. Это не просто интересно для посетителей, но и реально поднимает средний чек ритейлеру».
Необычными, а точнее, еще не очень распространенными, являются попытки работы с анализом эмоций. «В частности, создают «портрет» покупателя с использованием аспектов эмоциональной составляющей, которую он оставляет до покупки, в момент покупки и после, при использовании продукта, – рассказывает Юрий Ледаков. – Есть и попытки анализа того, как, например, влияет эмоциональный фон на возврат или средний чек». Еще одним направлением является построение комплексного цифрового профиля клиента, на основе которого потом выстраиваются продажи и стратегия работы бизнеса.
С мая 2020 года технология «магазинов будущего» пилотируется в закрытом режиме на ограниченном количестве клиентов в магазине «Азбука вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити». «Для совершения покупок на входе в зону Take & Go достаточно отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбера, взять с полок нужные товары и просто выйти – деньги с карты будут списаны автоматически. За перемещением товара следит искусственный интеллект», – рассказывает Виталий Виноградов.
«Магнит», в котором происходит около 16 млн покупок в день, в апреле 2021 вместе с партнером Perfect Data запустил пилотный проект Smart Shelf. Здесь установили датчики веса, чтобы определять, когда продукты снимаются с целевых полок в одном из магазинов. «Решение основано на Microsoft Azure и предлагает розничному продавцу способ поддерживать эффективный оборот своих запасов», – говорит Виталий Виноградов.
«Пока трудно сказать, какое из ИИ-решений станет наиболее перспективным и востребованным в ритейле в ближайшем будущем. Мы наблюдаем высокий интерес к формату магазина без кассиров. Без искусственного интеллекта такой формат был бы нереализуем», – подчеркивает Заур Абуталимов.
«А наша компания принимала участие во внедрении действительно инновационного сервиса «Экспресс Скан» в X5 Retail Group в части построения контура операционной аналитики, – рассказывает Илья Шутов, руководитель направления DataScience, компания «Медиа-Тел». – Это предельная точка развития, когда даже КСО (кассы самообслуживания) не требуются. Есть магазин и пользователь со своим смартфоном. Технологически это крайне сложный сервис, требующий радикальной перестройки всего ИТ ритейлера. В систему заложена персонализация на основании индивидуальной поведенческой аналитики каждого покупателя. Будем стыковать сервис с вашим «умным» холодильником и формировать заказы на онлайн-доставку на основании ваших постоянно меняющихся предпочтений. Или самостоятельно будем привозить и резервировать под вас любимые товары в вашем любимом магазине в нужный день с учетом предпочтений покупателя. Пока это шутка, но, сами понимаете…»

Без ума
Тенденция понятна – искусственный интеллект популярен, про «умные» решения говорят во всех новостях. А в кулуарах от ИТ-специалистов даже можно услышать, что на проект без ИИ дают х рублей, а под проект с ИИ – 10х рублей и больше. Выгода для ИТ-компаний очевидна.
Но, строго говоря, искусственный интеллект не новость уже больше полувека, он просто получил новое развитие после того, как данных стало не много, а очень много. Это позволило от систем, основанных на правилах (ветках вида «если А, то B, если B, то C»), перейти к машинному обучению (ML), то есть к алгоритмам, основанным на статистических методах, а затем и к Deep Learning. Последние два метода требуют много вводных: тысячи и десятки тысяч данных в случае ML, миллионы – для глубокого изучения. После тридцатилетней «зимы искусственного интеллекта» (1970–1990 годы) вычислительные мощности подросли и подешевели, а компании, в частности торговые, наконец-то накопили нужные терабайты, и телега сдвинулась с места. Однако сдвинуться с места еще не означает, что можно ехать быстро и с ветерком.
Во-первых, искусственный интеллект – один из самых распиаренных терминов, от которого сразу ждут чуда, тогда как никакого интеллекта в действительности не наблюдается. Есть алгоритмы, работающие по разным принципам. Но слушать о них никто не хочет. До такой степени, что половина наших экспертов в самом начале разговора вынуждена была сразу сказать, чтобы мы не обольщались: «Для начала хотелось бы определиться с терминами: «искусственный интеллект» – это удел фантастических фильмов и книг, – предупреждает Илья Шутов. – В продвинутой аналитике, как правило, применяются статистические алгоритмы и алгоритмы машинного обучения, которые, по-видимому, и скрываются под аббревиатурой ИИ».
Но маркетологи понимают другое – так корову не продашь. Технологию нужно подавать покупателю лицом, и желательно, чтобы это лицо было похоже на наше. Однако ничего человеческого в ИИ нет. Забавно, но сами маркетологи не знают, что им делать со своим детищем на практике. Продавать – пожалуйста. Работать… А как? Консалтинговая компания Accenture в исследовании от 2020 года писала, что 61% директоров по маркетингу не готовы применять ИИ и не вполне осознают, как помогут современные технологии в их деятельности.
Не всегда понимают искусственный интеллект и другие руководители. «Основной причиной того, что ИИ не распространен повсеместно, является отсутствие понимания и доверия к нему, потому что для компании это «черный ящик», – уверяет Алексей Романенко, главный консультант по аналитике, департамент профессиональных услуг Retail & CPG в EMEA, SAS. – Кроме того, руководство хочет увидеть материальные результаты от внедрения в течение ближайшего года. На моей практике внедрений высокотехнологичных решений, включающих элементы ИИ, только в одном из девяти проектов топ-менеджмент и владельцы компании руководствовались не операционными целями, а тактическими или даже стратегическими планами по цифровизации и интеллектуализации бизнес-процессов».
Во-вторых, чем крупнее проекты с ИИ, тем они громче падают. Поэтому начать внедрение дорогостоящей технологии страшно. Не всегда результаты использования сложных методов ИИ бывают убедительны. Примером могут стать технологии Deep Learning, разработанные в Google для прогнозирования спроса: сложный DL-подход, над которым трудилась команда специалистов из Google не один месяц, так и не смог попасть даже в топ-100 по результативности. «Многие проекты являются больше тестовыми полигонами для оценки технологий и реального влияния на бизнес-результат не имеют, – дополняет коллегу Александр Михасев, главный консультант, решения для розничной торговли, EMEA, SAS. – Лишь немногие из них доходят до стадии развертывания на весь бизнес. При этом во многих аспектах потенциальный положительный эффект от внедрения ИИ-технологий значительный, поэтому все больше ИИ-проектов все-таки будет выходить в продуктивную фазу. В краткосрочной перспективе принятие решений в рамках основных функциональных процессов начнет поддерживаться с помощью ИИ-технологий».
В-третьих, надо понимать, что имеющиеся алгоритмы ограничены. Когда говорят, например, о предсказательных системах, то имеется в виду не волшебный шар, который покажет будущее. Предсказание в данном случае – это поиск ответа при недостающей информации, восстановление неполной информации об объекте.
В-четвертых, есть буква закона. Она давит, достаточно вспомнить пресловутый ФЗ-152. Некоторые предприниматели отказываются от технологий, рассматривая их как бремя, как дополнительную ответственность за обработку персональных данных клиентов, полученных с помощью устройств распознавания лиц. «Хочу обратить внимание на то, что камеры, установленные для анализа аудитории и популярности товаров, на самом деле не собирают персональные данные, поскольку такие записи не идентифицируют физическое лицо как таковое, – отчасти успокаивает нас Заур Абуталимов. – А вот если предприниматель установил в торговом помещении камеру для определения покупательского поведения определенного лица, то тут следует быть осторожнее: в этом случае собираемые данные являются персональными, а значит, ритейлер обязан получить согласие на их обработку от соответствующего клиента».
Наконец, нужно помнить, что ритейл отличается исключительной сложностью бизнес-процессов, многие вопросы требуют коллаборации между отделами. «Пока технологии ИИ играют сомнительную роль вспомогательных инструментов для принятия решений по очень локальным задачам (которые зачастую отлично решаются и более простыми алгоритмами), потому что не многие верят ИИ и вряд ли кто-то пробовал отдавать ИИ право голоса в условиях недостаточности информации», – говорит Алексей Романенко. «Если на нейронные сети возлагаются надежды по управлению и принятию решений, то кто реально будет управлять компанией? Кто будет теневым властителем? Менеджеры или тренер нейронных сетей?» – предлагает задуматься Илья Шутов.
Искусственный интеллект в глубоком смысле этого слова только начинает завоевывать свое место под солнцем технологий в ритейл-компаниях, причем как в России, так и в Европе. «Практически в каждой торговой компании есть свой «кулибин» или даже «отдел кулибиных», который разрабатывает и внедряет ИИ в бизнес-процессы. Однако сторона, принимающая решения, не загорается от одного упоминания заветного названия сложных методов и требует серьезных доказательств действенности решения на практике уже сейчас, – говорит Алексей Романенко. – Предстоят долгие годы упорной работы, направленной на модернизацию процессов и подходов в управлении, пока упоминание ИИ станет обычным делом».
В популяризацию интеллекта решило серьезно вложиться и государство. Только на одну просветительскую деятельность, по данным CNews, выделено 305 млн руб. и в два раза больше – 702 млн руб. на хакатоны и лекции. 5,7 млрд руб. дают на создание и развитие ИИ-стартапов, 5,4 млрд руб. – на исследовательские центры.
Готовность принять ИИ-технологии зависит как от понимания технологии как таковой, так и от степени цифровизации самой компании. «Сложно внедрить ИИ-технологии в организацию, если там нет предпосылок на цифровой документооборот. ИИ-технологии позволяют склеить разрозненные цифровые процессы воедино путем замены базового человеческого интеллекта на искусственный. ИИ – это как автопилот в самолете. Без самого самолета он просто бесполезен», – резонно замечает Кристиан Уэллс.
Подсиживающий робот
Еще одна зона страха лежит в области трудовой занятости – что сделает искусственный интеллект с людьми? Amazon нанимает работников с помощью ИИ, а российские бизнес-компании увольняют сотни, потому что так решили нейросети. Чего стоит ожидать сотрудникам торговой точки? Одни эксперты предлагают бояться грядущей автоматизации всего, другие говорят, что высвободившийся кадровый состав будет брошен на другие проекты.
В рознице ясно прослеживается тренд на увеличение автоматизации всех операционных процессов и сокращение вовлечения линейного персонала. «Amazon и многие другие розничные игроки предлагают концепты магазинов без касс и персонала. Необходимость в линейном персонале в таких магазинах сведена к минимуму. Вопрос успеха тут не в том, поддержать этот тренд или нет, а в том, как его возглавить. Мы полагаем, что количество линейного персонала в рознице будет неминуемо сокращаться», – говорит Александр Михасев.
Внедрение роботов в организацию ни в коем случае не говорит о том, что цифровые сотрудники заменят людей и оставят нас без работы. Такое ошибочное мнение также создает преграды на пути к цифровой трансформации, которая откроет огромное количество новых возможностей для всех. «Роботы позволяют освободить людей от задач рутинных, скучных и не требующих особых навыков, таким образом предоставляя возможность заниматься более интеллектуальной и стратегически важной работой», – комментирует Кристиан Уэллс.
Робот, по крайней мере в обозримой перспективе, не заменит полностью человека. «Робот – все же исполнитель, а не творец, креативное начало в нем отсутствует. Поэтому качества сотрудника, который общается с клиентом, не могут быть полностью делегированы ИИ», – считает Юрий Ледаков.
По его мнению, сейчас мы постепенно приходим к человеко-машинному интерфейсу. Да, есть определенная степень автоматизации, но ее адекватность проверяется с помощью живых людей. Кроме того, человек дает знания, которые машина может вовремя не распознать, вовремя не считать. Она ограничена по сенсорике и часто является исполнителем уже принятых решений.
Скорее всего, на местах от сотрудников будут требоваться другие навыки работы. Будут другой ракурс понимания задач сотрудника, другая сфера их применения. И если кто-то из сотрудников захочет развиваться, он сможет это делать, а использование ИИ будет только стимулировать такое развитие.
Зимы не будет
Несмотря на страхи и «черные ящики», вряд ли этой технологии предстоит новая «зима». Решения на основе искусственного интеллекта облегчают работу торговых сетей. «Это подтверждается и результатами исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК): по ее данным, 42% российских ритейлеров уже используют такие решения, а еще 35% планируют начать делать это в течение пяти лет. Таким образом, к 2024 году технологии и решения на основе ИИ будет использовать 77% российских ритейлеров, – объясняет Заур Абуталимов. – Однако важно понимать, что с внедрением подобных технологий по-прежнему связано множество рисков. Многие предприниматели пока еще не доверяют искусственному интеллекту и не верят в то, что затраты на подобные проекты оправдают себя».
И все-таки все больше компаний применяют или планируют применить ИИ, RPA и другие технологии для автоматизации процессов – для них это не просто погоня за трендом. «Сегодня это можно назвать необходимостью для крупных компаний и возможностью для развития остальных. Благодаря таким технологиям бизнесу удается сэкономить колоссальное количество ресурсов и времени, повысить качество продукции и сервиса», – считает Кристиан Уэллс.
Ритейлу придется заниматься инновациями. «Пока прибыль растет за счет других средств (геоэкспансия, M & A, расширение спектра товаров, программы лояльности, финансовые инструменты по оптимизации работ с поставщиками, административные модернизации) и покрывает с лихвой убытки от неэффективных решений – тонкая аналитика не требуется. BI решает все вопросы, – рассуждает Илья Шутов. – При падении маржинальности и сильном давлении со стороны конкурентов возникает органическая потребность в усложнении схем работы и предлагаемых сервисов. Тут без аналитики data science становится трудно, если вообще возможно».
В фарватере крупных кораблей идут мелкие лодки – сектор СМБ. Большой бизнес обладает достаточным объемом информации, ему есть что скормить интеллекту. «Средний и малый бизнес использует те наработки, которые сделали крупные игроки рынка, – говорит Юрий Ледаков. – Они просто берут успешные кейсы от первопроходцев, так как самостоятельно не имеют инвестиционных возможностей на внедрение ИИ и не могут позволить себе длительные эксперименты. Применяя некие подготовленные шаблоны и используя облачные сервисы и аутсорсинг, можно меньше тратить собственные ресурсы, которых у СМБ нет. Прибегая к облачным инструментам, они будут пользоваться услугами интеграторов, которые и сформируют для них наиболее удобные бизнес-кейсы».
ИТ-компании, в свою очередь, заняты тем, что правдами и неправдами сокращают стоимость компьютерных вычислений. Чем сильнее упадет стоимость таких вычислений, тем больше бизнес-процессов сможет поглотить искусственный интеллект.
За разумную цену
Кстати, раз уж мы заговорили о деньгах, давайте рассмотрим, сколько нужно готовить для ИИ. «Некоторые решения, такие как Scan & Go, совершенно незатратны, нужны софт и интеграция. В торговую точку покупать ничего не нужно, люди будут использовать свои телефоны. Что получит владелец торговой точки? Эффект в виде снижения ФОТ, роста среднего чека и увеличения частоты визитов в магазин, – говорит Павел Подкорытов. – Но тот же Amazon Go, где для оборудования каждой торговой точки необходимы серьезные вложения в специальные камеры и прочее оборудование, совсем другая история. Каждый проект нужно считать отдельно, тут не скажу ничего нового».
Иногда требуется не только купить новые камеры или программы, но серьезно поменять и ИТ-ландшафт, и архитектурный подход. «Для того чтобы алгоритмы можно было применять, как минимум нужно обеспечить корректный сбор входных данных и построить из них непротиворечивое множество. Степень затратности зависит от подхода. Классический BigData подход – «сначала все соберем, а потом будем разбираться» – крайне дорог и редко бывает успешен. Обратный подход, принятый в науке, – «сначала построим простейшую модель, а потом проведем эксперимент, снимем данные и сверим эксперимент с теорией» – кратно дешевле, меньше по масштабу и сильно эффективнее», – полагает Илья Шутов.
Если речь идет об инхаус-разработке, то серьезных инвестиций не избежать. «И скорее всего надо будет менять подходы к архитектуре. Здесь будут важны правильная аккумуляция данных, их обработка, хранение, формирование результатов – все это означает траты, – подчеркивает Юрий Ледаков. – На практике очень часто к облачным решениям прибегают ритейлеры, сфокусированные на одном бизнесе. Владельцы торговых точек очень хорошо считают и понимают целесообразность выбора. Я думаю, для них сейчас неоправданно входить в построение собственной инфраструктуры с использованием ИИ. Лучший выбор для такого бизнеса – облачные решения».
Стандартные случаи применения ИИ в ритейле
● Алгоритмы прогнозирования временных рядов (ARIMA, Neural Networks), используемые как для планирования поставок, так и для планирования ресурсов ЦОД;
● алгоритмы сингулярного разложения матриц (SVD), используемые в рекомендательных системах;
● алгоритмы дожития (survival analysis), используемые в HR-аналитике и управлении оттоком покупателей;
● статистические алгоритмы для AB-тестирования.
(По версии Ильи Шутова, руководителя направления DataScience компании «Медиа-Тел»).
Поумневшие весы от лидеров
На базе собственной лаборатории инноваций X5 Retail Group разработала «умные» весы – устройство, которое автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты. Оно монтируется на существующую весовую платформу и состоит из камеры и вычислительного модуля, которые передают данные в общую нейросеть. В начале 2020 года весы начали внедрять в магазины.
Интеллектуальные весы позволяют ускорить время операций на кассе, сделать процесс покупок еще более безопасным и удобным для клиентов. По статистике торговой сети «Пятерочка», весовые товары входят в 30% чеков. В течение одного часа кассир взвешивает продукты около 47 раз, каждая операция занимает в среднем 14,5 секунд. «Умные весы» помогают кассирам существенно сократить это время и значительно ускорить обслуживание покупателей.
Система весов, оснащенная компьютерным зрением, самостоятельно распознает товар даже в пакете, таким образом, пропускная способность каждой кассы увеличивается. По статистике компании, только в расчете на один магазин пропускная способность увеличивается на 20 000 человек в год, а годовая экономия времени на обслуживании покупателей на кассе составит не менее 1300 часов.
Пилотирование «умных» весов прошло в 10 магазинах «Пятерочка», где была выявлена точность распознавания объектов до 98,4%. По мере тестирования нейросеть, которая использовалась в системе компьютерного зрения, постоянно обучалась и повышала точность распознавания.
После X5 «умные» весы внедрил «Магнит». Летом 2021 года был запущен пилотный проект в Краснодарском крае в шести супермаркетах «Магнит Семейный». По данным компании, точность распознавания в июле 2021 года составляла около 95%. За счет дообучения в ходе пилота компания планировала довести ее до 99%. Естественное дообучение не требует дополнительных действий от покупателя или персонала магазина – «умные» весы запоминают выбор покупателя при взвешивании товара.
«Умные» весы адаптированы к особенностям весового ассортимента, умеют работать с неотличимой друг от друга по внешним признакам продукцией и успешно распознают один и тот же уникальный товар, внешний вид которого может отличаться в разных магазинах или регионах.
[~DETAIL_TEXT] =>
Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта, что связано с большим объемом накапливаемых данных, которые можно направить на машинное обучение, а также с широким спектром потребностей бизнеса, которые можно с помощью этих технологий удовлетворить. Тем не менее даже лидеры рынка с очень большими финансовыми возможностями не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли.

Лето было богато на новости о победном шествии искусственного интеллекта в ритейле. Десять лет назад мы много размышляли об «умных» полках и тележках. Теперь умным становится все. Сразу две торговые сети тестируют интеллектуальные весы самообслуживания, которые сами понимают, какой продукт на них поставили, – и это только начало. «Магнит» пытается распознать эмоции посетителей, установив на дисплеи покупателей технологию, которая считывает пол, возраст и такие эмоции, как грусть, счастье, злость, удивление, а также нейтральное выражение лица. X5 Retail Group открыла новую «Пятерочку», в которой все происходит «налету» за счет полностью автоматизированной системы покупок. Магазин работает по принципу «умного» дома: на основе архитектуры IoT (Интернета вещей) за происходящим в зале наблюдают 15 камер, полки оснащены электронными ценниками.
Не отстают и ИТ-компании (даже если это банк): Сбер только что сообщил о том, что предлагает ритейлерам сразу три продукта на основе искусственного интеллекта: «AI-маркетолог», «AI-координатор» и «AI-ритейл локатор». Решения выявляют как потенциальных клиентов, так и дают советы территориального характера: где лучше открыть новую точку и что не так с уже имеющимися магазинами.
На втором конкурсе MGNTech (российского акселератора для розничной сети) в июле среди прочих победили стартапы, предлагающие тележки с интеллектуальным подбором заказов в распределительном центре; нейросетевой сервис определения реакций покупателей на дегустационную еду и напитки; наконец, персонализированный подбор косметики на основе искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект, кажется, проник всюду. «Крупный ритейл на сто процентов использует ИИ, хотя местами может этого даже не подозревать, – заявляет Юрий Ледаков, руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов компании BSS. – Когда такая компания заказывает маркетинговое исследование инхаус или у агентства, там точно используется механизм с применением ИИ. Он анализирует движение информации, ее полезность и применимость, возможность использования для бизнеса. Большие данные никто уже вручную не обрабатывает. Прогнозирование тоже строится с использованием искусственного интеллекта».
Обычные дела
Именно поэтому сейчас на профессиональных конференциях говорят: ИИ в тренде, но это уже не будущее, а банальность, повседневность. Какие-то решения действительно встречаются повсеместно. «Как раз сейчас мы наблюдаем за процессом того, как ИИ становится стандартной технологией для продуктовой розницы, – говорит Кристиан Уэллс, эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России. – Но важно отметить, что речь здесь идет именно про ИИ-технологии, а не решения для роботизации, так как роботизация уже давно стала стандартной и привычной практикой. Итак, есть два направления использования ИИ-технологий: бэк-офис и точка продажи. В бэк-офисе технология используется для распознавания отсканированных документов и экстракции слабо структурированных данных. В точке продажи интеллект задействован в сфере машинного зрения для распознавания людей, действий и продуктов».
Разговорные интерфейсы – тоже вполне стандартная история применения ИИ в ритейле. «Создаются цифровые виртуальные ассистенты, интеллектуальные помощники, которые способны заменять сотрудника в общении с клиентами как в текстовом, так и голосовом канале. Такой помощник обладает знаниями в области поддержки продаж, непосредственно продажи, телемаркетинга, опросов и других возможных коммуникаций компании с внешним миром», – рассказывает Юрий Ледаков.
Другой стандартный вариант – использование ИИ для анализа состояния бизнеса, чтобы понять, насколько последний адекватно работает, эффективно развивается. Используется анализ больших данных для выявления паттернов, которые могут быть полезными. «Это может быть анализ платежей, среднего чека, возвратов клиентов, любой текстовой и визуальной информации, данных о проводках, счетах, платежах, товарах, всех возможных движениях информации внутри компании», – перечисляет Юрий Ледаков.
Смотри в оба
Видео – вот та тема, которая давно стала привычной полянкой для выпаса искусственного интеллекта. Интеллектуальные системы видеонаблюдения, оснащенные алгоритмами ИИ, пришли в ритейл более шести лет назад. Начав с обеспечения безопасности в торговых залах и на складах, сегодня они с помощью видеоаналитических модулей составляют портрет покупателя, анализируют аудиторию и оптимизируют трудозатраты.
Для компаний, производящих решения в области видеоаналитики, ритейл – самый крупный рынок сбыта. «По нашим данным, около 30% пользователей аналитических сервисов работают в сфере розничной торговли, – делится Заур Абуталимов, директор по продуктам компании Ivideon. – По прогнозам аналитиков Juniper Research, к 2023 году глобальные расходы ритейлеров на решения искусственного интеллекта достигнут $12 млрд против $3,6 млрд в 2019 году. Таким образом, прогнозируемый рост по этому показателю за четыре года составит более чем 230%».
По мнению Заура Абуталимова, это вполне ожидаемо, ведь «умные» системы действительно пользуются все большим спросом у торговых сетей. «Умное» видеонаблюдение позволяет предотвращать мошенничество на кассах или продажу алкоголя несовершеннолетним: система синхронизирует данные с чека с видеорядом, а специальные алгоритмы выявляют потенциально мошеннические операции и нарушения. Внедряя такие камеры слежения, ритейлер может следить за всеми процессами на торговых точках и контролировать их. «Это особенно важно, когда речь идет о кражах и так называемых шоплифтерах (магазинных ворах). По данным Американской национальной федерации ритейлеров (NRF), в 2019 году 71,3% предприятий розничной торговли сообщали об увеличении организованной преступности в магазинах по сравнению с годом ранее. В России воровство в магазинах становится для ритейлеров серьезным налоговым риском: недостача товара всегда привлекает внимание налоговых органов, которые требуют от владельцев платить за нее налог. Так, наблюдение за посетителями и сотрудниками позволяет ритейлерам снизить убытки», – подчеркивает он.
Видеонаблюдение в торговых точках также помогает следствию разобраться в хронологии разбоев и терактов. Еще в 2017 году данные с камер видеонаблюдения позволили установить причины взрыва в петербургском «Перекрестке». Местами подобных преступлений часто становятся точки массового скопления людей. И это не только магазины и торговые центры, но и банки, общественный транспорт и центральные улицы города. Сегодня в любом из этих мест видеонаблюдение не прихоть, а необходимость.
Кроме того, видеокамеры активно используются с целью аналитики. Они позволяют торговым сетям составлять портрет покупателя, профилировать посетителей по гендерному и возрастному признакам, а также выявлять постоянных клиентов и VIP-покупателей. В конечном счете ритейлер может использовать эту информацию для планирования рекламных кампаний и распродаж.
Наконец, с помощью искусственного интеллекта торговые сети отслеживают маршрут передвижения покупателей по магазину, количество человек у кассы и время их ожидания в очереди. «Один из наших клиентов – глобальная сеть магазинов товаров для красоты и ухода за собой – использует видеонаблюдение, для того,чтобы считать посетителей магазина, – рассказывает Заур Абуталимов. – Когда покупателей много, в зал выходит больше продавцов-консультантов, а когда гостей меньше – продавцы переключаются на другие задачи. В сети столичных супермаркетов наши видеокамеры определяют количество покупателей в очереди. Если их больше пяти, то менеджеру магазина приходит уведомление о том, что нужно открыть дополнительную кассу».
Контроль появления нежелательных лиц – наиболее рабочий и популярный кейс. Магазины накапливают базы данных людей, которые уже были уличены в кражах или в принципе представляют потенциальную опасность. Видео с камер постоянно прогоняется через нейронные сети, которые детектируют лица и сверяют их с биометрическими шаблонами, хранящимися в базе данных. В случае совпадения событие сохраняется, а службе безопасности или сотрудникам торговой точки отправляется соответствующее уведомление на мобильный телефон. «Применение подобной технологии позволяет значительно сократить потери от краж и сэкономить на фонде оплаты труда, – говорит Виталий Виноградов, продакт-менеджер В2В-продуктов компании NtechLab. – Одним из недавних проектов, которые мне удалось внедрить, был в Белоруссии с сетью супермаркетов Bigzz, крупнейшей в стране. Результаты внедрения говорят сами за себя. Потери от краж снизились на 60%. На 40% выросло количество выявленных фактов воровства и совершивших их лиц – это в первый же месяц использования решения. После внедрения распознавания был раскрыт практически каждый случай хищения товаров, и установлены преступники, их совершившие».
Снизились и расходы на ФОТ – на 25%. «Давайте посчитаем, – предлагает Виталий Виноградов, – средняя рыночная зарплата одного сотрудника охраны с учетом всех налогов составляет около $650. При этом, по внутренней статистике магазина, охранник может предотвратить кражу в лучшем случае на $10–15 в день, а против схем профессиональных воров зачастую и вовсе бессилен. После установки системы распознавания лиц компания смогла полностью отказаться от классической схемы с охранниками на объектах в пользу искусственного интеллекта».
Странный случай
Что же может предложить искусственный интеллект ритейлу такого, что можно было бы счесть необычным применением технологии? Казалось бы, все области уже задействованы. «Есть примеры использования ИИ для сопоставления людей на видео с системой управления персоналом. Если в служебное помещение зашел человек, чьей фотографии нет в базе данных персонала, то соответствующее оповещение поступает в службу безопасности», – говорит Кристиан Уэллс.
«Одним из самых необычных кейсов, что я встречал (собственно, его мы и разрабатываем), – обогащение процесса покупок через Scan & Go индивидуальными предложениями, работающими через дополненную реальность, – делится подробностями проекта Павел Подкорытов, директор компании Napoleon IT. – Человек приходит в магазин, открывает на своем смартфоне приложение Scan & Go, и после сканирования макарон и сосисок на витрине ему делается специальное предложение с кетчупом, которое он видит в реальном времени в режиме дополненной реальности. Это не просто интересно для посетителей, но и реально поднимает средний чек ритейлеру».
Необычными, а точнее, еще не очень распространенными, являются попытки работы с анализом эмоций. «В частности, создают «портрет» покупателя с использованием аспектов эмоциональной составляющей, которую он оставляет до покупки, в момент покупки и после, при использовании продукта, – рассказывает Юрий Ледаков. – Есть и попытки анализа того, как, например, влияет эмоциональный фон на возврат или средний чек». Еще одним направлением является построение комплексного цифрового профиля клиента, на основе которого потом выстраиваются продажи и стратегия работы бизнеса.
С мая 2020 года технология «магазинов будущего» пилотируется в закрытом режиме на ограниченном количестве клиентов в магазине «Азбука вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити». «Для совершения покупок на входе в зону Take & Go достаточно отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбера, взять с полок нужные товары и просто выйти – деньги с карты будут списаны автоматически. За перемещением товара следит искусственный интеллект», – рассказывает Виталий Виноградов.
«Магнит», в котором происходит около 16 млн покупок в день, в апреле 2021 вместе с партнером Perfect Data запустил пилотный проект Smart Shelf. Здесь установили датчики веса, чтобы определять, когда продукты снимаются с целевых полок в одном из магазинов. «Решение основано на Microsoft Azure и предлагает розничному продавцу способ поддерживать эффективный оборот своих запасов», – говорит Виталий Виноградов.
«Пока трудно сказать, какое из ИИ-решений станет наиболее перспективным и востребованным в ритейле в ближайшем будущем. Мы наблюдаем высокий интерес к формату магазина без кассиров. Без искусственного интеллекта такой формат был бы нереализуем», – подчеркивает Заур Абуталимов.
«А наша компания принимала участие во внедрении действительно инновационного сервиса «Экспресс Скан» в X5 Retail Group в части построения контура операционной аналитики, – рассказывает Илья Шутов, руководитель направления DataScience, компания «Медиа-Тел». – Это предельная точка развития, когда даже КСО (кассы самообслуживания) не требуются. Есть магазин и пользователь со своим смартфоном. Технологически это крайне сложный сервис, требующий радикальной перестройки всего ИТ ритейлера. В систему заложена персонализация на основании индивидуальной поведенческой аналитики каждого покупателя. Будем стыковать сервис с вашим «умным» холодильником и формировать заказы на онлайн-доставку на основании ваших постоянно меняющихся предпочтений. Или самостоятельно будем привозить и резервировать под вас любимые товары в вашем любимом магазине в нужный день с учетом предпочтений покупателя. Пока это шутка, но, сами понимаете…»

Без ума
Тенденция понятна – искусственный интеллект популярен, про «умные» решения говорят во всех новостях. А в кулуарах от ИТ-специалистов даже можно услышать, что на проект без ИИ дают х рублей, а под проект с ИИ – 10х рублей и больше. Выгода для ИТ-компаний очевидна.
Но, строго говоря, искусственный интеллект не новость уже больше полувека, он просто получил новое развитие после того, как данных стало не много, а очень много. Это позволило от систем, основанных на правилах (ветках вида «если А, то B, если B, то C»), перейти к машинному обучению (ML), то есть к алгоритмам, основанным на статистических методах, а затем и к Deep Learning. Последние два метода требуют много вводных: тысячи и десятки тысяч данных в случае ML, миллионы – для глубокого изучения. После тридцатилетней «зимы искусственного интеллекта» (1970–1990 годы) вычислительные мощности подросли и подешевели, а компании, в частности торговые, наконец-то накопили нужные терабайты, и телега сдвинулась с места. Однако сдвинуться с места еще не означает, что можно ехать быстро и с ветерком.
Во-первых, искусственный интеллект – один из самых распиаренных терминов, от которого сразу ждут чуда, тогда как никакого интеллекта в действительности не наблюдается. Есть алгоритмы, работающие по разным принципам. Но слушать о них никто не хочет. До такой степени, что половина наших экспертов в самом начале разговора вынуждена была сразу сказать, чтобы мы не обольщались: «Для начала хотелось бы определиться с терминами: «искусственный интеллект» – это удел фантастических фильмов и книг, – предупреждает Илья Шутов. – В продвинутой аналитике, как правило, применяются статистические алгоритмы и алгоритмы машинного обучения, которые, по-видимому, и скрываются под аббревиатурой ИИ».
Но маркетологи понимают другое – так корову не продашь. Технологию нужно подавать покупателю лицом, и желательно, чтобы это лицо было похоже на наше. Однако ничего человеческого в ИИ нет. Забавно, но сами маркетологи не знают, что им делать со своим детищем на практике. Продавать – пожалуйста. Работать… А как? Консалтинговая компания Accenture в исследовании от 2020 года писала, что 61% директоров по маркетингу не готовы применять ИИ и не вполне осознают, как помогут современные технологии в их деятельности.
Не всегда понимают искусственный интеллект и другие руководители. «Основной причиной того, что ИИ не распространен повсеместно, является отсутствие понимания и доверия к нему, потому что для компании это «черный ящик», – уверяет Алексей Романенко, главный консультант по аналитике, департамент профессиональных услуг Retail & CPG в EMEA, SAS. – Кроме того, руководство хочет увидеть материальные результаты от внедрения в течение ближайшего года. На моей практике внедрений высокотехнологичных решений, включающих элементы ИИ, только в одном из девяти проектов топ-менеджмент и владельцы компании руководствовались не операционными целями, а тактическими или даже стратегическими планами по цифровизации и интеллектуализации бизнес-процессов».
Во-вторых, чем крупнее проекты с ИИ, тем они громче падают. Поэтому начать внедрение дорогостоящей технологии страшно. Не всегда результаты использования сложных методов ИИ бывают убедительны. Примером могут стать технологии Deep Learning, разработанные в Google для прогнозирования спроса: сложный DL-подход, над которым трудилась команда специалистов из Google не один месяц, так и не смог попасть даже в топ-100 по результативности. «Многие проекты являются больше тестовыми полигонами для оценки технологий и реального влияния на бизнес-результат не имеют, – дополняет коллегу Александр Михасев, главный консультант, решения для розничной торговли, EMEA, SAS. – Лишь немногие из них доходят до стадии развертывания на весь бизнес. При этом во многих аспектах потенциальный положительный эффект от внедрения ИИ-технологий значительный, поэтому все больше ИИ-проектов все-таки будет выходить в продуктивную фазу. В краткосрочной перспективе принятие решений в рамках основных функциональных процессов начнет поддерживаться с помощью ИИ-технологий».
В-третьих, надо понимать, что имеющиеся алгоритмы ограничены. Когда говорят, например, о предсказательных системах, то имеется в виду не волшебный шар, который покажет будущее. Предсказание в данном случае – это поиск ответа при недостающей информации, восстановление неполной информации об объекте.
В-четвертых, есть буква закона. Она давит, достаточно вспомнить пресловутый ФЗ-152. Некоторые предприниматели отказываются от технологий, рассматривая их как бремя, как дополнительную ответственность за обработку персональных данных клиентов, полученных с помощью устройств распознавания лиц. «Хочу обратить внимание на то, что камеры, установленные для анализа аудитории и популярности товаров, на самом деле не собирают персональные данные, поскольку такие записи не идентифицируют физическое лицо как таковое, – отчасти успокаивает нас Заур Абуталимов. – А вот если предприниматель установил в торговом помещении камеру для определения покупательского поведения определенного лица, то тут следует быть осторожнее: в этом случае собираемые данные являются персональными, а значит, ритейлер обязан получить согласие на их обработку от соответствующего клиента».
Наконец, нужно помнить, что ритейл отличается исключительной сложностью бизнес-процессов, многие вопросы требуют коллаборации между отделами. «Пока технологии ИИ играют сомнительную роль вспомогательных инструментов для принятия решений по очень локальным задачам (которые зачастую отлично решаются и более простыми алгоритмами), потому что не многие верят ИИ и вряд ли кто-то пробовал отдавать ИИ право голоса в условиях недостаточности информации», – говорит Алексей Романенко. «Если на нейронные сети возлагаются надежды по управлению и принятию решений, то кто реально будет управлять компанией? Кто будет теневым властителем? Менеджеры или тренер нейронных сетей?» – предлагает задуматься Илья Шутов.
Искусственный интеллект в глубоком смысле этого слова только начинает завоевывать свое место под солнцем технологий в ритейл-компаниях, причем как в России, так и в Европе. «Практически в каждой торговой компании есть свой «кулибин» или даже «отдел кулибиных», который разрабатывает и внедряет ИИ в бизнес-процессы. Однако сторона, принимающая решения, не загорается от одного упоминания заветного названия сложных методов и требует серьезных доказательств действенности решения на практике уже сейчас, – говорит Алексей Романенко. – Предстоят долгие годы упорной работы, направленной на модернизацию процессов и подходов в управлении, пока упоминание ИИ станет обычным делом».
В популяризацию интеллекта решило серьезно вложиться и государство. Только на одну просветительскую деятельность, по данным CNews, выделено 305 млн руб. и в два раза больше – 702 млн руб. на хакатоны и лекции. 5,7 млрд руб. дают на создание и развитие ИИ-стартапов, 5,4 млрд руб. – на исследовательские центры.
Готовность принять ИИ-технологии зависит как от понимания технологии как таковой, так и от степени цифровизации самой компании. «Сложно внедрить ИИ-технологии в организацию, если там нет предпосылок на цифровой документооборот. ИИ-технологии позволяют склеить разрозненные цифровые процессы воедино путем замены базового человеческого интеллекта на искусственный. ИИ – это как автопилот в самолете. Без самого самолета он просто бесполезен», – резонно замечает Кристиан Уэллс.
Подсиживающий робот
Еще одна зона страха лежит в области трудовой занятости – что сделает искусственный интеллект с людьми? Amazon нанимает работников с помощью ИИ, а российские бизнес-компании увольняют сотни, потому что так решили нейросети. Чего стоит ожидать сотрудникам торговой точки? Одни эксперты предлагают бояться грядущей автоматизации всего, другие говорят, что высвободившийся кадровый состав будет брошен на другие проекты.
В рознице ясно прослеживается тренд на увеличение автоматизации всех операционных процессов и сокращение вовлечения линейного персонала. «Amazon и многие другие розничные игроки предлагают концепты магазинов без касс и персонала. Необходимость в линейном персонале в таких магазинах сведена к минимуму. Вопрос успеха тут не в том, поддержать этот тренд или нет, а в том, как его возглавить. Мы полагаем, что количество линейного персонала в рознице будет неминуемо сокращаться», – говорит Александр Михасев.
Внедрение роботов в организацию ни в коем случае не говорит о том, что цифровые сотрудники заменят людей и оставят нас без работы. Такое ошибочное мнение также создает преграды на пути к цифровой трансформации, которая откроет огромное количество новых возможностей для всех. «Роботы позволяют освободить людей от задач рутинных, скучных и не требующих особых навыков, таким образом предоставляя возможность заниматься более интеллектуальной и стратегически важной работой», – комментирует Кристиан Уэллс.
Робот, по крайней мере в обозримой перспективе, не заменит полностью человека. «Робот – все же исполнитель, а не творец, креативное начало в нем отсутствует. Поэтому качества сотрудника, который общается с клиентом, не могут быть полностью делегированы ИИ», – считает Юрий Ледаков.
По его мнению, сейчас мы постепенно приходим к человеко-машинному интерфейсу. Да, есть определенная степень автоматизации, но ее адекватность проверяется с помощью живых людей. Кроме того, человек дает знания, которые машина может вовремя не распознать, вовремя не считать. Она ограничена по сенсорике и часто является исполнителем уже принятых решений.
Скорее всего, на местах от сотрудников будут требоваться другие навыки работы. Будут другой ракурс понимания задач сотрудника, другая сфера их применения. И если кто-то из сотрудников захочет развиваться, он сможет это делать, а использование ИИ будет только стимулировать такое развитие.
Зимы не будет
Несмотря на страхи и «черные ящики», вряд ли этой технологии предстоит новая «зима». Решения на основе искусственного интеллекта облегчают работу торговых сетей. «Это подтверждается и результатами исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК): по ее данным, 42% российских ритейлеров уже используют такие решения, а еще 35% планируют начать делать это в течение пяти лет. Таким образом, к 2024 году технологии и решения на основе ИИ будет использовать 77% российских ритейлеров, – объясняет Заур Абуталимов. – Однако важно понимать, что с внедрением подобных технологий по-прежнему связано множество рисков. Многие предприниматели пока еще не доверяют искусственному интеллекту и не верят в то, что затраты на подобные проекты оправдают себя».
И все-таки все больше компаний применяют или планируют применить ИИ, RPA и другие технологии для автоматизации процессов – для них это не просто погоня за трендом. «Сегодня это можно назвать необходимостью для крупных компаний и возможностью для развития остальных. Благодаря таким технологиям бизнесу удается сэкономить колоссальное количество ресурсов и времени, повысить качество продукции и сервиса», – считает Кристиан Уэллс.
Ритейлу придется заниматься инновациями. «Пока прибыль растет за счет других средств (геоэкспансия, M & A, расширение спектра товаров, программы лояльности, финансовые инструменты по оптимизации работ с поставщиками, административные модернизации) и покрывает с лихвой убытки от неэффективных решений – тонкая аналитика не требуется. BI решает все вопросы, – рассуждает Илья Шутов. – При падении маржинальности и сильном давлении со стороны конкурентов возникает органическая потребность в усложнении схем работы и предлагаемых сервисов. Тут без аналитики data science становится трудно, если вообще возможно».
В фарватере крупных кораблей идут мелкие лодки – сектор СМБ. Большой бизнес обладает достаточным объемом информации, ему есть что скормить интеллекту. «Средний и малый бизнес использует те наработки, которые сделали крупные игроки рынка, – говорит Юрий Ледаков. – Они просто берут успешные кейсы от первопроходцев, так как самостоятельно не имеют инвестиционных возможностей на внедрение ИИ и не могут позволить себе длительные эксперименты. Применяя некие подготовленные шаблоны и используя облачные сервисы и аутсорсинг, можно меньше тратить собственные ресурсы, которых у СМБ нет. Прибегая к облачным инструментам, они будут пользоваться услугами интеграторов, которые и сформируют для них наиболее удобные бизнес-кейсы».
ИТ-компании, в свою очередь, заняты тем, что правдами и неправдами сокращают стоимость компьютерных вычислений. Чем сильнее упадет стоимость таких вычислений, тем больше бизнес-процессов сможет поглотить искусственный интеллект.
За разумную цену
Кстати, раз уж мы заговорили о деньгах, давайте рассмотрим, сколько нужно готовить для ИИ. «Некоторые решения, такие как Scan & Go, совершенно незатратны, нужны софт и интеграция. В торговую точку покупать ничего не нужно, люди будут использовать свои телефоны. Что получит владелец торговой точки? Эффект в виде снижения ФОТ, роста среднего чека и увеличения частоты визитов в магазин, – говорит Павел Подкорытов. – Но тот же Amazon Go, где для оборудования каждой торговой точки необходимы серьезные вложения в специальные камеры и прочее оборудование, совсем другая история. Каждый проект нужно считать отдельно, тут не скажу ничего нового».
Иногда требуется не только купить новые камеры или программы, но серьезно поменять и ИТ-ландшафт, и архитектурный подход. «Для того чтобы алгоритмы можно было применять, как минимум нужно обеспечить корректный сбор входных данных и построить из них непротиворечивое множество. Степень затратности зависит от подхода. Классический BigData подход – «сначала все соберем, а потом будем разбираться» – крайне дорог и редко бывает успешен. Обратный подход, принятый в науке, – «сначала построим простейшую модель, а потом проведем эксперимент, снимем данные и сверим эксперимент с теорией» – кратно дешевле, меньше по масштабу и сильно эффективнее», – полагает Илья Шутов.
Если речь идет об инхаус-разработке, то серьезных инвестиций не избежать. «И скорее всего надо будет менять подходы к архитектуре. Здесь будут важны правильная аккумуляция данных, их обработка, хранение, формирование результатов – все это означает траты, – подчеркивает Юрий Ледаков. – На практике очень часто к облачным решениям прибегают ритейлеры, сфокусированные на одном бизнесе. Владельцы торговых точек очень хорошо считают и понимают целесообразность выбора. Я думаю, для них сейчас неоправданно входить в построение собственной инфраструктуры с использованием ИИ. Лучший выбор для такого бизнеса – облачные решения».
Стандартные случаи применения ИИ в ритейле
● Алгоритмы прогнозирования временных рядов (ARIMA, Neural Networks), используемые как для планирования поставок, так и для планирования ресурсов ЦОД;
● алгоритмы сингулярного разложения матриц (SVD), используемые в рекомендательных системах;
● алгоритмы дожития (survival analysis), используемые в HR-аналитике и управлении оттоком покупателей;
● статистические алгоритмы для AB-тестирования.
(По версии Ильи Шутова, руководителя направления DataScience компании «Медиа-Тел»).
Поумневшие весы от лидеров
На базе собственной лаборатории инноваций X5 Retail Group разработала «умные» весы – устройство, которое автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты. Оно монтируется на существующую весовую платформу и состоит из камеры и вычислительного модуля, которые передают данные в общую нейросеть. В начале 2020 года весы начали внедрять в магазины.
Интеллектуальные весы позволяют ускорить время операций на кассе, сделать процесс покупок еще более безопасным и удобным для клиентов. По статистике торговой сети «Пятерочка», весовые товары входят в 30% чеков. В течение одного часа кассир взвешивает продукты около 47 раз, каждая операция занимает в среднем 14,5 секунд. «Умные весы» помогают кассирам существенно сократить это время и значительно ускорить обслуживание покупателей.
Система весов, оснащенная компьютерным зрением, самостоятельно распознает товар даже в пакете, таким образом, пропускная способность каждой кассы увеличивается. По статистике компании, только в расчете на один магазин пропускная способность увеличивается на 20 000 человек в год, а годовая экономия времени на обслуживании покупателей на кассе составит не менее 1300 часов.
Пилотирование «умных» весов прошло в 10 магазинах «Пятерочка», где была выявлена точность распознавания объектов до 98,4%. По мере тестирования нейросеть, которая использовалась в системе компьютерного зрения, постоянно обучалась и повышала точность распознавания.
После X5 «умные» весы внедрил «Магнит». Летом 2021 года был запущен пилотный проект в Краснодарском крае в шести супермаркетах «Магнит Семейный». По данным компании, точность распознавания в июле 2021 года составляла около 95%. За счет дообучения в ходе пилота компания планировала довести ее до 99%. Естественное дообучение не требует дополнительных действий от покупателя или персонала магазина – «умные» весы запоминают выбор покупателя при взвешивании товара.
«Умные» весы адаптированы к особенностям весового ассортимента, умеют работать с неотличимой друг от друга по внешним признакам продукцией и успешно распознают один и тот же уникальный товар, внешний вид которого может отличаться в разных магазинах или регионах.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта. Однако даже лидеры рынка не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли. [~PREVIEW_TEXT] => Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта. Однако даже лидеры рынка не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6506 [TIMESTAMP_X] => 16.11.2021 18:33:06 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1667 [WIDTH] => 2500 [FILE_SIZE] => 1733448 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/6fb [FILE_NAME] => 6fb41f1563f3cba3ea58686f48510714.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_651412774.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => c360ecd8d3a42a36b7e336710aca379f [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/6fb/6fb41f1563f3cba3ea58686f48510714.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/6fb/6fb41f1563f3cba3ea58686f48510714.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/6fb/6fb41f1563f3cba3ea58686f48510714.jpg [ALT] => Ум за разум [TITLE] => Ум за разум ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6506 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => um-za-razum [~CODE] => um-za-razum [EXTERNAL_ID] => 6651 [~EXTERNAL_ID] => 6651 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 16.11.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Ум за разум [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Ум за разум [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта. Однако даже лидеры рынка не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Ум за разум [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Ум за разум | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [2] => Array ( [ID] => 6465 [~ID] => 6465 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Магазин звонит в дверь [~NAME] => Магазин звонит в дверь [ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-22 12:44:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-22 12:44:00 [ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 12:44:00 [~ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 12:44:00 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:48:28 [~TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:48:28 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/magazin-zvonit-v-dver/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/magazin-zvonit-v-dver/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
В 2020 году продуктовый онлайн взорвался. Сейчас мы наблюдаем последствия этого большого взрыва. Промежуточный итог таков: доставкой продуктов на дом занялись даже те традиционные офлайн-продавцы, которые изначально не собирались ставить на доставку. И их онлайн-рост впечатляет.

Яркий пример – «ВкусВилл». Когда в 2018 году компания задумалась о пути развития на дороге e-com, было определено три направления: B2B, маркетплейсы и доставка, но стремительно врываться в онлайн – такого фокуса в планах не было. «Были планы выйти в онлайн на 3% общего оборота, тогда мы считали, что если удастся, то это будет вау-эффект», – вспоминала Лариса Романовская, управляющая электронной коммерцией компании «ВкусВилл», в выступлении в ходе TAdviser SammIT 2021. Однако вместо 3% компания получила 30%.
Такого результата не ожидал никто. По результатам рейтинга Infoline Russia Top Online Food Retail за 2020 год компания «ВкусВилл» оказалась на четвертом месте по обороту (14,9 млрд рублей) среди онлайн-продавцов, уступая только гигантам вроде X5 Retail Group (первое место с оборотом в 21,9 млрд рублей), стремительно растущему «Сбермаркету» (20,7 млрд рублей) и продуктовому ветерану Всемирной паутины «Утконосу» (16,4 млрд рублей).
Такой «квантовый скачок» в онлайн даром не обошелся. Пришлось срочно делать собственную доставку. Нельзя сказать, что в доковидную эпоху у компании не было доставки. Но это смотря с чем сравнивать. Если с сегодняшним днем, то кажется, что почти не было. «Собственная доставка была у нас и до пандемии, – рассказывает Олеся Машкина, управляющая технологиями компании «ВкусВилл». – Покупатели могли сделать заказ в отдельном приложении «ВкусВилл Экспресс». Саму доставку помогали делать наши партнеры: «Яндекс.Доставка» и Gett Taxi. Но это приложение не было рассчитано на большое количество заказов. Когда в марте прошлого года случился всплеск заказов от покупателей, вся система рухнула. И перед нами встала новая задача – создать систему для доставки, разработать ее буквально с нуля».
Вначале компания пыталась выплывать на том, что есть, ведь упомянутое приложение было выпущено всего за три месяца до ковида, совсем новое, надо использовать. Не были приспособлены к сборке заказов и магазины. У ритейлера традиционно небольшие по площади торговые точки. Когда сборщиков немного, это терпимо. «До ковида у нас было около тысячи заказов в день, мы считали, что это неплохой результат, потому что воспринимали доставку как сервис, а не как отдельное направление, глобальный бизнес», – говорит Лариса Романовская. Однако если заказов становится больше, сборщиков тоже нужно больше. В результате покупателям, которые пришли собственными ногами в магазин, просто не остается пространства, да и товаров иногда тоже. Посыпались восторги вперемешку с жалобами: «Вы такие классные, отличный онлайн, бесплатная доставка! Только в магазин стало ходить неприятно».
«В первые дни марта 2020 года у нас случился коллапс. Но мы очень быстро вырулили», – замечает Лариса. Коллапс – очень правильное слово. Давайте посмотрим на цифры, помня, что еще в феврале 2020-го у компании было не больше тысячи заказов онлайн. Итак, за март 2020-го – 107 тыс. заказов. За март 2021-го – 2,5 млн заказов, в среднем около 100 тыс. заказов в день.
Устроим темную
«Утконос», старейший игрок на поле продажи еды онлайн, во время карантина тоже столкнулся с вызовами, но не с ИТ, а с персоналом и логистикой. «Во время повышенного спроса на доставку, обусловленного пандемией, «Утконосу Онлайн» не пришлось перестраивать ИТ-процессы, так как у нас цифровизация вписана в ДНК и мы обладаем 20-летней экспертизой в сфере онлайн-продаж», – говорит Мария Артамонова, ИТ-директор компании «Утконос Онлайн». В пиковые дни марта на сайт поступало 3000 запросов в секунду – почти 11 млн в час, рост трафика был на уровне 200–400%. «Пандемия коронавируса стала катализатором для экспоненциального роста онлайн-торговли, особенно продуктов питания. По нашей внутренней оценке, спрос на доставку вырос более чем в три раза. Но наши мобильное приложение и сайт выдерживали нагрузку и работали относительно стабильно. Что касается back-систем, то проблем из-за повышенной нагрузки практически не было. Логистическое ПО, складские системы и весь софт операционной части бизнеса функционировали бесперебойно, – комментирует Мария Артамонова. – Основной вызов, с которым мы столкнулись, – это нехватка сотрудников службы доставки и ограниченность логистических мощностей».
Проблемы с мощностями не обошли стороной и «ВкусВилл». «Мы уже много что сделали, и хотелось больше не делать ничего. Но мы по этому пути не пошли. Мы посмотрели и увидели, что больше ста тысяч заказов в день на текущих ресурсах обработать не сможем, нужно что-то менять», – не отстает Лариса Романовская. Поменять решили место сборки заказов и открыли первый даркстор. Снова маленькое сравнение. Декабрь 2020 года – у ритейлера целых три дарсктора. Немало. Проходит полгода, май 2021 года – «ВкусВилл» открыл 35 дарксторов. Заказы перенаправляются туда.
Похоже, что пандемия стала триггером и для этого процесса тоже. Мы видим более уверенное проникновение дарксторов в российский пейзаж. «Формат дарксторов – это достаточно новый формат для рынка и для логистической отрасли России в целом. На мой взгляд, он более удобен и больше отвечает запросам компаниям сегмента e-grocery тем, что представляет собой «магазин без покупателей», при этом с большим количеством уникальных SKU и возможностью доставлять клиентам ровно то, что они заказали, – рассуждает Мария Артамонова. – Все больше компаний выбирают именно формат дарксторов, а не огромных распределительных центров. Основная задача, которая стояла перед нами, – в кратчайшие сроки расширить и увеличить логистические возможности «Утконоса», чтобы не подводить покупателей. В прошлом году мы успешно, в рекордно короткие сроки, запустили два фулфилмент-центра такого формата: «Мосрентген» и позднее «Волковский», открытие которых позволило нам значительно расширить логистические мощности. Важно отметить, что склад «Волковский» запускался на системе управления складом (Warehouse Management System) in-house разработки».
«Дарксторы бывают разные, – предлагает определиться с терминами Вячеслав Коган, директор по развитию бизнеса направления e-commerce ГК «Корус Консалтинг». – Это может быть крупный логистический центр, который ориентирован только на комплектацию онлайн-заказов. Здесь речь не идет о доставке за несколько часов – такой даркстор предназначен для фулфилмента онлайн-заказов с горизонтом в один или несколько дней. С такими форматами работает, в частности, «Перекресток Впрок». Также дарксторами могут быть небольшие склады с ограниченным ассортиментом, разбросанные по всему городу. Такими вариантами оперируют «Самокат» и «Яндекс.Лавка». Безусловно, экспресс-доставка и дарксторы идут по рынку рука об руку, так как сеть небольших дарксторов, расположенных буквально в каждом дворе, позволяет выполнять заказы очень быстро, обеспечивая, грубо говоря, доставку продуктов к завтраку. Но здесь появляются ограничения: выполнить заказ быстро можно только из ассортимента ближайшего даркстора, и покупателю в мобильном приложении или на сайте показывают только товары в наличии».
По мнению Вячеслава Когана, пандемия повлияла и на проникновение дарксторов, и на их количество – оно по-прежнему активно растет. На начало года общее количество дарксторов в России составляло 650 точек, а к концу года агентство INFOLine прогнозирует рост до 1000 точек. О планах запуска собственных дарксторов объявила даже «Почта России».
«Если говорить об экспресс-доставке в течение 15–30 минут, бизнесу очень важно иметь систему прогнозирования запасов для возможности своевременного пополнения ассортимента ближайшего к покупателю даркстора, автоматизировать ценообразование для управления целевыми показателями по маржинальности с учетом локаций «темных магазинов». Также нужны система распределения заказов курьерам, мобильные приложения для покупателей и сотрудников доставки, а еще возможность перевода чаевых курьерам в электронном виде. Стартовать можно с ограничениями и на существующих системах, как это сделала сеть «Дикси», за пару недель адаптировав платформу «1С:Управление торговлей». Но в дальнейшем при масштабировании бизнеса все равно придется задумываться о применении специализированных систем для разных задач», – полагает Вячеслав Коган.
Одним глазком
Компания «ВкусВилл» рассказала о том, как выглядит в компании ИТ-изнанка процессов сбора и доставки заказов. «Нам нужно было придумать максимально масштабируемое решение, – рассказывает Олеся Машкина. – Если говорить про ИТ-составляющую, это, безусловно, очень важный элемент в системе. Но главная суть на тот момент (март 2020 года) заключалась в продумывании самой технологии. Иными словами, нужно было понять, каким образом мы хотим собирать заказы, чтобы это было быстро и легко масштабируемо. Какую выбрать модель, как курьеры буду забирать заказы, какую технологию распределения заказов придумать. И уже после определения этих целей и задач подключалась ИТ-разработка».
В течение двух месяцев каждый день команда придумывала и создавала различные инструменты, проверяла гипотезы. Где-то половина из них получилась. Половина оказалась вовсе не нужной, но без них не удалось бы найти те самые, нужные, инструменты. «То, что у нас получилось придумать и создать, позволило полностью перезапустить процесс доставки всего за два месяца, а потом масштабировать его на нашей системе. Созданная тогда архитектура позволяет сейчас доставлять 100 000 заказов в день. Но при этом мы каждый день придумываем и реализуем технологии, позволяющие нам расти, – говорит Олеся Машкина. – У нас есть единая база данных MS SQL. Все разработки осуществляются на аутсорсе компанией «Автоматизация и консалтинг», которая помогает работать в основном с 1С и архитектурными решениями. И компанией «Фулстек», которая отвечает больше за web и мобильное приложение».
Чтобы быстро перезапуститься в период пандемии, за два месяца нужно было увидеть всю систему целиком, переработать и сайт, и мобильное приложение, обеспечить весь клиентский путь с нормальной системой оплаты, наладить систему поиска товаров. Создать омниканальность обращений к системе данных.
Путь заказа от оформления до двери покупателя выглядит так: как только заказ поступает в систему, начинается его сборка. «Мы также создали новую технологию и стали собирать все заказы на кассах, что позволило нам подключать магазин к доставке одной галочкой в 1С. Если раньше мы собирали заказы только на кассах, то сейчас с учетом появления дарксторов создаем и тестируем новые технологии в сборке: активно собираем на ТСД (терминал сбора данных на складе), при помощи «умных» тележек, тестируем параллельную (когда один сборщик собирает несколько заказов) и конвейерную сборки», – описывает Олеся.
После того как заказ собран, его передают курьерам. «У нас есть собственные курьеры (порядка 2000 сотрудников) и курьеры наших партнеров (различные операторы такси), – говорит Олеся Машкина. – Либо заказ переходит нашему курьеру, либо партнеру. И это значит, что у нашего курьера должно быть наше приложение для доставки. С партнерами же у нас качественная интеграция. Еще один важнейший пункт в нашей ИТ-системе – это поддержка: CRM, чат-боты, телефония. Все, что помогает решать возникающие у покупателей вопросы. Инструментов очень много, и мы всегда стараемся найти самые оптимальные».
В «Утконосе» тоже поделились деталями ИТ-кухни доставки. По словам Марии Артамоновой, она составлена из нескольких сервисов. Во-первых, из Transport Management System (TMS), важной части управления цепью поставок. Это набор инструментов, который позволяет поставщикам, перевозчикам и заказчикам автоматизировать логистические процессы, сокращать расходы на перевозки и экономить время. «Данная система состоит из нескольких модулей, которые отвечают за управление способами доставки, временными интервалами, стоимостью, ограничениями, за изменение информации по заказу, за оценку доступности интервалов для витрин с учетом поступивших заказов и текущей емкости доставки, за справочник способов доставки, клиентских услуг и ограничений, за репозиторий интервалов доставки и кат-оффов, операции с интервалами, за расчет сервисного времени вручения по составу корзины, набору клиентских услуг и за сервис сбора телеметрии с автотранспортных средств», – объясняет Мария Артамонова.
Идем далее: Terminal Service отвечает за управление сетью доставки в пунктах самовывоза – продуктоматах. Layout Service – это сервис раскладки корзины по пакетам, коробам для транспортировки, ячейкам в продуктоматах, он ведет учет зон хранения и групп фрахта. Courier Delivery помогает управлять операционным днем курьерской службы доставки.
«В эту систему входят модули, которые отвечают за приложение курьера, откуда он получает информацию о рейсе, видит актуальные заказы, проходит анкетирование, получает отчеты по рейсу, приложение для механика (фиксирование результатов предрейсового ТО)», – комментирует Мария Артамонова.
Resource Management – управление ресурсами курьерской доставки – это справочник автомобилей, курьеров, времени / сменности работы, планирование / прогноз ресурсов, формирование графиков и нарядов. В эту систему входят web-интерфейсы для работы следующих ролей групп пользователей: начальника автоколонн (планирование автотранспорта для выхода в рейс, управление транспортом, водителями), бригадиров, диспетчеров.
Наконец, терминал сбора данных (ТСД) – это приложение для комплектовщиков фулфилмент-центров, откуда они получают складские задания.
Не взлетим, так поплаваем
Говоря о доставке, нельзя не вспомнить экзотику. Да, про дроны говорили много, но они так и не «взлетели», и технологии тут ни при чем. А вот роботы уже начали ездить по улицам Москвы. Прохожие периодически выкладывают в сеть видеоролики, на которых робот ждет у светофора, аккуратно переходит дорогу или пробирается сквозь сугробы. Бродяга ровер от «Яндекса» «вышел в люди» в декабре 2020 года. А с апреля 2021 года их роботы начали доставлять продукты из магазинов. Первыми к программе подключились «Азбука вкуса» и «ВкусВилл».
«Мы любим тестировать новые форматы, поэтому поддержали идею с подключением ровера к одному из наших магазинов. Сейчас заказов с таким способом доставки немного, но роботов в качестве курьеров выбирают стабильно», – рассказывает Олеся Машкина. Однако, по ее словам, пока это не масштабная история. Среди плюсов был назван один и очень явный: ровер может спокойно дождаться окончания сборки заказа, если приехал раньше времени. «А плюс для покупателей помимо того, что такая доставка сама по себе интересный интерактив, еще и в том, что она всегда бесплатная», – отмечает Олеся.
Действительно, этот курьер в зарплате не нуждается. Мы поинтересовались у «Утконоса», считают ли они новинку применимой в своей практике. «В ближайшее время мы не планируем подобного сотрудничества, но в будущем, если такой проект имеет хорошую экономику, можно рассмотреть этот вариант», – ответила Мария Артамонова.
«Пока это все же экзотика: не более чем интересный эксперимент, – оценивает перспективы необычных средств доставки Вячеслав Коган. – О массовости подобных решений говорить не приходится. Их распространению препятствуют климат в России, недостаточно развитая городская среда, обилие многоэтажных домов (такой робот не сможет обеспечить доставку на этаж) и многое другое. Однако индустрия движется и быстро развивается, и наблюдать за этим очень интересно. В мире уже тоже есть несколько таких кейсов-концептов: роботы-доставщики на колесах («Яндекс.Ровер» и Starship Technologies), дроны (Amazon Prime), роботы, которые поднимаются по ступенькам (Continental Urban Mobility Experience (CUbE). Будущее приближается, и от этого захватывает дух!»
Обменный пункт
Чуть меньшая экзотика, но все же решение, которое пока не очень ассоциируется с доставкой, – это постаматы. За последние годы они очень сильно прокачались. Их можно найти где угодно: в торговых центрах, в маленьких магазинчиках у дома, есть даже проекты по постаматам в подъездах. Это тем более оправданно, что постамат может работать не только на выдачу, но и на прием, став точкой связи между клиентом и бизнесом или даже между двумя физическими лицами.
Эксперименты с приемом через постаматы пару лет назад проводила московская химчистка кроссовок Sole Fresh. Человек кладет грязные кроссовки в ячейку, компания их забирает, а после очистки снова кладет их в постамат. Точно так же можно отсылать и получать документы, ключи от квартиры – да что угодно. Разработчики подобных систем будущего собираются предусмотреть возможность удаленного управления устройствами. А сами ячейки будут сообщать своему «работодателю», если они вдруг сломаются или загрязнятся.
А что с едой? Тут тоже все в порядке. Постаматы, которые умеют контролировать внутри себя температуру, называются продуктоматы. Туда можно положить заморозку, молоко или даже лекарства. Продукты, которым холодильник не нужен, помещают в ящики с температурой +20 °С. В Москве направление продуктоматов развивает сервис Freshlocker. Среди партнеров – «Перекресток», «Азбука вкуса», Ozon и другие ритейлеры.

Почему такие продуктоматы могут стать «новым магазином у дома»? Не всем нравятся курьеры, которых нужно ждать, которые часто носят еду в не самых свежих сумках, которые заходят в дом и могут создать этим дискомфорт у одиноких женщин, стариков и детей. Случаи бывали разные. Курьер Delivery Сlub принес заказ, а после решил воспользоваться оставшимся у него мобильным номером и написал клиентке в мессенджер, предложив «зайти на полчасика и провести время вместе», пока ее мужа нет дома. Компания срочно вынуждена была решать проблему и пообещала, что теперь от курьеров будут скрывать мобильные номера клиентов после выполнения заказов. «Но адрес-то он все равно будет знать, его не скроешь», – заметили пользователи Facebook, в котором эта история и получила огласку. Кстати, случай не единичный, комментаторы вспомнили, что и им писали курьеры, некоторые даже через пару месяцев после того, как осуществили доставку.
«Мы считаем, что это направление перспективное, и сейчас значительно расширили сеть продуктоматов, – поясняет Мария Артамонова. – В распоряжении компании 100 пунктов самовывоза. Этот удобный формат фуд-шопинга, благодаря которому можно получить заказ на следующий день после оформления без ожидания курьера. Кроме того, в середине лета мы планируем запуск пилотного проекта продажи готовой кулинарии собственной торговой марки «#Пойдупоем» через микромаркеты, которые компания установит в бизнес-центрах и в жилых комплексах Москвы. На начальном этапе будет установлено несколько десятков микромаркетов. В этом формате выбрать и получить товар можно на месте. Покупателям будет предложен ассортимент из 30 наименований супов, вторых блюд и блинчиков».
Предполагается, что проект обеспечит дополнительное продвижение СТМ компании, познакомит покупателей с «Утконос Онлайн» через сиюминутную покупку, а также обеспечит дополнительный спрос на готовую еду, который стал трендом и ежегодно показывает положительную динамику, например, сейчас это плюс 60% относительно прошлого года.
Как начать
Согласно недавнему опросу KPMG, международной сети консалтинга и аудита, почти все офлайн-ритейлеры в России озаботились доставкой. Лишь 5% опрошенных не планируют ее внедрять. «Даже те, кто решил не внедрять собственную доставку, скорее всего, будут работать с каким-нибудь агрегатором, – считает Вячеслав Коган. – Получается, что такая функция у этих ритейлеров все равно будет. Упускать эту возможность в нынешних условиях неправильно».
Но и те магазины, которые уже начали работать с доставкой, часто находятся в самом начале пути. Крупным компаниям целесообразно разрабатывать и внедрять собственную систему управления доставкой (Customer Delivery System). Подобные системы позволяют улучшить качество и ускорить планирование доставки, так считает Сергей Цветаев, директор по развитию бизнеса компании «Норбит» (входит в группу «Ланит»): «Эти плюсы достигаются благодаря усилению контроля за работой транспортных компаний: мониторинга процессов доставки в режиме реального времени и возможности выявлять проблемы в автоматическом режиме. Система доставки обеспечивает точный учет затрат и оптимизирует себестоимость перевозок. В таких проектах немаловажным фактором считается и обеспечение безопасности персональных данных клиентов при передаче их транспортным компаниям».
Обычно CDS состоит из четырех блоков: планирование и маршрутизация, мониторинг и исполнение, мобильное приложение курьера, администрирование. Система «цепляет» данные о комплектации заказов, подбирает транспорт в зависимости от габаритов груза и далее отвечает за погрузку предметов в нужном порядке с учетом оптимизационной задачи «рюкзака». Например, у одного водителя может быть восемь рейсов, и, если положить заказы в неправильном порядке, то придется разгружать всю машину.
В качестве трекинга можно использовать как собственный нарисованный сервис, так и подключить «Яндекс.Маршрутизацию». За всеми процессами следит логист-оператор: он знает о местоположении машин, а также созванивается с заказчиком (предупреждает о времени доставки). Чем сложнее и габаритнее груз, тем больше требуется административной работы. Финальный этап доставки товара покупателю («последняя миля») помогают оптимизировать технологии Big Data. Они подсказывают ритейлерам, как оперативно перестроить маршрут и подобрать подходящий транспорт для конкретного заказа. «Сервисы учитывают большое количество характеристик при ежедневном создании маршрутов: зоны доставки, пробки, ремонт дорог, выбор транспорта, совместимость грузов, упаковка товаров и т. п., – комментирует Сергей Цветаев. – Подобный сервис команда «Норбит» создала для сети строительных магазинов «Леруа Мерлен». Конечно, эталоном «последней мили» можно считать сервисы Amazon».
Данил Шелехов, руководитель логистической платформы «Яндекс.Маршрутизация», считает, что на первых этапах запуска собственной доставки компании нужно автоматизировать четыре важные задачи: сбор заказов, планирование маршрутов, контроль их выполнения и сервисную поддержку клиента. По его мнению, в первую очередь нужно задуматься о CRM-системе, которая позволит систематизировать обработку заказов. Желательно, чтобы у нее была возможность интеграции с системой бухгалтерского учета, например, с 1С. Кроме того, необходимо автоматизировать и формализовать процесс обработки заявки, чтобы решить вопрос с тем, как они будут попадать в CRM. Это можно делать вручную, а можно настроить автоматическую синхронизацию с сайтом.
После того, как заказы приняты, предстоит решить следующую задачу: спланировать маршруты доставки для курьеров. Для того чтобы учесть все пожелания клиентов и возможности курьеров их выполнить, требуется автоматизация этого процесса. «Самое простое решение на старте бизнеса, когда объемы небольшие, а заказы доставляют один-два курьера – воспользоваться бесплатной автоматической оптимизацией маршрута прямо на «Яндекс.Картах», – предлагает Данил Шелехов. – Для каждого маршрута можно добавить до 50 адресов, а также указать дату и время старта маршрута, чтобы правильно учесть пробки. Кнопка «оптимизировать» появится после добавления четвертой точки и поможет построить оптимальный маршрут в автоматическом режиме».
С увеличением объема и появлением новых курьеров задача по построению маршрута усложняется. Некоторые компании тратят на планирование несколько часов, тогда как с помощью ИТ-решения можно за пару минут перебрать миллионы возможных комбинаций и приблизиться к оптимуму, который поможет снизить стоимость доставки. «По нашим замерам, автоматическое решение стабильно превосходит ручное на 20%», – уверяет Данил.
После того как маршрут построен, наступает равнозначный по важности этап – выполнение этого маршрута. Для автоматизации данного участка существуют мобильные приложения, где каждый курьер будет видеть свой маршрут, а логист – состояние доставки по всем курьерам. Работает это так: приложение передает GPS-сигнал по мере выполнения маршрута. Таким образом, логист видит трек курьера, последовательность прохождения точек и изменение статуса доставки. Как правило, такие приложения идут в связке с системами автоматической маршрутизации.
Разумеется, не все существующие на рынке решения жизненно необходимы. Есть ПО обязательное, а есть – опциональное. Выбор обязательного софта напрямую связан с задачами и приоритетами бизнеса. «С точки зрения финансовой выгоды в первую очередь необходима автоматизация процесса планирования маршрутов, – подчеркивает Данил. – Для простого примера, иллюстрирующего пользу автоматической маршрутизации, возьмем задачу по доставке тысячи заказов в день. Допустим, что до внедрения алгоритмов планирования маршрут курьера состоял из 20 точек. Это значит, что для доставки 150 заказов потребуется около семи машин. В результате автоматической маршрутизации маршруты уплотняются, и курьер успевает обработать не 20, а уже 25 заказов. Значит, для доставки 150 заказов потребуется не семь, а уже шесть машин. Разница в одну машину, расходы на которые составляют пять тысяч рублей в день, или 150 тысяч в месяц, и будут прямым экономическим эффектом автоматизации».
По мнению Ашота Григоряна, директора по развитию бизнеса компании Life Pay, обязательным является курьерское приложение с возможностью управлять заказом, принимать оплату, пробивать онлайн-чеки и отправлять актуальный статус в учетную систему. Опциональные функции – маршрутизация, онлайн-контроль, автоматизация сбора обратной связи, управление тайм-слотами. «Чем больше требований к уровню и скорости доставки, тем больше сервисов необходимо», – говорит он.
Весь процесс – от заказа на сайте до передачи товара клиенту – должен быть оцифрован. На складе, как правило, работники используют корпоративные смартфоны со специальным сканером либо терминалы сбора данных (ТСД). «В случае с курьерами все зависит от бизнеса и его модели, – подчеркивает Ашот. – Если сотрудники работают в штате, то материальная ответственность лежит на них, и в этом случае лучше купить профессиональное оборудование. Если курьеры на аутсорсе, то любой смартфон на платформе Android поможет в работе с заказом: поиск, работа с позициями, выбор способа оплаты, непосредственно оплата и передача данных в информационную систему компании».
Дорогое удовольствие
Наконец-то мы заговорили о деньгах. Сколько нужно инвестиций в ИТ, чтобы ритейлер получил собственную отличную доставку? «Масштабируемое решение без ограничений в интеграции, способное справиться с объемами от 3000 заказов в день, обойдется примерно в 50 млн руб., – говорит Ашот Григорян. – Если пользоваться готовым SaaS-решением, стоимость обработки заказа будет примерно 20 руб., но это не включая затраты на работу курьера (до 300 руб.). Разделений по типу ритейлера не существует. Основной вопрос – в объеме заказов».
«Разработка Customer Delivery System, о которой я говорил, может стоить от 100 до 200 млн руб., – комментирует Сергей Цветаев. – И на реализацию проекта требуется один-два года в зависимости от масштаба. Может показаться, что если использовать сервисы подписки или коробочные решения, то система доставки будет стоить дешевле. Однако здесь главное – понять, чего хочет заказчик и какие у него планы развития. Нужно учитывать, что с увеличением количества отгрузок вырастет стоимость подписки на сервисы доставки, а коробочное решение ограничено по кастомизации и доработке. По нашему опыту, к собственной разработке приходят ритейлеры, которые сначала попробовали коробочное решение, потом перешли на подписку, далее подняли подписку до определенного уровня отгрузки и поняли, что это обходится им очень дорого. Пройдя весь этот путь, компании решают разработать собственную систему доставки».
Быть может, все-таки проще делегировать эту область партнерам? Если посмотреть на опыт торговых компаний, то мы видим, что каждый этот вопрос решает по-своему. Metro изначально пользуется партнерскими решениями, тогда как сеть «ВкусВилл» принципиально с самого начала ориентировалась только на себя. «На наш взгляд, оптимальный путь – организовать собственную доставку, а также пользоваться ресурсами партнеров, например, «СберМаркетом» и прочими сервисами, как это делают «Перекресток», «Азбука вкуса», Metro. Аудитория сетей и партнеров пересекается минимально, поэтому у ритейлеров появляется дополнительный канал продаж», – разъясняет Ашот Григорян.
Выбор подхода к доставке зависит не от типа ритейлера, а от того, что именно и насколько быстро он хочет запустить. Так считает Данил Шелехов: «Если компании нужен простой вариант, например, доставка до клиента на следующий день и позднее, то он вполне может начать запуск собственной курьерской службы. Однако при более сложной схеме – доставке день в день или экспресс-доставке – потребуется больше ресурсов и логистической экспертизы. Кроме того, играет роль и временной фактор: если у всех конкурентов уже есть доставка и запуститься нужно быстро, то времени на запуск собственной службы может не хватить».
В случаях сжатых сроков и сложности доставки ритейлеры чаще обращаются к партнерам за той самой логистической экспертизой, чтобы оценить экономический эффект. «Мы видим, что через один-два года работы с партнерами компании задумываются о своей доставке, – рассказывает Данил Шелехов. – Как правило, ее запускают те компании, для которых доставка является важным бизнес-процессом с точки зрения бренда и конкуренции на рынке. Кроме того, своя доставка более гибкая и управляемая, чем партнерская, а чем крупнее компания, тем больше зон для оптимизации у нее возникает».
Подходы к организации доставки самые разные. Можно отдать сборку и доставку на аутсорсинг, что позволит обеспечить большую удовлетворенность покупателя. «У внешнего сборщика не будет стимула положить в корзину продукт с истекающим сроком годности и вызвать этим негатив потребителей, – рассуждает Вячеслав Коган. – Другой подход – полный контроль фулфилмента (хранения и доставки). Некоторым ритейлерам это дает уверенность в качественном выполнении заказа. Единого рецепта не существует».
Чтобы получить отличную собственную доставку, недостаточно только инвестиций в ИТ, хотя они тоже будут немаленькими. К ним относится адаптация существующей системы товарного и финансового учета, внедрение платформ прогнозирования спроса и ИТ-решений, обеспечивающих своевременную подсортировку продукции. Также необходимы автоматизация тачпойнтов для сбора заказов (веб-сайт, мобильное приложение, колл-центр), система ценообразования и средства для приема платежей курьерами. И нужно заложить расходы на собственный автопарк, зарплаты сборщикам, доставщикам, водителям, сотрудникам колл-центра и много чего еще.
Хит-парад ошибок
Не все розничные сети задумываются о масштабировании своих ИТ-решений, тогда системы перестают справляться при взрывном росте спроса. «Такую проблему хорошо продемонстрировала пандемия, – напоминает Вячеслав Коган, – когда в ее начале почти все сайты и приложения доставки просто «лежали».
По мнению Данила Шелехова, серьезной проблемой могут стать ошибки в исходных данных. Часто они хранятся разрозненно и не приведены к единому виду. В результате алгоритм планирования не может их корректно обработать, поэтому приходится потратить время на систематизирование и упорядочивание исходной информации.
Некоторые компании воспринимают автоматизацию как фоновый процесс, в результате чего ее завершение сильно затягивается. Конечные сроки и следующие действия должны быть понятными, а у проекта должен быть один ответственный руководитель.
[~DETAIL_TEXT] =>
В 2020 году продуктовый онлайн взорвался. Сейчас мы наблюдаем последствия этого большого взрыва. Промежуточный итог таков: доставкой продуктов на дом занялись даже те традиционные офлайн-продавцы, которые изначально не собирались ставить на доставку. И их онлайн-рост впечатляет.

Яркий пример – «ВкусВилл». Когда в 2018 году компания задумалась о пути развития на дороге e-com, было определено три направления: B2B, маркетплейсы и доставка, но стремительно врываться в онлайн – такого фокуса в планах не было. «Были планы выйти в онлайн на 3% общего оборота, тогда мы считали, что если удастся, то это будет вау-эффект», – вспоминала Лариса Романовская, управляющая электронной коммерцией компании «ВкусВилл», в выступлении в ходе TAdviser SammIT 2021. Однако вместо 3% компания получила 30%.
Такого результата не ожидал никто. По результатам рейтинга Infoline Russia Top Online Food Retail за 2020 год компания «ВкусВилл» оказалась на четвертом месте по обороту (14,9 млрд рублей) среди онлайн-продавцов, уступая только гигантам вроде X5 Retail Group (первое место с оборотом в 21,9 млрд рублей), стремительно растущему «Сбермаркету» (20,7 млрд рублей) и продуктовому ветерану Всемирной паутины «Утконосу» (16,4 млрд рублей).
Такой «квантовый скачок» в онлайн даром не обошелся. Пришлось срочно делать собственную доставку. Нельзя сказать, что в доковидную эпоху у компании не было доставки. Но это смотря с чем сравнивать. Если с сегодняшним днем, то кажется, что почти не было. «Собственная доставка была у нас и до пандемии, – рассказывает Олеся Машкина, управляющая технологиями компании «ВкусВилл». – Покупатели могли сделать заказ в отдельном приложении «ВкусВилл Экспресс». Саму доставку помогали делать наши партнеры: «Яндекс.Доставка» и Gett Taxi. Но это приложение не было рассчитано на большое количество заказов. Когда в марте прошлого года случился всплеск заказов от покупателей, вся система рухнула. И перед нами встала новая задача – создать систему для доставки, разработать ее буквально с нуля».
Вначале компания пыталась выплывать на том, что есть, ведь упомянутое приложение было выпущено всего за три месяца до ковида, совсем новое, надо использовать. Не были приспособлены к сборке заказов и магазины. У ритейлера традиционно небольшие по площади торговые точки. Когда сборщиков немного, это терпимо. «До ковида у нас было около тысячи заказов в день, мы считали, что это неплохой результат, потому что воспринимали доставку как сервис, а не как отдельное направление, глобальный бизнес», – говорит Лариса Романовская. Однако если заказов становится больше, сборщиков тоже нужно больше. В результате покупателям, которые пришли собственными ногами в магазин, просто не остается пространства, да и товаров иногда тоже. Посыпались восторги вперемешку с жалобами: «Вы такие классные, отличный онлайн, бесплатная доставка! Только в магазин стало ходить неприятно».
«В первые дни марта 2020 года у нас случился коллапс. Но мы очень быстро вырулили», – замечает Лариса. Коллапс – очень правильное слово. Давайте посмотрим на цифры, помня, что еще в феврале 2020-го у компании было не больше тысячи заказов онлайн. Итак, за март 2020-го – 107 тыс. заказов. За март 2021-го – 2,5 млн заказов, в среднем около 100 тыс. заказов в день.
Устроим темную
«Утконос», старейший игрок на поле продажи еды онлайн, во время карантина тоже столкнулся с вызовами, но не с ИТ, а с персоналом и логистикой. «Во время повышенного спроса на доставку, обусловленного пандемией, «Утконосу Онлайн» не пришлось перестраивать ИТ-процессы, так как у нас цифровизация вписана в ДНК и мы обладаем 20-летней экспертизой в сфере онлайн-продаж», – говорит Мария Артамонова, ИТ-директор компании «Утконос Онлайн». В пиковые дни марта на сайт поступало 3000 запросов в секунду – почти 11 млн в час, рост трафика был на уровне 200–400%. «Пандемия коронавируса стала катализатором для экспоненциального роста онлайн-торговли, особенно продуктов питания. По нашей внутренней оценке, спрос на доставку вырос более чем в три раза. Но наши мобильное приложение и сайт выдерживали нагрузку и работали относительно стабильно. Что касается back-систем, то проблем из-за повышенной нагрузки практически не было. Логистическое ПО, складские системы и весь софт операционной части бизнеса функционировали бесперебойно, – комментирует Мария Артамонова. – Основной вызов, с которым мы столкнулись, – это нехватка сотрудников службы доставки и ограниченность логистических мощностей».
Проблемы с мощностями не обошли стороной и «ВкусВилл». «Мы уже много что сделали, и хотелось больше не делать ничего. Но мы по этому пути не пошли. Мы посмотрели и увидели, что больше ста тысяч заказов в день на текущих ресурсах обработать не сможем, нужно что-то менять», – не отстает Лариса Романовская. Поменять решили место сборки заказов и открыли первый даркстор. Снова маленькое сравнение. Декабрь 2020 года – у ритейлера целых три дарсктора. Немало. Проходит полгода, май 2021 года – «ВкусВилл» открыл 35 дарксторов. Заказы перенаправляются туда.
Похоже, что пандемия стала триггером и для этого процесса тоже. Мы видим более уверенное проникновение дарксторов в российский пейзаж. «Формат дарксторов – это достаточно новый формат для рынка и для логистической отрасли России в целом. На мой взгляд, он более удобен и больше отвечает запросам компаниям сегмента e-grocery тем, что представляет собой «магазин без покупателей», при этом с большим количеством уникальных SKU и возможностью доставлять клиентам ровно то, что они заказали, – рассуждает Мария Артамонова. – Все больше компаний выбирают именно формат дарксторов, а не огромных распределительных центров. Основная задача, которая стояла перед нами, – в кратчайшие сроки расширить и увеличить логистические возможности «Утконоса», чтобы не подводить покупателей. В прошлом году мы успешно, в рекордно короткие сроки, запустили два фулфилмент-центра такого формата: «Мосрентген» и позднее «Волковский», открытие которых позволило нам значительно расширить логистические мощности. Важно отметить, что склад «Волковский» запускался на системе управления складом (Warehouse Management System) in-house разработки».
«Дарксторы бывают разные, – предлагает определиться с терминами Вячеслав Коган, директор по развитию бизнеса направления e-commerce ГК «Корус Консалтинг». – Это может быть крупный логистический центр, который ориентирован только на комплектацию онлайн-заказов. Здесь речь не идет о доставке за несколько часов – такой даркстор предназначен для фулфилмента онлайн-заказов с горизонтом в один или несколько дней. С такими форматами работает, в частности, «Перекресток Впрок». Также дарксторами могут быть небольшие склады с ограниченным ассортиментом, разбросанные по всему городу. Такими вариантами оперируют «Самокат» и «Яндекс.Лавка». Безусловно, экспресс-доставка и дарксторы идут по рынку рука об руку, так как сеть небольших дарксторов, расположенных буквально в каждом дворе, позволяет выполнять заказы очень быстро, обеспечивая, грубо говоря, доставку продуктов к завтраку. Но здесь появляются ограничения: выполнить заказ быстро можно только из ассортимента ближайшего даркстора, и покупателю в мобильном приложении или на сайте показывают только товары в наличии».
По мнению Вячеслава Когана, пандемия повлияла и на проникновение дарксторов, и на их количество – оно по-прежнему активно растет. На начало года общее количество дарксторов в России составляло 650 точек, а к концу года агентство INFOLine прогнозирует рост до 1000 точек. О планах запуска собственных дарксторов объявила даже «Почта России».
«Если говорить об экспресс-доставке в течение 15–30 минут, бизнесу очень важно иметь систему прогнозирования запасов для возможности своевременного пополнения ассортимента ближайшего к покупателю даркстора, автоматизировать ценообразование для управления целевыми показателями по маржинальности с учетом локаций «темных магазинов». Также нужны система распределения заказов курьерам, мобильные приложения для покупателей и сотрудников доставки, а еще возможность перевода чаевых курьерам в электронном виде. Стартовать можно с ограничениями и на существующих системах, как это сделала сеть «Дикси», за пару недель адаптировав платформу «1С:Управление торговлей». Но в дальнейшем при масштабировании бизнеса все равно придется задумываться о применении специализированных систем для разных задач», – полагает Вячеслав Коган.
Одним глазком
Компания «ВкусВилл» рассказала о том, как выглядит в компании ИТ-изнанка процессов сбора и доставки заказов. «Нам нужно было придумать максимально масштабируемое решение, – рассказывает Олеся Машкина. – Если говорить про ИТ-составляющую, это, безусловно, очень важный элемент в системе. Но главная суть на тот момент (март 2020 года) заключалась в продумывании самой технологии. Иными словами, нужно было понять, каким образом мы хотим собирать заказы, чтобы это было быстро и легко масштабируемо. Какую выбрать модель, как курьеры буду забирать заказы, какую технологию распределения заказов придумать. И уже после определения этих целей и задач подключалась ИТ-разработка».
В течение двух месяцев каждый день команда придумывала и создавала различные инструменты, проверяла гипотезы. Где-то половина из них получилась. Половина оказалась вовсе не нужной, но без них не удалось бы найти те самые, нужные, инструменты. «То, что у нас получилось придумать и создать, позволило полностью перезапустить процесс доставки всего за два месяца, а потом масштабировать его на нашей системе. Созданная тогда архитектура позволяет сейчас доставлять 100 000 заказов в день. Но при этом мы каждый день придумываем и реализуем технологии, позволяющие нам расти, – говорит Олеся Машкина. – У нас есть единая база данных MS SQL. Все разработки осуществляются на аутсорсе компанией «Автоматизация и консалтинг», которая помогает работать в основном с 1С и архитектурными решениями. И компанией «Фулстек», которая отвечает больше за web и мобильное приложение».
Чтобы быстро перезапуститься в период пандемии, за два месяца нужно было увидеть всю систему целиком, переработать и сайт, и мобильное приложение, обеспечить весь клиентский путь с нормальной системой оплаты, наладить систему поиска товаров. Создать омниканальность обращений к системе данных.
Путь заказа от оформления до двери покупателя выглядит так: как только заказ поступает в систему, начинается его сборка. «Мы также создали новую технологию и стали собирать все заказы на кассах, что позволило нам подключать магазин к доставке одной галочкой в 1С. Если раньше мы собирали заказы только на кассах, то сейчас с учетом появления дарксторов создаем и тестируем новые технологии в сборке: активно собираем на ТСД (терминал сбора данных на складе), при помощи «умных» тележек, тестируем параллельную (когда один сборщик собирает несколько заказов) и конвейерную сборки», – описывает Олеся.
После того как заказ собран, его передают курьерам. «У нас есть собственные курьеры (порядка 2000 сотрудников) и курьеры наших партнеров (различные операторы такси), – говорит Олеся Машкина. – Либо заказ переходит нашему курьеру, либо партнеру. И это значит, что у нашего курьера должно быть наше приложение для доставки. С партнерами же у нас качественная интеграция. Еще один важнейший пункт в нашей ИТ-системе – это поддержка: CRM, чат-боты, телефония. Все, что помогает решать возникающие у покупателей вопросы. Инструментов очень много, и мы всегда стараемся найти самые оптимальные».
В «Утконосе» тоже поделились деталями ИТ-кухни доставки. По словам Марии Артамоновой, она составлена из нескольких сервисов. Во-первых, из Transport Management System (TMS), важной части управления цепью поставок. Это набор инструментов, который позволяет поставщикам, перевозчикам и заказчикам автоматизировать логистические процессы, сокращать расходы на перевозки и экономить время. «Данная система состоит из нескольких модулей, которые отвечают за управление способами доставки, временными интервалами, стоимостью, ограничениями, за изменение информации по заказу, за оценку доступности интервалов для витрин с учетом поступивших заказов и текущей емкости доставки, за справочник способов доставки, клиентских услуг и ограничений, за репозиторий интервалов доставки и кат-оффов, операции с интервалами, за расчет сервисного времени вручения по составу корзины, набору клиентских услуг и за сервис сбора телеметрии с автотранспортных средств», – объясняет Мария Артамонова.
Идем далее: Terminal Service отвечает за управление сетью доставки в пунктах самовывоза – продуктоматах. Layout Service – это сервис раскладки корзины по пакетам, коробам для транспортировки, ячейкам в продуктоматах, он ведет учет зон хранения и групп фрахта. Courier Delivery помогает управлять операционным днем курьерской службы доставки.
«В эту систему входят модули, которые отвечают за приложение курьера, откуда он получает информацию о рейсе, видит актуальные заказы, проходит анкетирование, получает отчеты по рейсу, приложение для механика (фиксирование результатов предрейсового ТО)», – комментирует Мария Артамонова.
Resource Management – управление ресурсами курьерской доставки – это справочник автомобилей, курьеров, времени / сменности работы, планирование / прогноз ресурсов, формирование графиков и нарядов. В эту систему входят web-интерфейсы для работы следующих ролей групп пользователей: начальника автоколонн (планирование автотранспорта для выхода в рейс, управление транспортом, водителями), бригадиров, диспетчеров.
Наконец, терминал сбора данных (ТСД) – это приложение для комплектовщиков фулфилмент-центров, откуда они получают складские задания.
Не взлетим, так поплаваем
Говоря о доставке, нельзя не вспомнить экзотику. Да, про дроны говорили много, но они так и не «взлетели», и технологии тут ни при чем. А вот роботы уже начали ездить по улицам Москвы. Прохожие периодически выкладывают в сеть видеоролики, на которых робот ждет у светофора, аккуратно переходит дорогу или пробирается сквозь сугробы. Бродяга ровер от «Яндекса» «вышел в люди» в декабре 2020 года. А с апреля 2021 года их роботы начали доставлять продукты из магазинов. Первыми к программе подключились «Азбука вкуса» и «ВкусВилл».
«Мы любим тестировать новые форматы, поэтому поддержали идею с подключением ровера к одному из наших магазинов. Сейчас заказов с таким способом доставки немного, но роботов в качестве курьеров выбирают стабильно», – рассказывает Олеся Машкина. Однако, по ее словам, пока это не масштабная история. Среди плюсов был назван один и очень явный: ровер может спокойно дождаться окончания сборки заказа, если приехал раньше времени. «А плюс для покупателей помимо того, что такая доставка сама по себе интересный интерактив, еще и в том, что она всегда бесплатная», – отмечает Олеся.
Действительно, этот курьер в зарплате не нуждается. Мы поинтересовались у «Утконоса», считают ли они новинку применимой в своей практике. «В ближайшее время мы не планируем подобного сотрудничества, но в будущем, если такой проект имеет хорошую экономику, можно рассмотреть этот вариант», – ответила Мария Артамонова.
«Пока это все же экзотика: не более чем интересный эксперимент, – оценивает перспективы необычных средств доставки Вячеслав Коган. – О массовости подобных решений говорить не приходится. Их распространению препятствуют климат в России, недостаточно развитая городская среда, обилие многоэтажных домов (такой робот не сможет обеспечить доставку на этаж) и многое другое. Однако индустрия движется и быстро развивается, и наблюдать за этим очень интересно. В мире уже тоже есть несколько таких кейсов-концептов: роботы-доставщики на колесах («Яндекс.Ровер» и Starship Technologies), дроны (Amazon Prime), роботы, которые поднимаются по ступенькам (Continental Urban Mobility Experience (CUbE). Будущее приближается, и от этого захватывает дух!»
Обменный пункт
Чуть меньшая экзотика, но все же решение, которое пока не очень ассоциируется с доставкой, – это постаматы. За последние годы они очень сильно прокачались. Их можно найти где угодно: в торговых центрах, в маленьких магазинчиках у дома, есть даже проекты по постаматам в подъездах. Это тем более оправданно, что постамат может работать не только на выдачу, но и на прием, став точкой связи между клиентом и бизнесом или даже между двумя физическими лицами.
Эксперименты с приемом через постаматы пару лет назад проводила московская химчистка кроссовок Sole Fresh. Человек кладет грязные кроссовки в ячейку, компания их забирает, а после очистки снова кладет их в постамат. Точно так же можно отсылать и получать документы, ключи от квартиры – да что угодно. Разработчики подобных систем будущего собираются предусмотреть возможность удаленного управления устройствами. А сами ячейки будут сообщать своему «работодателю», если они вдруг сломаются или загрязнятся.
А что с едой? Тут тоже все в порядке. Постаматы, которые умеют контролировать внутри себя температуру, называются продуктоматы. Туда можно положить заморозку, молоко или даже лекарства. Продукты, которым холодильник не нужен, помещают в ящики с температурой +20 °С. В Москве направление продуктоматов развивает сервис Freshlocker. Среди партнеров – «Перекресток», «Азбука вкуса», Ozon и другие ритейлеры.

Почему такие продуктоматы могут стать «новым магазином у дома»? Не всем нравятся курьеры, которых нужно ждать, которые часто носят еду в не самых свежих сумках, которые заходят в дом и могут создать этим дискомфорт у одиноких женщин, стариков и детей. Случаи бывали разные. Курьер Delivery Сlub принес заказ, а после решил воспользоваться оставшимся у него мобильным номером и написал клиентке в мессенджер, предложив «зайти на полчасика и провести время вместе», пока ее мужа нет дома. Компания срочно вынуждена была решать проблему и пообещала, что теперь от курьеров будут скрывать мобильные номера клиентов после выполнения заказов. «Но адрес-то он все равно будет знать, его не скроешь», – заметили пользователи Facebook, в котором эта история и получила огласку. Кстати, случай не единичный, комментаторы вспомнили, что и им писали курьеры, некоторые даже через пару месяцев после того, как осуществили доставку.
«Мы считаем, что это направление перспективное, и сейчас значительно расширили сеть продуктоматов, – поясняет Мария Артамонова. – В распоряжении компании 100 пунктов самовывоза. Этот удобный формат фуд-шопинга, благодаря которому можно получить заказ на следующий день после оформления без ожидания курьера. Кроме того, в середине лета мы планируем запуск пилотного проекта продажи готовой кулинарии собственной торговой марки «#Пойдупоем» через микромаркеты, которые компания установит в бизнес-центрах и в жилых комплексах Москвы. На начальном этапе будет установлено несколько десятков микромаркетов. В этом формате выбрать и получить товар можно на месте. Покупателям будет предложен ассортимент из 30 наименований супов, вторых блюд и блинчиков».
Предполагается, что проект обеспечит дополнительное продвижение СТМ компании, познакомит покупателей с «Утконос Онлайн» через сиюминутную покупку, а также обеспечит дополнительный спрос на готовую еду, который стал трендом и ежегодно показывает положительную динамику, например, сейчас это плюс 60% относительно прошлого года.
Как начать
Согласно недавнему опросу KPMG, международной сети консалтинга и аудита, почти все офлайн-ритейлеры в России озаботились доставкой. Лишь 5% опрошенных не планируют ее внедрять. «Даже те, кто решил не внедрять собственную доставку, скорее всего, будут работать с каким-нибудь агрегатором, – считает Вячеслав Коган. – Получается, что такая функция у этих ритейлеров все равно будет. Упускать эту возможность в нынешних условиях неправильно».
Но и те магазины, которые уже начали работать с доставкой, часто находятся в самом начале пути. Крупным компаниям целесообразно разрабатывать и внедрять собственную систему управления доставкой (Customer Delivery System). Подобные системы позволяют улучшить качество и ускорить планирование доставки, так считает Сергей Цветаев, директор по развитию бизнеса компании «Норбит» (входит в группу «Ланит»): «Эти плюсы достигаются благодаря усилению контроля за работой транспортных компаний: мониторинга процессов доставки в режиме реального времени и возможности выявлять проблемы в автоматическом режиме. Система доставки обеспечивает точный учет затрат и оптимизирует себестоимость перевозок. В таких проектах немаловажным фактором считается и обеспечение безопасности персональных данных клиентов при передаче их транспортным компаниям».
Обычно CDS состоит из четырех блоков: планирование и маршрутизация, мониторинг и исполнение, мобильное приложение курьера, администрирование. Система «цепляет» данные о комплектации заказов, подбирает транспорт в зависимости от габаритов груза и далее отвечает за погрузку предметов в нужном порядке с учетом оптимизационной задачи «рюкзака». Например, у одного водителя может быть восемь рейсов, и, если положить заказы в неправильном порядке, то придется разгружать всю машину.
В качестве трекинга можно использовать как собственный нарисованный сервис, так и подключить «Яндекс.Маршрутизацию». За всеми процессами следит логист-оператор: он знает о местоположении машин, а также созванивается с заказчиком (предупреждает о времени доставки). Чем сложнее и габаритнее груз, тем больше требуется административной работы. Финальный этап доставки товара покупателю («последняя миля») помогают оптимизировать технологии Big Data. Они подсказывают ритейлерам, как оперативно перестроить маршрут и подобрать подходящий транспорт для конкретного заказа. «Сервисы учитывают большое количество характеристик при ежедневном создании маршрутов: зоны доставки, пробки, ремонт дорог, выбор транспорта, совместимость грузов, упаковка товаров и т. п., – комментирует Сергей Цветаев. – Подобный сервис команда «Норбит» создала для сети строительных магазинов «Леруа Мерлен». Конечно, эталоном «последней мили» можно считать сервисы Amazon».
Данил Шелехов, руководитель логистической платформы «Яндекс.Маршрутизация», считает, что на первых этапах запуска собственной доставки компании нужно автоматизировать четыре важные задачи: сбор заказов, планирование маршрутов, контроль их выполнения и сервисную поддержку клиента. По его мнению, в первую очередь нужно задуматься о CRM-системе, которая позволит систематизировать обработку заказов. Желательно, чтобы у нее была возможность интеграции с системой бухгалтерского учета, например, с 1С. Кроме того, необходимо автоматизировать и формализовать процесс обработки заявки, чтобы решить вопрос с тем, как они будут попадать в CRM. Это можно делать вручную, а можно настроить автоматическую синхронизацию с сайтом.
После того, как заказы приняты, предстоит решить следующую задачу: спланировать маршруты доставки для курьеров. Для того чтобы учесть все пожелания клиентов и возможности курьеров их выполнить, требуется автоматизация этого процесса. «Самое простое решение на старте бизнеса, когда объемы небольшие, а заказы доставляют один-два курьера – воспользоваться бесплатной автоматической оптимизацией маршрута прямо на «Яндекс.Картах», – предлагает Данил Шелехов. – Для каждого маршрута можно добавить до 50 адресов, а также указать дату и время старта маршрута, чтобы правильно учесть пробки. Кнопка «оптимизировать» появится после добавления четвертой точки и поможет построить оптимальный маршрут в автоматическом режиме».
С увеличением объема и появлением новых курьеров задача по построению маршрута усложняется. Некоторые компании тратят на планирование несколько часов, тогда как с помощью ИТ-решения можно за пару минут перебрать миллионы возможных комбинаций и приблизиться к оптимуму, который поможет снизить стоимость доставки. «По нашим замерам, автоматическое решение стабильно превосходит ручное на 20%», – уверяет Данил.
После того как маршрут построен, наступает равнозначный по важности этап – выполнение этого маршрута. Для автоматизации данного участка существуют мобильные приложения, где каждый курьер будет видеть свой маршрут, а логист – состояние доставки по всем курьерам. Работает это так: приложение передает GPS-сигнал по мере выполнения маршрута. Таким образом, логист видит трек курьера, последовательность прохождения точек и изменение статуса доставки. Как правило, такие приложения идут в связке с системами автоматической маршрутизации.
Разумеется, не все существующие на рынке решения жизненно необходимы. Есть ПО обязательное, а есть – опциональное. Выбор обязательного софта напрямую связан с задачами и приоритетами бизнеса. «С точки зрения финансовой выгоды в первую очередь необходима автоматизация процесса планирования маршрутов, – подчеркивает Данил. – Для простого примера, иллюстрирующего пользу автоматической маршрутизации, возьмем задачу по доставке тысячи заказов в день. Допустим, что до внедрения алгоритмов планирования маршрут курьера состоял из 20 точек. Это значит, что для доставки 150 заказов потребуется около семи машин. В результате автоматической маршрутизации маршруты уплотняются, и курьер успевает обработать не 20, а уже 25 заказов. Значит, для доставки 150 заказов потребуется не семь, а уже шесть машин. Разница в одну машину, расходы на которые составляют пять тысяч рублей в день, или 150 тысяч в месяц, и будут прямым экономическим эффектом автоматизации».
По мнению Ашота Григоряна, директора по развитию бизнеса компании Life Pay, обязательным является курьерское приложение с возможностью управлять заказом, принимать оплату, пробивать онлайн-чеки и отправлять актуальный статус в учетную систему. Опциональные функции – маршрутизация, онлайн-контроль, автоматизация сбора обратной связи, управление тайм-слотами. «Чем больше требований к уровню и скорости доставки, тем больше сервисов необходимо», – говорит он.
Весь процесс – от заказа на сайте до передачи товара клиенту – должен быть оцифрован. На складе, как правило, работники используют корпоративные смартфоны со специальным сканером либо терминалы сбора данных (ТСД). «В случае с курьерами все зависит от бизнеса и его модели, – подчеркивает Ашот. – Если сотрудники работают в штате, то материальная ответственность лежит на них, и в этом случае лучше купить профессиональное оборудование. Если курьеры на аутсорсе, то любой смартфон на платформе Android поможет в работе с заказом: поиск, работа с позициями, выбор способа оплаты, непосредственно оплата и передача данных в информационную систему компании».
Дорогое удовольствие
Наконец-то мы заговорили о деньгах. Сколько нужно инвестиций в ИТ, чтобы ритейлер получил собственную отличную доставку? «Масштабируемое решение без ограничений в интеграции, способное справиться с объемами от 3000 заказов в день, обойдется примерно в 50 млн руб., – говорит Ашот Григорян. – Если пользоваться готовым SaaS-решением, стоимость обработки заказа будет примерно 20 руб., но это не включая затраты на работу курьера (до 300 руб.). Разделений по типу ритейлера не существует. Основной вопрос – в объеме заказов».
«Разработка Customer Delivery System, о которой я говорил, может стоить от 100 до 200 млн руб., – комментирует Сергей Цветаев. – И на реализацию проекта требуется один-два года в зависимости от масштаба. Может показаться, что если использовать сервисы подписки или коробочные решения, то система доставки будет стоить дешевле. Однако здесь главное – понять, чего хочет заказчик и какие у него планы развития. Нужно учитывать, что с увеличением количества отгрузок вырастет стоимость подписки на сервисы доставки, а коробочное решение ограничено по кастомизации и доработке. По нашему опыту, к собственной разработке приходят ритейлеры, которые сначала попробовали коробочное решение, потом перешли на подписку, далее подняли подписку до определенного уровня отгрузки и поняли, что это обходится им очень дорого. Пройдя весь этот путь, компании решают разработать собственную систему доставки».
Быть может, все-таки проще делегировать эту область партнерам? Если посмотреть на опыт торговых компаний, то мы видим, что каждый этот вопрос решает по-своему. Metro изначально пользуется партнерскими решениями, тогда как сеть «ВкусВилл» принципиально с самого начала ориентировалась только на себя. «На наш взгляд, оптимальный путь – организовать собственную доставку, а также пользоваться ресурсами партнеров, например, «СберМаркетом» и прочими сервисами, как это делают «Перекресток», «Азбука вкуса», Metro. Аудитория сетей и партнеров пересекается минимально, поэтому у ритейлеров появляется дополнительный канал продаж», – разъясняет Ашот Григорян.
Выбор подхода к доставке зависит не от типа ритейлера, а от того, что именно и насколько быстро он хочет запустить. Так считает Данил Шелехов: «Если компании нужен простой вариант, например, доставка до клиента на следующий день и позднее, то он вполне может начать запуск собственной курьерской службы. Однако при более сложной схеме – доставке день в день или экспресс-доставке – потребуется больше ресурсов и логистической экспертизы. Кроме того, играет роль и временной фактор: если у всех конкурентов уже есть доставка и запуститься нужно быстро, то времени на запуск собственной службы может не хватить».
В случаях сжатых сроков и сложности доставки ритейлеры чаще обращаются к партнерам за той самой логистической экспертизой, чтобы оценить экономический эффект. «Мы видим, что через один-два года работы с партнерами компании задумываются о своей доставке, – рассказывает Данил Шелехов. – Как правило, ее запускают те компании, для которых доставка является важным бизнес-процессом с точки зрения бренда и конкуренции на рынке. Кроме того, своя доставка более гибкая и управляемая, чем партнерская, а чем крупнее компания, тем больше зон для оптимизации у нее возникает».
Подходы к организации доставки самые разные. Можно отдать сборку и доставку на аутсорсинг, что позволит обеспечить большую удовлетворенность покупателя. «У внешнего сборщика не будет стимула положить в корзину продукт с истекающим сроком годности и вызвать этим негатив потребителей, – рассуждает Вячеслав Коган. – Другой подход – полный контроль фулфилмента (хранения и доставки). Некоторым ритейлерам это дает уверенность в качественном выполнении заказа. Единого рецепта не существует».
Чтобы получить отличную собственную доставку, недостаточно только инвестиций в ИТ, хотя они тоже будут немаленькими. К ним относится адаптация существующей системы товарного и финансового учета, внедрение платформ прогнозирования спроса и ИТ-решений, обеспечивающих своевременную подсортировку продукции. Также необходимы автоматизация тачпойнтов для сбора заказов (веб-сайт, мобильное приложение, колл-центр), система ценообразования и средства для приема платежей курьерами. И нужно заложить расходы на собственный автопарк, зарплаты сборщикам, доставщикам, водителям, сотрудникам колл-центра и много чего еще.
Хит-парад ошибок
Не все розничные сети задумываются о масштабировании своих ИТ-решений, тогда системы перестают справляться при взрывном росте спроса. «Такую проблему хорошо продемонстрировала пандемия, – напоминает Вячеслав Коган, – когда в ее начале почти все сайты и приложения доставки просто «лежали».
По мнению Данила Шелехова, серьезной проблемой могут стать ошибки в исходных данных. Часто они хранятся разрозненно и не приведены к единому виду. В результате алгоритм планирования не может их корректно обработать, поэтому приходится потратить время на систематизирование и упорядочивание исходной информации.
Некоторые компании воспринимают автоматизацию как фоновый процесс, в результате чего ее завершение сильно затягивается. Конечные сроки и следующие действия должны быть понятными, а у проекта должен быть один ответственный руководитель.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => В 2020 году продуктовый онлайн взорвался. Сейчас мы наблюдаем последствия этого большого взрыва. Промежуточный итог таков: доставкой продуктов на дом занялись даже те традиционные офлайн-продавцы, которые изначально не собирались ставить на доставку. [~PREVIEW_TEXT] => В 2020 году продуктовый онлайн взорвался. Сейчас мы наблюдаем последствия этого большого взрыва. Промежуточный итог таков: доставкой продуктов на дом занялись даже те традиционные офлайн-продавцы, которые изначально не собирались ставить на доставку. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6159 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:48:28 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1613 [WIDTH] => 1075 [FILE_SIZE] => 1405661 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/5da [FILE_NAME] => 5dab7b3a53f0964b9daa3a654fdfe45d.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1691866066.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 33e87cd39c1a009ad8a86ce1b46f9019 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/5da/5dab7b3a53f0964b9daa3a654fdfe45d.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/5da/5dab7b3a53f0964b9daa3a654fdfe45d.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/5da/5dab7b3a53f0964b9daa3a654fdfe45d.jpg [ALT] => Магазин звонит в дверь [TITLE] => Магазин звонит в дверь ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6159 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => magazin-zvonit-v-dver [~CODE] => magazin-zvonit-v-dver [EXTERNAL_ID] => 6465 [~EXTERNAL_ID] => 6465 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Магазин звонит в дверь [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Магазин звонит в дверь [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => В 2020 году продуктовый онлайн взорвался. Сейчас мы наблюдаем последствия этого большого взрыва. Промежуточный итог таков: доставкой продуктов на дом занялись даже те традиционные офлайн-продавцы, которые изначально не собирались ставить на доставку. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Магазин звонит в дверь [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Магазин звонит в дверь | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [3] => Array ( [ID] => 6358 [~ID] => 6358 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Формы платформы [~NAME] => Формы платформы [ACTIVE_FROM_X] => 2021-05-18 13:31:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-05-18 13:31:00 [ACTIVE_FROM] => 18.05.2021 13:31:00 [~ACTIVE_FROM] => 18.05.2021 13:31:00 [TIMESTAMP_X] => 18.05.2021 15:37:47 [~TIMESTAMP_X] => 18.05.2021 15:37:47 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/formy-platformy/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/formy-platformy/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Если четыре года назад можно было услышать мнение такого рода: «цифровые платформы устарели, пора создавать экосистемы», то теперь ИТ-платформами снова гордятся. Если судить по новостям, то видно: многие самостоятельные организованные единицы создают собственные ИТ-платформы разного назначения. Конечно, ритейл не остается в стороне.

Платформы анонсируют государства. В конце февраля министр по коммуникациям Малайзии с радостью говорил о национальной платформе, выступая на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае (MWCS 2021), а ведь еще пять лет назад его страна признавалась одной из худших в мире по скорости доступа в Интернет (по версии сервиса тестирования Speedtest), с плохой ИТ-инфраструктурой и заниженными требованиями к стандартам связи в целом. Словом, информационные технологии здесь не были на высоте.
Платформы строят и отдельные компании. Сбербанк и производитель онлайн-касс «Эвотор» вместе запустили бесплатную цифровую платформу «На_полке». Компания «Леруа Мерлен» построила для себя внутреннюю интеграционную платформу, которая помогла в три раза быстрее выводить новые решения на рынок. На CNews Forum 2020 представитель компании поделился подробностями и сообщил, что благодаря платформе удалось достичь двукратной оптимизация и расходов на штат и пятикратного уменьшения рисков простоя сервисов за счет более быстрой локализации инцидентов.
«Платформы покрывают все больше потребностей всех участников процесса торговли. Доходит до того, что, например, маркетплейс помогает маленьким поставщикам получить лицензию, чтобы те смогли работать в правовом поле. То есть это уже не просто маркетплейс, это – экосистема, в которой в будущем будет жить большая часть бизнеса», – рассказывает Андрей Павленко, директор компании Scallium.
Звучит одновременно хорошо и загадочно. Где связь между онлайн-платформой для оптовой закупки товаров, которой пользуется малый бизнес, и национальными решениями? Раньше писали, что термин «ИТ-платформа» не имеет однозначного определения. Получается, и сейчас каждый понимает под этим что-то свое? «ИТ-платформа – это совокупность технологий, решений и систем, организованных в соответствии с единой концепцией, моделью данных и планом развития, – помогает не запутаться в терминах Александр Черкавский, методолог компании «Витте Консалтинг», эксперт по цифровой экономике, РАНХиГС. – Ее можно охарактеризовать как единый фундамент для построения нескольких зданий».
А вот для чего будут предназначены эти «здания» – вопрос целеполагания и архитектуры. Исходя из данного определения, почти каждая компания строит свою ИТ-платформу. На каком уровне приоритета находится такое строительство, зависит от бизнес-стратегии и стратегии цифрового развития каждой конкретной организации. Потому эти платформы такие разные. Их разрабатывают под конкретные нужды бизнеса.
Туман сгущается
Корпорации развивают собственные платформы или переходят на платформенные бизнес-модели, как это делает Amazon, Alibaba или отечественный «Яндекс». Многие ритейлеры задумались о таком пути. Платформенный подход ставит информационные технологии в основу стратегии развития. «Крупные ритейлеры потому и крупные, что сфокусировались на росте объемов бизнеса, а не на его управляемости. В ритейле направление ИТ исторически воспринималось как вспомогательное, а не основное. Сейчас же всем стало очевидно: нельзя удержать объемы бизнеса без инструментов управления и обеспечения конкурентных преимуществ», – считает Александр Черкавский.
И вот на этом месте мы рискуем снова запутаться. Платформы и платформенный подход – это синонимы? Или не нужно путать теплое с мягким? «Понятие платформы действительно относительно новое и немного размытое. Тут мы говорим о двух основных его аспектах», – комментирует Андрей Павленко.
С технологичесй точки зрения, платформа – это способ объединить технологические продукты, созданные в компании в разное время разными департаментами. «Можно даже сказать, что это экосистема, – объясняет Андрей Павленко. – Например, есть бухгалтерия и есть отдел работы с мерчантами и еще десяток департаментов. Каждое подразделение имеет собственные программные продукты, которые между собой часто плохо взаимодействуют. Единая платформа решает эту проблему, позволяет передавать данные между департаментами и в принципе эффективно управлять любыми данными компании».
А вот с точки зрения бизнеса, ИТ-платформы – это конкретное решение, бизнес-модель. Тот же Uber, например, это больше бизнес-решение. Это платформа, которая предназначена для работы участников с общими задачами и целями. «У нас есть подобный проект – платформа Hubber, которая объединяет поставщиков и интернет-магазины, практически Facebook для участников e-commerce рынка, – говорит Андрей Павленко. – Огромный плюс платформы как бизнес-модели в том, что это инструмент, который позволит большой машине бизнеса быть маневренной и быстро развернуться. Именно поэтому такая модель привлекает российский бизнес».

Есть и более радикальное мнение. «Массовое использование термина ИТ-платформа – маркетинговое поветрие, которое вызвано необходимостью повышения отдачи от информационных технологий», – уверен Александр Черкавский. По его словам, однозначное определение ИТ-платформы есть, просто не на нашем рынке. «Когда читаешь про эти вещи на английском, пространства для домыслов не остается, – рассказывает Александр Черкавский. – Российским поставщикам ИТ-услуг и решений невыгодно, чтобы у таких терминов было однозначное определение, поскольку с помощью подмены понятий проще запутать заказчиков, продавая им свои решения».
Не будем развивать теории заговора ИТ-вендоров, однако проблема маркетинговых уловок в части терминологии давняя. И не только по вопросу платформ. Доходит до того, что у слушателей докладов на профильных конференциях один словарь, а у практиков, ИТ-специалистов на местах – другой. Легко можно встретить ситуацию, когда задаешь вопрос по рекламной брошюре ИТ-компании не менеджеру, а инженеру, и он не может понять, о чем речь, потому что у них такими громкими фразами не говорят.
Определимся с определением
Попробуйте поискать понятие «ИТ-платформа» прямо сейчас. Поиск выдаст много текстов, читая которые, невозможно отличить систему от бизнес-модели. Однако с тем, что это типично российская проблема, как говорит Александр, согласиться нельзя. Вот что пишут австралийские авторы научного изыскания «Информационно-технологические платформы: определение и направления исследований» (Байрон Китинг из Квинстонского технологического университета и Ширли Грегор из Австралийского национального университета): «Понятие ИТ-платформы является широким и охватывает различные явления, начиная от операционной системы Linux и заканчивая Интернетом. Такие платформы приобретают все большее значение для инноваций и создания ценности во многих аспектах промышленности и повседневной жизни. Однако как в научных исследованиях, так и в промышленности отсутствует общее понимание того, что означает термин «платформа», когда он связан с ИТ. Такое отсутствие консенсуса наносит ущерб исследованиям».
Чтобы дать определение, авторы проанализировали 133 статьи, взятые из материалов конференций, деловых изданий и основных журналов по информационным системам. Если читатель поспешно листнет исследование к финальной главе «Вывод» в надежде найти там четкое определение, то он слишком наивен. Исследователи обещают продолжить свои исследования этой зыбкой почвы, а пока предлагают довольствоваться тем, что нашли шесть ключевых аспектов концепции ИТ-платформы: это технологическая база, стандарты, дополнительные надстройки, функциональная совместимость, транзакционность и управление. Кроме того, они определили существование еще одного, тесно связанного с платформами, понятия – платформенно-ориентированная экосистема. Как видим, ковыряние в англоязычных и вполне авторитетных источниках не привело к мгновенной ясности.
Под влиянием электронной коммерции, возможностей новых технологий, в первую очередь больших данных, облаков, Интернета вещей, онлайн-аналитики, машинного обучения, а также новых требований со стороны биологической безопасности ритейл претерпевает интенсивные и глубокие изменения. «В таких условиях требуется время, необходимое для стабилизации новых концепций. ИТ-платформа здесь не является исключением. ИТ-платформа – это не ИТ-система; это комплекс интегрированных между собой ИТ-систем и формализованных экономических отношений, который автоматизирует сквозные бизнес-процессы группы бизнес-партнеров: компаний, связанных между собой коммерческими отношениями», – подытоживает Александр Прозоров, научный сотрудник лаборатории машинного интеллекта МФТИ, соавтор учебника 4CDTO «О цифровой трансформации и цифровизации».
Все свое
С терминами немного определились, теперь отметим, что в плане пользования ПО у ритейла есть два противоположных подхода. «Одни создают собственные системы цифровизации бизнеса, развивают их в сторону платформ. Например, «M.видео» или наш заказчик kari. Другие внедряют готовые решения, проводя их кастомизацию под постоянно меняющиеся требования бизнеса», – говорит Алексей Северухин, куратор проекта по разработке системы для kari, IT-компания Lad.
О двух крайностях рассказывает и Антон Мартьянов, интерим-менеджер, участник Союза независимых экспертов: «Самый распространенный путь – это разработка всего самостоятельно, в духе «все делаем сами: от лопаты до космического корабля – и с глубокой локализацией». Другая крайность – стремление к стопроцентному аутсорсингу всех процессов (от персонала до заводов и ИТ-платформ)».
На фоне возросшего интереса к платформам неудивительно, что облачное направление PaaS – «платформа как сервис» – только набирает обороты и сейчас является самым быстрорастущим сегментом среди облачных сервисов, по мнению IDC. На рынке появились и такие вещи, как программные платформы-конструкторы с возможностью самостоятельной сборки ПО. Правда, мы не успели обсудить это решение с компанией-разработчиком RedSys. Как написал CNews, с октября 2019 г. по судебным инстанциям кочует дело о банкротстве RedSys, в недавних новостях также фигурируют аресты, взятки и сговор с чиновниками.
Однако и без RedSys вендоров, предлагающих разные типы работы с платформами, множество, так как существует глобальный тренд на цифровизацию сервисов, бизнес-процессов, коммуникаций. Если предложений много, зачем ритейлу понадобилось разрабатывать собственные решения?
Собственная платформа в отличие от облачного сервиса позволяет полностью учесть именно свои потребности и процессы. Кроме того, это тот элемент стратегии, который призван обеспечить безопасность, создать экосистему сервисов и автоматизированное дистанционное обслуживание процессов, наконец, снизить процент человеческого труда и ошибок, сэкономить на издержках. Об этом рассказывает Константин Андреев, коммерческий директор компании Globus: «Если посмотреть с позиции бизнес-заказчика, то организация канала коммуникаций с клиентом, сотрудниками, подразделениями компании через информационную инфраструктуру выгодна для бизнеса. Она разгружает традиционные офлайн-каналы общения, снижает нагрузку на бэк-офис. Автоматизация рутинных процессов уже внедрена во многих корпорациях, но использование современных технологий, например, машинного обучения, позволяет делать это на качественно новом уровне. Так, многие компании внедряют глубокую аналитику поведения пользователя и задумываются о кросс-продажах, лояльности клиентов, которая достигается в том числе и за счет сервисного подхода и создания ИТ-платформ».

До сих пор повсюду сохраняется большая доля ручного труда, а также ошибок, непрозрачности процессов, потерь производства, ручного принятия типовых решений. В то время как существующая конъюнктура рынка, развитие технологий, доступность (удешевление) технологий подстегивают тренд на создание ИТ-платформ. «Сейчас рост через цифровизацию и автоматизацию – это наиболее ожидаемое и очевидное решение для руководства компаний, – говорит Константин Андреев. – Объектами автоматизации в ритейле будут и далее являться аналитика данных и Big Data, автоматизация цепочек поставок, упрощение внутренних процессов работы с подрядчиками и поставщиками, ЭТП (электронные торговые площадки), ЭДО (электронный документооборот). Важными факторами для эффективной работы сотрудников являются системы внутреннего обучения LMS, интранеты, программы лояльности. Чаще всего функционал готовых решений, существующих на рынке, уже не успевает за развитием этого тренда. Поэтому многие компании проекты цифровизации и автоматизации развивают с экспертами в формате аутсорсинга «под ключ».
Крупная компания, которая ставит для себя целью быть лидером рынка или его сегмента, сама создает тренды развития цифровых систем и первой внедряет технологические новинки. «Только собственная цифровая платформа с сильной командой разработки (собственной или аутсорсинговой) позволяет развиваться таким образом, – полагает Андрей Павленко. – Система, собранная из готовых продуктов, не даст подобной гибкости».
По его мнению, изменения, для выполнения которых нужно скоординировать усилия нескольких вендоров, не будут происходить настолько динамично и не смогут полностью отвечать запросам бизнеса. Компании же, избирающие более консервативную стратегию, могут пользоваться технологиями, уже внедренными в типовые программные продукты. Это даст экономию в затратах. Но все новинки технологий придут в жизнь, скорее всего, позднее, чем у технологических лидеров. И ритейлер будет вынужден подстраивать свои процессы под функциональность, разработанную вендорами.
Тот же ритейлер, кто разрабатывает собственную платформу, получает возможность управлять процессом и накапливать большие данные. «Это иной уровень возможностей по анализу продаж, ассортимента, покупательского поведения, прогностике, таргетированному рекламному воздействию», – говорит Алексей Северухин.
Одно из отличий платформенного решения от традиционных информационных систем – гибкость в интеграции с другими сервисами, системами, ресурсами. «Компания получает новое качество в быстроте внедрения цифровых технологий. И дает в руки возможности по наполнению своего «озера данных» и работы с ним по своим правилам», – дополняет он.
Вопрос выживания
Чтобы понять, нужно ли ритейлу разрабатывать свою ИТ-платформу или встраиваться в существующую, необходимо немного освежить теорию. «ИТ-платформа снижает транзакционные издержки, а это в свою очередь снижает стоимость одного рубля выручки. То есть, откровенно говоря, вопрос уже не стоит в форме «нужна или нет ИТ-платформа». Вопрос стоит «какую ИТ-платформу необходимо разрабатывать», либо, если для этого ресурсов недостаточно, вопрос стоит «в какую ИТ-платформу необходимо интегрироваться», – объясняет Александр Прозоров. Разрабатывать свою или присоединяться к существующей ИТ-платформе – это вопрос выживания бизнеса, а не дань моде.
Мы поговорили с крупнейшим онлайн-гипермаркетом в сфере DIY в России – компанией «ВсеИнструменты.Ру», так как, по их признанию, у них целый набор платформ и все – самописные. Вадим Кузин, ИТ-директор компании, подтвердил, что создание своей ИТ-платформы является трендом: «Да, это однозначно тренд. Для всех игроков рынка создание своего продукта сейчас – это самый понятный, но довольно сложно реализуемый шаг по формированию конкурентного преимущества. Полностью кастомизированный под вас продукт – с вашими процессами и возможностью быстро и гибко их менять – это как раз то, чего все и пытаются добиться».
На вопрос, что подстегивает ритейл создавать платформы, Вадим Кузин ответил так: «Как и любую компанию, нас подстегивает желание обезопасить себя в долгосрочной перспективе. Имея свой продукт, вы управляете рисками сами: отсутствуют проблемы, связанные с географией, с валютным курсом. Ну и гибкость добавляет вам маневренности, что повышает выживаемость компании на рынке».
Цель создания единой платформы, позволяющей передавать данные между департаментами, с технологической точки зрения оправданна. «Она позволяет добиться больших результатов в плане слаженности работы разных отделов. Но в плане реализации эта идея сложная и дорогая, – отмечает Андрей Павленко. – Процесс внедрения должен быть итеративным, и использующим эмпирический подход в разработке и внедрении. Иначе возникает высокий риск получить сверхтраты».

Прочь из зоопарка
ИТ-платформы можно было бы рассмотреть как путь преодоления «зоопарка систем», который только ширится. Появляются системы, затем приложения, затем средства мониторинга систем и приложений... Ситуация похожа на расходящиеся концентрические круги – бизнес в них буквально тонет, и легко догадаться, что мечтает о «едином окне», где все в одном.
«Среди целей создания собственных платформ, безусловно, присутствует мотив преодоления «зоопарка». На практике любая информационная система сегодня – это десятки, сотни интеграций. Если ваша система включает в себя e-commerce, вам неизбежно придется интегрироваться с ИТ-системами служб доставки. Сервисы лояльности, потребительского кредитования, кросс-продвижения, кошельков, ЕГАИС, «Честный знак», системные сервисы мониторинга, поддержки, защиты информационной системы раньше или позже будут интегрированы с ИТ-платформой ритейла», – полагает Алексей Северухин.
«А я не согласен, – парирует Антон Мартьянов. – Создание своей ИТ-платформы влечет за собой еще больший «зоопарк», потому что будут все те же самые решения плюс еще одно. Ведь платформа не делается силами одного специалиста, будет привлечено множество людей и команд, даже и подрядчиков. В итоге получившаяся ИТ-платформа создаст еще больший «зоопарк систем», внутри которого объединятся как внутренние решения, так и системы от вендоров. Потому что, как правило, своя платформа успевает закрыть основные процессы и даже успевает вслед за быстро меняющимся рынком технологий, но вот все дополнительные опции, фишки… Они уже не успевают. Поэтому взаимодействие с другими приложениями и системами изначально зашивается в логике, например, через API. В итоге даже собственная платформа – это множество внешних платформ и софтверных решений, чтобы взаимодействовать с партнерами, поставщиками, покупателями и контролирующими органами».
Одной большой идеальной ИТ-платформы, которая бы покрывала все бизнес-процессы крупной компании, не существует, это недостижимый идеал. «Всегда будет смесь собственных разработок и коробочных продуктов, – подтверждает высказанную ранее мысль Вадим Кузин. – Важно, чтобы процессы, которые для вашей компании являются конкурентным преимуществом, автоматизировались на собственных решениях, тогда вы всегда будете на шаг впереди ваших конкурентов».
«Зоопарк систем» – уже устаревший штамп, который используют менеджеры по продажам ИТ-компаний, чтобы убедить заказчика внедрить их продукт, зачастую без разработки бизнес-кейса в качестве обоснования инвестиционного проекта. Так считает Александр Черкавский. По его словам, платформы позволяют повысить интероперабельность то есть способность систем взаимодействовать друг с другом. «При этом совсем необязательно сносить старые системы, если это экономически не обоснованно, – говорит он. – Представьте, что мы с вами инвестировали десятки или сотни миллионов рублей в конкретную систему. Причина, по которой мы соберемся ее менять, должна быть очень веской. Построение платформы само по себе такой причиной не является».
Не стоит думать, что ИТ-плат-форма – это «одно окно», которое решит все проблемы. Но и без нее никак. Дело в том, что «зоопарк» ИТ-систем появился не на пустом месте, а вследствие того, что бизнес развивался. «Наличие зоопарка – это следствие многолетнего успешного бизнеса. Однако современные требования к малому времени вывода УТП
на рынок и низкой стоимости процессов не оставляют пространства для маневра, «зоопарк» уже не в состоянии справиться с этими требованиями, нужна ИТ-платформа. Разработка своей ИТ-платформы или присоединение к существующей – это способ выживания бизнеса в новых условиях», – замечает Александр Прозоров.
Закрываемся или открываемся?
Медленно, но верно надвигающееся импортозамещение может повлиять на решение разрабатывать в компании собственную ИТ-платформу. Но это зависит от отрасли, сферы, контекста компании. Конечно, наиболее актуальна задача импортозамещения для государственных структур. «Для коммерческих компаний самые важные факторы другие: это себестоимость, средний чек, захват доли рынка, прогнозируемость. Однако и для них переход на собственные ИТ-решения может иметь решающее значение. Например, крупной компании не хочется зависеть от облачного сервиса, который может заблокировать РКН», – рассказывает Константин Андреев.
По его мнению, для дальнейшего развития этого тренда необходимо лобби крупных корпораций и государства. «Надеемся, что спрос на отечественные инновации будет только усиливаться и отрасль ИТ позволит рождаться новым продуктовым компаниям и сервисам, которые усилят экономику и дадут новые рабочие места», – говорит он.
Зависимость крупного бизнеса от ИТ и, в частности, от ИТ-платформ не просто нарастает, а уже давно стала критической. «В связи с этим корпорации разработали и руководствуются политиками, которые регламентируют замещение закрытых вендорских решений на открытые решения (open source). Например, Oracle заменяют на Postgres, IBM MQ на Apache Kafka и так далее. Уловив этот тренд, крупные вендоры, такие как Intel, HP, IBM, Cisco и многие другие, входят в консорциумы и совместными усилиями разрабатывают open source платформы. Такие open source платформы успешно применяются в различных областях. Поэтому при разработке своей ИТ-платформы целесообразно говорить не об импортозамещении, а о снижении зависимости от поставщиков путем использования готовых компонентов из числа open source платформ», – комментирует Александр Прозоров.

Получается, не импортозамещение, а открытые исходные коды влияют на то, что появляется все больше собственных, внутренних решений. Создавать свои собственные ИТ-платформы станет легче, раз под рукой ширящиеся репозитории, да и говоря о постпандемичном мире, некоторые эксперты подчеркивают, что теперь-то уж точно open source будет вытеснять проприетарные системы.
Open source существенно облегчает разработку собственной ИТ-платформы. В этом уверен Александр Прозоров: «Скажу больше, open source – это новый долгосрочный тренд устойчивого развития ИТ и способ борьбы средних компаний с гигантами. Например, IBM, Cisco, HP, Vmware объединились в консорциум и разрабатывают платформы облачных вычислений и Интернета вещей, составляя конкуренцию Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure».
«Создавать не только платформы, но и любое ПО с каждым годом становится все проще, – рассказывает Константин Андреев. – Появляются no-code-системы, развиваются языки, публикуются новые библиотеки. Но можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны. Если компания пишет свое ПО, в какой-то момент она может захотеть либо начать его продавать, либо защитить, чтобы укрепить свое конкурентное преимущество. Это может послужить толчком к развитию сектора проприетарного ПО».
Про open source никогда не было единого мнения. «Помимо аппаратного (hardware) и программного (software) обеспечения необходимы еще и методологическое обеспечение (methodware), и ресурсы (время, сотрудники с компетенциями, деньги). С точки зрения стоимости методологического обеспечения и компетенций свободное ПО (opensource) проигрывает проприетарным системам. Сейчас в мире побеждают no-code и low-code системы и платформы, которые позволяют создавать бизнес-приложения без участия программистов, а в идеале – и без ИТ-консультантов», – говорит Александр Черкавский.
По его словам, ИТ-платформы легче создавать, когда рядом есть информационные менеджеры, стюарды данных, бизнес-аналитики и архитекторы. Репозитории с открытым кодом продвигают и активно пиарят последователи импортозамещения, выдавая желаемое за действительное.
Ищу человека
Как и у любой технологии или решения, у платформ есть свои «подводные камни». «Проблем на самом деле очень много. Это и разработка правильной архитектуры, выбор стека технологий, управления данными, словом, все проблемы высоконагруженных систем», – перечисляет Алексей Северухин.
По его словам, одна из наиболее сложных задач – это формирование команды разработки при сегодняшнем тотальном дефиците квалифицированных кадров в ИТ-отрасли. Но ключевой момент – это управление продуктом, бизнес-аналитика. «Ошибки проектирования, заложенные в архитектуру системы из-за непроработанных и несогласованных требований различных бизнес-структур компании, обходятся в дальнейшем весьма дорого. Я бы сказал, что секрет успеха всех удачных платформенных решений кроется в команде квалифицированных продактов-визионеров», – уверен он.
Основная проблема – это сложность ИТ-платформ. «У этой проблемы очень много следствий, то есть производных проблем, – говорит Александр Прозоров. – Чтобы добиться успеха, помимо ресурсов вам критически необходима команда, которая в состоянии работать на заданном уровне сложности. Если такой команды нет и нет понимания, как ее создать – не стоит ввязываться в собственную разработку, идите по пути подключения к готовой ИТ-платформе».

То же самое говорят и представители ритейла: «Основная проблема сейчас – это квалифицированный персонал (разработчики, аналитики, тестировщики, продакт-менеджеры). Рынок очень перегрет, качественных людей всегда было мало, а спрос после пандемии только вырос. Так что вопрос подбора, удержания и развития собственной ИТ-команды – это основное, что является ограничителем для компаний», – отмечает Вадим Кузин.
«Ищу человека» – под этим девизом, похоже страдают все. Наши эксперты были единодушны: кадров катастрофически не хватает. «Основная проблема заключается в отсутствии (или как минимум в дефиците) специалистов с необходимыми компетенциями, а также поддерживающих процедур и процессов, – объясняет Александр Черкавский. – Бизнес-анализ, раз-
работка бизнес-кейсов, стратегическое планирование и раз-
работка методик цифровизации, моделирование данных, архитектура информационных систем, исследования (RnD), моделирование процессов, прототипирование и вовлечение сотрудников – все это должно применяться в комплексе для достижения бизнес-целей и решения бизнес-задач. В российских компаниях традиционно фокусируются на технологиях, а потом удивляются, почему возврат инвестиций такой долгий, а результатами проекта нельзя повторно воспользоваться».
Цифровизация по науке
Чтобы результат получился удовлетворительный, по-хорошему, нужно начинать совсем от печки – с исследований. Нужно собирать информацию о работающих или проектируемых цифровых платформах по разным отраслям экономики в разных странах мира, чтобы сформировать целостную картину имеющихся достижений и намечающихся трендов.
«Это зависит от бюджета компаний. Кто-то проводит исследования своими силами либо силами привлеченных специалистов. Другие ограничиваются фокус-группой из руководителей. Культура сбора и обработки требований действительно пока недостаточно развита, поскольку многие компании работают по старинке», – считает Константин Андреев.
Ведущие аутсорс-компании активно помогают заказчикам, используя консалтинг-подход. Клиенту не всегда удается правильно сформулировать цели автоматизации, и в результате появляются проекты, которые не несут положительного эффекта для бизнеса. «Это та проблема, с которой стоит научиться работать каждому. Например, используя итеративный подход к разработке решений с обязательным этапом получения обратной связи от пользователей и рынка в целом», – поясняет он.
Необязательно затевать глобальное исследование, достаточно проводить бенчмаркинг на тему цифровизации (создания ценности) в своей отрасли. «Такие исследования очень полезны для разработки бизнес-кейсов и конфигурирования соответствующих проектов. На деле же часто ограничиваются попытками подсмотреть что-то у ближайшего конкурента. Консалтинговые проекты на эту тему – большая редкость», – сетует Александр Черкавский.
По его словам, это общая ситуация, характерная для российского рынка, где понимание маркетинга не сформировалось и не поднялось до уровня проведения рыночных исследований. А ведь рыночное исследование и есть тот самый первый шаг при разработке стратегии цифровизации, в рамках которой в числе прочего и фиксируется решение о создании комплексной ИТ-платформы.
В принципе понятно, почему так происходит. На неочевидном всегда хочется сэкономить. А стоимость консалтинга узнать нетрудно. Так, «Фабрика цифровых платформ» у себя на сайте пишет: однократная трехчасовая консультация по проекту стоит 99 тыс. рублей; разработка концепции платформы – 2 млн 990 тыс. рублей. Готовы раскошелиться?
Необходимо сформировать свое мнение для принятия обоснованного решения. Однако сложность ИТ-платформ не позволяет это сделать быстро, если нет глубокой подготовки по вопросу. Чтобы сэкономить время и не потерять большие деньги, целесообразно обратиться к экспертам. Что касается исследований: в силу того, что ИТ-платформа – это уникальная вещь, которую необходимо проектировать и собирать для решения уникального набора требований, общие маркетинговые исследования вряд ли помогут. Также следует отказаться от иллюзии поиска полностью готового «коробочного» решения. Об этом рассказывает Александр Прозоров: «Я хочу привести метафору. ИТ-платформа – это большой торговый центр, который необходимо спроектировать и построить в конкретном ландшафте. В проекте необходимо предусмотреть подходы и подъезды, подключение к воде, газу, электричеству, канализации, вопросы обслуживания и эвакуации, вопросы трансформации помещений под требования различных арендаторов и множество других требований. Нельзя получить готовый торговый центр на складе. Существует только два варианта получить торговый центр: его можно построить или купить/арендовать уже готовый. Поэтому, если у вас достаточно ресурсов затевать строительство своего торгового центра, то ваш выбор – разработка ИТ-платформы. Если ресурсов недостаточно или есть ограничение по времени, то лучше будет въехать в готовый торговый центр – арендовать мощности существующей ИТ-платформы».
Преимущества, которые дает собственная ИТ-платформа:
• независимость от других крупных структур, конкурентов, поставщиков;
• построение внутренних и внешних экосистем;
• экономия;
• унификация процессов и данных;
• увеличение среднего чека;
• автоматизация бизнес-процессов, увеличение доступности своих услуг.
По версии компании Globus
Основные проблемы при создании корпоративных платформ
• собранных требований недостаточно или слишком много;
• сразу делается очень большой кусок и ставится слишком большая задача;
• конечный пользователь не вовлечен и/или не понимает преимуществ и цели;
• процесс ради процесса возникает, когда конечная цель не сформулирована
во времени и цифрах;
• не выявлены цели бизнеса в полном объеме;
• нет синхронизации между командой заказчика и подрядчика;
• попытка полностью скопировать конкурента без учета специфики собственных
процессов.
По версии компании Globus
Применение платформенного подхода в ритейле позволяет решать следующие задачи:
• обеспечить взаимодействие разрозненных информационных систем;
• удешевить создание бизнес-приложений;
• оптимизировать или провести реинжиниринг бизнес-процессов;
• упорядочить информационный ландшафт организации.
По версии компании «Витте Консалтинг»
[~DETAIL_TEXT] =>
Если четыре года назад можно было услышать мнение такого рода: «цифровые платформы устарели, пора создавать экосистемы», то теперь ИТ-платформами снова гордятся. Если судить по новостям, то видно: многие самостоятельные организованные единицы создают собственные ИТ-платформы разного назначения. Конечно, ритейл не остается в стороне.

Платформы анонсируют государства. В конце февраля министр по коммуникациям Малайзии с радостью говорил о национальной платформе, выступая на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае (MWCS 2021), а ведь еще пять лет назад его страна признавалась одной из худших в мире по скорости доступа в Интернет (по версии сервиса тестирования Speedtest), с плохой ИТ-инфраструктурой и заниженными требованиями к стандартам связи в целом. Словом, информационные технологии здесь не были на высоте.
Платформы строят и отдельные компании. Сбербанк и производитель онлайн-касс «Эвотор» вместе запустили бесплатную цифровую платформу «На_полке». Компания «Леруа Мерлен» построила для себя внутреннюю интеграционную платформу, которая помогла в три раза быстрее выводить новые решения на рынок. На CNews Forum 2020 представитель компании поделился подробностями и сообщил, что благодаря платформе удалось достичь двукратной оптимизация и расходов на штат и пятикратного уменьшения рисков простоя сервисов за счет более быстрой локализации инцидентов.
«Платформы покрывают все больше потребностей всех участников процесса торговли. Доходит до того, что, например, маркетплейс помогает маленьким поставщикам получить лицензию, чтобы те смогли работать в правовом поле. То есть это уже не просто маркетплейс, это – экосистема, в которой в будущем будет жить большая часть бизнеса», – рассказывает Андрей Павленко, директор компании Scallium.
Звучит одновременно хорошо и загадочно. Где связь между онлайн-платформой для оптовой закупки товаров, которой пользуется малый бизнес, и национальными решениями? Раньше писали, что термин «ИТ-платформа» не имеет однозначного определения. Получается, и сейчас каждый понимает под этим что-то свое? «ИТ-платформа – это совокупность технологий, решений и систем, организованных в соответствии с единой концепцией, моделью данных и планом развития, – помогает не запутаться в терминах Александр Черкавский, методолог компании «Витте Консалтинг», эксперт по цифровой экономике, РАНХиГС. – Ее можно охарактеризовать как единый фундамент для построения нескольких зданий».
А вот для чего будут предназначены эти «здания» – вопрос целеполагания и архитектуры. Исходя из данного определения, почти каждая компания строит свою ИТ-платформу. На каком уровне приоритета находится такое строительство, зависит от бизнес-стратегии и стратегии цифрового развития каждой конкретной организации. Потому эти платформы такие разные. Их разрабатывают под конкретные нужды бизнеса.
Туман сгущается
Корпорации развивают собственные платформы или переходят на платформенные бизнес-модели, как это делает Amazon, Alibaba или отечественный «Яндекс». Многие ритейлеры задумались о таком пути. Платформенный подход ставит информационные технологии в основу стратегии развития. «Крупные ритейлеры потому и крупные, что сфокусировались на росте объемов бизнеса, а не на его управляемости. В ритейле направление ИТ исторически воспринималось как вспомогательное, а не основное. Сейчас же всем стало очевидно: нельзя удержать объемы бизнеса без инструментов управления и обеспечения конкурентных преимуществ», – считает Александр Черкавский.
И вот на этом месте мы рискуем снова запутаться. Платформы и платформенный подход – это синонимы? Или не нужно путать теплое с мягким? «Понятие платформы действительно относительно новое и немного размытое. Тут мы говорим о двух основных его аспектах», – комментирует Андрей Павленко.
С технологичесй точки зрения, платформа – это способ объединить технологические продукты, созданные в компании в разное время разными департаментами. «Можно даже сказать, что это экосистема, – объясняет Андрей Павленко. – Например, есть бухгалтерия и есть отдел работы с мерчантами и еще десяток департаментов. Каждое подразделение имеет собственные программные продукты, которые между собой часто плохо взаимодействуют. Единая платформа решает эту проблему, позволяет передавать данные между департаментами и в принципе эффективно управлять любыми данными компании».
А вот с точки зрения бизнеса, ИТ-платформы – это конкретное решение, бизнес-модель. Тот же Uber, например, это больше бизнес-решение. Это платформа, которая предназначена для работы участников с общими задачами и целями. «У нас есть подобный проект – платформа Hubber, которая объединяет поставщиков и интернет-магазины, практически Facebook для участников e-commerce рынка, – говорит Андрей Павленко. – Огромный плюс платформы как бизнес-модели в том, что это инструмент, который позволит большой машине бизнеса быть маневренной и быстро развернуться. Именно поэтому такая модель привлекает российский бизнес».

Есть и более радикальное мнение. «Массовое использование термина ИТ-платформа – маркетинговое поветрие, которое вызвано необходимостью повышения отдачи от информационных технологий», – уверен Александр Черкавский. По его словам, однозначное определение ИТ-платформы есть, просто не на нашем рынке. «Когда читаешь про эти вещи на английском, пространства для домыслов не остается, – рассказывает Александр Черкавский. – Российским поставщикам ИТ-услуг и решений невыгодно, чтобы у таких терминов было однозначное определение, поскольку с помощью подмены понятий проще запутать заказчиков, продавая им свои решения».
Не будем развивать теории заговора ИТ-вендоров, однако проблема маркетинговых уловок в части терминологии давняя. И не только по вопросу платформ. Доходит до того, что у слушателей докладов на профильных конференциях один словарь, а у практиков, ИТ-специалистов на местах – другой. Легко можно встретить ситуацию, когда задаешь вопрос по рекламной брошюре ИТ-компании не менеджеру, а инженеру, и он не может понять, о чем речь, потому что у них такими громкими фразами не говорят.
Определимся с определением
Попробуйте поискать понятие «ИТ-платформа» прямо сейчас. Поиск выдаст много текстов, читая которые, невозможно отличить систему от бизнес-модели. Однако с тем, что это типично российская проблема, как говорит Александр, согласиться нельзя. Вот что пишут австралийские авторы научного изыскания «Информационно-технологические платформы: определение и направления исследований» (Байрон Китинг из Квинстонского технологического университета и Ширли Грегор из Австралийского национального университета): «Понятие ИТ-платформы является широким и охватывает различные явления, начиная от операционной системы Linux и заканчивая Интернетом. Такие платформы приобретают все большее значение для инноваций и создания ценности во многих аспектах промышленности и повседневной жизни. Однако как в научных исследованиях, так и в промышленности отсутствует общее понимание того, что означает термин «платформа», когда он связан с ИТ. Такое отсутствие консенсуса наносит ущерб исследованиям».
Чтобы дать определение, авторы проанализировали 133 статьи, взятые из материалов конференций, деловых изданий и основных журналов по информационным системам. Если читатель поспешно листнет исследование к финальной главе «Вывод» в надежде найти там четкое определение, то он слишком наивен. Исследователи обещают продолжить свои исследования этой зыбкой почвы, а пока предлагают довольствоваться тем, что нашли шесть ключевых аспектов концепции ИТ-платформы: это технологическая база, стандарты, дополнительные надстройки, функциональная совместимость, транзакционность и управление. Кроме того, они определили существование еще одного, тесно связанного с платформами, понятия – платформенно-ориентированная экосистема. Как видим, ковыряние в англоязычных и вполне авторитетных источниках не привело к мгновенной ясности.
Под влиянием электронной коммерции, возможностей новых технологий, в первую очередь больших данных, облаков, Интернета вещей, онлайн-аналитики, машинного обучения, а также новых требований со стороны биологической безопасности ритейл претерпевает интенсивные и глубокие изменения. «В таких условиях требуется время, необходимое для стабилизации новых концепций. ИТ-платформа здесь не является исключением. ИТ-платформа – это не ИТ-система; это комплекс интегрированных между собой ИТ-систем и формализованных экономических отношений, который автоматизирует сквозные бизнес-процессы группы бизнес-партнеров: компаний, связанных между собой коммерческими отношениями», – подытоживает Александр Прозоров, научный сотрудник лаборатории машинного интеллекта МФТИ, соавтор учебника 4CDTO «О цифровой трансформации и цифровизации».
Все свое
С терминами немного определились, теперь отметим, что в плане пользования ПО у ритейла есть два противоположных подхода. «Одни создают собственные системы цифровизации бизнеса, развивают их в сторону платформ. Например, «M.видео» или наш заказчик kari. Другие внедряют готовые решения, проводя их кастомизацию под постоянно меняющиеся требования бизнеса», – говорит Алексей Северухин, куратор проекта по разработке системы для kari, IT-компания Lad.
О двух крайностях рассказывает и Антон Мартьянов, интерим-менеджер, участник Союза независимых экспертов: «Самый распространенный путь – это разработка всего самостоятельно, в духе «все делаем сами: от лопаты до космического корабля – и с глубокой локализацией». Другая крайность – стремление к стопроцентному аутсорсингу всех процессов (от персонала до заводов и ИТ-платформ)».
На фоне возросшего интереса к платформам неудивительно, что облачное направление PaaS – «платформа как сервис» – только набирает обороты и сейчас является самым быстрорастущим сегментом среди облачных сервисов, по мнению IDC. На рынке появились и такие вещи, как программные платформы-конструкторы с возможностью самостоятельной сборки ПО. Правда, мы не успели обсудить это решение с компанией-разработчиком RedSys. Как написал CNews, с октября 2019 г. по судебным инстанциям кочует дело о банкротстве RedSys, в недавних новостях также фигурируют аресты, взятки и сговор с чиновниками.
Однако и без RedSys вендоров, предлагающих разные типы работы с платформами, множество, так как существует глобальный тренд на цифровизацию сервисов, бизнес-процессов, коммуникаций. Если предложений много, зачем ритейлу понадобилось разрабатывать собственные решения?
Собственная платформа в отличие от облачного сервиса позволяет полностью учесть именно свои потребности и процессы. Кроме того, это тот элемент стратегии, который призван обеспечить безопасность, создать экосистему сервисов и автоматизированное дистанционное обслуживание процессов, наконец, снизить процент человеческого труда и ошибок, сэкономить на издержках. Об этом рассказывает Константин Андреев, коммерческий директор компании Globus: «Если посмотреть с позиции бизнес-заказчика, то организация канала коммуникаций с клиентом, сотрудниками, подразделениями компании через информационную инфраструктуру выгодна для бизнеса. Она разгружает традиционные офлайн-каналы общения, снижает нагрузку на бэк-офис. Автоматизация рутинных процессов уже внедрена во многих корпорациях, но использование современных технологий, например, машинного обучения, позволяет делать это на качественно новом уровне. Так, многие компании внедряют глубокую аналитику поведения пользователя и задумываются о кросс-продажах, лояльности клиентов, которая достигается в том числе и за счет сервисного подхода и создания ИТ-платформ».

До сих пор повсюду сохраняется большая доля ручного труда, а также ошибок, непрозрачности процессов, потерь производства, ручного принятия типовых решений. В то время как существующая конъюнктура рынка, развитие технологий, доступность (удешевление) технологий подстегивают тренд на создание ИТ-платформ. «Сейчас рост через цифровизацию и автоматизацию – это наиболее ожидаемое и очевидное решение для руководства компаний, – говорит Константин Андреев. – Объектами автоматизации в ритейле будут и далее являться аналитика данных и Big Data, автоматизация цепочек поставок, упрощение внутренних процессов работы с подрядчиками и поставщиками, ЭТП (электронные торговые площадки), ЭДО (электронный документооборот). Важными факторами для эффективной работы сотрудников являются системы внутреннего обучения LMS, интранеты, программы лояльности. Чаще всего функционал готовых решений, существующих на рынке, уже не успевает за развитием этого тренда. Поэтому многие компании проекты цифровизации и автоматизации развивают с экспертами в формате аутсорсинга «под ключ».
Крупная компания, которая ставит для себя целью быть лидером рынка или его сегмента, сама создает тренды развития цифровых систем и первой внедряет технологические новинки. «Только собственная цифровая платформа с сильной командой разработки (собственной или аутсорсинговой) позволяет развиваться таким образом, – полагает Андрей Павленко. – Система, собранная из готовых продуктов, не даст подобной гибкости».
По его мнению, изменения, для выполнения которых нужно скоординировать усилия нескольких вендоров, не будут происходить настолько динамично и не смогут полностью отвечать запросам бизнеса. Компании же, избирающие более консервативную стратегию, могут пользоваться технологиями, уже внедренными в типовые программные продукты. Это даст экономию в затратах. Но все новинки технологий придут в жизнь, скорее всего, позднее, чем у технологических лидеров. И ритейлер будет вынужден подстраивать свои процессы под функциональность, разработанную вендорами.
Тот же ритейлер, кто разрабатывает собственную платформу, получает возможность управлять процессом и накапливать большие данные. «Это иной уровень возможностей по анализу продаж, ассортимента, покупательского поведения, прогностике, таргетированному рекламному воздействию», – говорит Алексей Северухин.
Одно из отличий платформенного решения от традиционных информационных систем – гибкость в интеграции с другими сервисами, системами, ресурсами. «Компания получает новое качество в быстроте внедрения цифровых технологий. И дает в руки возможности по наполнению своего «озера данных» и работы с ним по своим правилам», – дополняет он.
Вопрос выживания
Чтобы понять, нужно ли ритейлу разрабатывать свою ИТ-платформу или встраиваться в существующую, необходимо немного освежить теорию. «ИТ-платформа снижает транзакционные издержки, а это в свою очередь снижает стоимость одного рубля выручки. То есть, откровенно говоря, вопрос уже не стоит в форме «нужна или нет ИТ-платформа». Вопрос стоит «какую ИТ-платформу необходимо разрабатывать», либо, если для этого ресурсов недостаточно, вопрос стоит «в какую ИТ-платформу необходимо интегрироваться», – объясняет Александр Прозоров. Разрабатывать свою или присоединяться к существующей ИТ-платформе – это вопрос выживания бизнеса, а не дань моде.
Мы поговорили с крупнейшим онлайн-гипермаркетом в сфере DIY в России – компанией «ВсеИнструменты.Ру», так как, по их признанию, у них целый набор платформ и все – самописные. Вадим Кузин, ИТ-директор компании, подтвердил, что создание своей ИТ-платформы является трендом: «Да, это однозначно тренд. Для всех игроков рынка создание своего продукта сейчас – это самый понятный, но довольно сложно реализуемый шаг по формированию конкурентного преимущества. Полностью кастомизированный под вас продукт – с вашими процессами и возможностью быстро и гибко их менять – это как раз то, чего все и пытаются добиться».
На вопрос, что подстегивает ритейл создавать платформы, Вадим Кузин ответил так: «Как и любую компанию, нас подстегивает желание обезопасить себя в долгосрочной перспективе. Имея свой продукт, вы управляете рисками сами: отсутствуют проблемы, связанные с географией, с валютным курсом. Ну и гибкость добавляет вам маневренности, что повышает выживаемость компании на рынке».
Цель создания единой платформы, позволяющей передавать данные между департаментами, с технологической точки зрения оправданна. «Она позволяет добиться больших результатов в плане слаженности работы разных отделов. Но в плане реализации эта идея сложная и дорогая, – отмечает Андрей Павленко. – Процесс внедрения должен быть итеративным, и использующим эмпирический подход в разработке и внедрении. Иначе возникает высокий риск получить сверхтраты».

Прочь из зоопарка
ИТ-платформы можно было бы рассмотреть как путь преодоления «зоопарка систем», который только ширится. Появляются системы, затем приложения, затем средства мониторинга систем и приложений... Ситуация похожа на расходящиеся концентрические круги – бизнес в них буквально тонет, и легко догадаться, что мечтает о «едином окне», где все в одном.
«Среди целей создания собственных платформ, безусловно, присутствует мотив преодоления «зоопарка». На практике любая информационная система сегодня – это десятки, сотни интеграций. Если ваша система включает в себя e-commerce, вам неизбежно придется интегрироваться с ИТ-системами служб доставки. Сервисы лояльности, потребительского кредитования, кросс-продвижения, кошельков, ЕГАИС, «Честный знак», системные сервисы мониторинга, поддержки, защиты информационной системы раньше или позже будут интегрированы с ИТ-платформой ритейла», – полагает Алексей Северухин.
«А я не согласен, – парирует Антон Мартьянов. – Создание своей ИТ-платформы влечет за собой еще больший «зоопарк», потому что будут все те же самые решения плюс еще одно. Ведь платформа не делается силами одного специалиста, будет привлечено множество людей и команд, даже и подрядчиков. В итоге получившаяся ИТ-платформа создаст еще больший «зоопарк систем», внутри которого объединятся как внутренние решения, так и системы от вендоров. Потому что, как правило, своя платформа успевает закрыть основные процессы и даже успевает вслед за быстро меняющимся рынком технологий, но вот все дополнительные опции, фишки… Они уже не успевают. Поэтому взаимодействие с другими приложениями и системами изначально зашивается в логике, например, через API. В итоге даже собственная платформа – это множество внешних платформ и софтверных решений, чтобы взаимодействовать с партнерами, поставщиками, покупателями и контролирующими органами».
Одной большой идеальной ИТ-платформы, которая бы покрывала все бизнес-процессы крупной компании, не существует, это недостижимый идеал. «Всегда будет смесь собственных разработок и коробочных продуктов, – подтверждает высказанную ранее мысль Вадим Кузин. – Важно, чтобы процессы, которые для вашей компании являются конкурентным преимуществом, автоматизировались на собственных решениях, тогда вы всегда будете на шаг впереди ваших конкурентов».
«Зоопарк систем» – уже устаревший штамп, который используют менеджеры по продажам ИТ-компаний, чтобы убедить заказчика внедрить их продукт, зачастую без разработки бизнес-кейса в качестве обоснования инвестиционного проекта. Так считает Александр Черкавский. По его словам, платформы позволяют повысить интероперабельность то есть способность систем взаимодействовать друг с другом. «При этом совсем необязательно сносить старые системы, если это экономически не обоснованно, – говорит он. – Представьте, что мы с вами инвестировали десятки или сотни миллионов рублей в конкретную систему. Причина, по которой мы соберемся ее менять, должна быть очень веской. Построение платформы само по себе такой причиной не является».
Не стоит думать, что ИТ-плат-форма – это «одно окно», которое решит все проблемы. Но и без нее никак. Дело в том, что «зоопарк» ИТ-систем появился не на пустом месте, а вследствие того, что бизнес развивался. «Наличие зоопарка – это следствие многолетнего успешного бизнеса. Однако современные требования к малому времени вывода УТП
на рынок и низкой стоимости процессов не оставляют пространства для маневра, «зоопарк» уже не в состоянии справиться с этими требованиями, нужна ИТ-платформа. Разработка своей ИТ-платформы или присоединение к существующей – это способ выживания бизнеса в новых условиях», – замечает Александр Прозоров.
Закрываемся или открываемся?
Медленно, но верно надвигающееся импортозамещение может повлиять на решение разрабатывать в компании собственную ИТ-платформу. Но это зависит от отрасли, сферы, контекста компании. Конечно, наиболее актуальна задача импортозамещения для государственных структур. «Для коммерческих компаний самые важные факторы другие: это себестоимость, средний чек, захват доли рынка, прогнозируемость. Однако и для них переход на собственные ИТ-решения может иметь решающее значение. Например, крупной компании не хочется зависеть от облачного сервиса, который может заблокировать РКН», – рассказывает Константин Андреев.
По его мнению, для дальнейшего развития этого тренда необходимо лобби крупных корпораций и государства. «Надеемся, что спрос на отечественные инновации будет только усиливаться и отрасль ИТ позволит рождаться новым продуктовым компаниям и сервисам, которые усилят экономику и дадут новые рабочие места», – говорит он.
Зависимость крупного бизнеса от ИТ и, в частности, от ИТ-платформ не просто нарастает, а уже давно стала критической. «В связи с этим корпорации разработали и руководствуются политиками, которые регламентируют замещение закрытых вендорских решений на открытые решения (open source). Например, Oracle заменяют на Postgres, IBM MQ на Apache Kafka и так далее. Уловив этот тренд, крупные вендоры, такие как Intel, HP, IBM, Cisco и многие другие, входят в консорциумы и совместными усилиями разрабатывают open source платформы. Такие open source платформы успешно применяются в различных областях. Поэтому при разработке своей ИТ-платформы целесообразно говорить не об импортозамещении, а о снижении зависимости от поставщиков путем использования готовых компонентов из числа open source платформ», – комментирует Александр Прозоров.

Получается, не импортозамещение, а открытые исходные коды влияют на то, что появляется все больше собственных, внутренних решений. Создавать свои собственные ИТ-платформы станет легче, раз под рукой ширящиеся репозитории, да и говоря о постпандемичном мире, некоторые эксперты подчеркивают, что теперь-то уж точно open source будет вытеснять проприетарные системы.
Open source существенно облегчает разработку собственной ИТ-платформы. В этом уверен Александр Прозоров: «Скажу больше, open source – это новый долгосрочный тренд устойчивого развития ИТ и способ борьбы средних компаний с гигантами. Например, IBM, Cisco, HP, Vmware объединились в консорциум и разрабатывают платформы облачных вычислений и Интернета вещей, составляя конкуренцию Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure».
«Создавать не только платформы, но и любое ПО с каждым годом становится все проще, – рассказывает Константин Андреев. – Появляются no-code-системы, развиваются языки, публикуются новые библиотеки. Но можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны. Если компания пишет свое ПО, в какой-то момент она может захотеть либо начать его продавать, либо защитить, чтобы укрепить свое конкурентное преимущество. Это может послужить толчком к развитию сектора проприетарного ПО».
Про open source никогда не было единого мнения. «Помимо аппаратного (hardware) и программного (software) обеспечения необходимы еще и методологическое обеспечение (methodware), и ресурсы (время, сотрудники с компетенциями, деньги). С точки зрения стоимости методологического обеспечения и компетенций свободное ПО (opensource) проигрывает проприетарным системам. Сейчас в мире побеждают no-code и low-code системы и платформы, которые позволяют создавать бизнес-приложения без участия программистов, а в идеале – и без ИТ-консультантов», – говорит Александр Черкавский.
По его словам, ИТ-платформы легче создавать, когда рядом есть информационные менеджеры, стюарды данных, бизнес-аналитики и архитекторы. Репозитории с открытым кодом продвигают и активно пиарят последователи импортозамещения, выдавая желаемое за действительное.
Ищу человека
Как и у любой технологии или решения, у платформ есть свои «подводные камни». «Проблем на самом деле очень много. Это и разработка правильной архитектуры, выбор стека технологий, управления данными, словом, все проблемы высоконагруженных систем», – перечисляет Алексей Северухин.
По его словам, одна из наиболее сложных задач – это формирование команды разработки при сегодняшнем тотальном дефиците квалифицированных кадров в ИТ-отрасли. Но ключевой момент – это управление продуктом, бизнес-аналитика. «Ошибки проектирования, заложенные в архитектуру системы из-за непроработанных и несогласованных требований различных бизнес-структур компании, обходятся в дальнейшем весьма дорого. Я бы сказал, что секрет успеха всех удачных платформенных решений кроется в команде квалифицированных продактов-визионеров», – уверен он.
Основная проблема – это сложность ИТ-платформ. «У этой проблемы очень много следствий, то есть производных проблем, – говорит Александр Прозоров. – Чтобы добиться успеха, помимо ресурсов вам критически необходима команда, которая в состоянии работать на заданном уровне сложности. Если такой команды нет и нет понимания, как ее создать – не стоит ввязываться в собственную разработку, идите по пути подключения к готовой ИТ-платформе».

То же самое говорят и представители ритейла: «Основная проблема сейчас – это квалифицированный персонал (разработчики, аналитики, тестировщики, продакт-менеджеры). Рынок очень перегрет, качественных людей всегда было мало, а спрос после пандемии только вырос. Так что вопрос подбора, удержания и развития собственной ИТ-команды – это основное, что является ограничителем для компаний», – отмечает Вадим Кузин.
«Ищу человека» – под этим девизом, похоже страдают все. Наши эксперты были единодушны: кадров катастрофически не хватает. «Основная проблема заключается в отсутствии (или как минимум в дефиците) специалистов с необходимыми компетенциями, а также поддерживающих процедур и процессов, – объясняет Александр Черкавский. – Бизнес-анализ, раз-
работка бизнес-кейсов, стратегическое планирование и раз-
работка методик цифровизации, моделирование данных, архитектура информационных систем, исследования (RnD), моделирование процессов, прототипирование и вовлечение сотрудников – все это должно применяться в комплексе для достижения бизнес-целей и решения бизнес-задач. В российских компаниях традиционно фокусируются на технологиях, а потом удивляются, почему возврат инвестиций такой долгий, а результатами проекта нельзя повторно воспользоваться».
Цифровизация по науке
Чтобы результат получился удовлетворительный, по-хорошему, нужно начинать совсем от печки – с исследований. Нужно собирать информацию о работающих или проектируемых цифровых платформах по разным отраслям экономики в разных странах мира, чтобы сформировать целостную картину имеющихся достижений и намечающихся трендов.
«Это зависит от бюджета компаний. Кто-то проводит исследования своими силами либо силами привлеченных специалистов. Другие ограничиваются фокус-группой из руководителей. Культура сбора и обработки требований действительно пока недостаточно развита, поскольку многие компании работают по старинке», – считает Константин Андреев.
Ведущие аутсорс-компании активно помогают заказчикам, используя консалтинг-подход. Клиенту не всегда удается правильно сформулировать цели автоматизации, и в результате появляются проекты, которые не несут положительного эффекта для бизнеса. «Это та проблема, с которой стоит научиться работать каждому. Например, используя итеративный подход к разработке решений с обязательным этапом получения обратной связи от пользователей и рынка в целом», – поясняет он.
Необязательно затевать глобальное исследование, достаточно проводить бенчмаркинг на тему цифровизации (создания ценности) в своей отрасли. «Такие исследования очень полезны для разработки бизнес-кейсов и конфигурирования соответствующих проектов. На деле же часто ограничиваются попытками подсмотреть что-то у ближайшего конкурента. Консалтинговые проекты на эту тему – большая редкость», – сетует Александр Черкавский.
По его словам, это общая ситуация, характерная для российского рынка, где понимание маркетинга не сформировалось и не поднялось до уровня проведения рыночных исследований. А ведь рыночное исследование и есть тот самый первый шаг при разработке стратегии цифровизации, в рамках которой в числе прочего и фиксируется решение о создании комплексной ИТ-платформы.
В принципе понятно, почему так происходит. На неочевидном всегда хочется сэкономить. А стоимость консалтинга узнать нетрудно. Так, «Фабрика цифровых платформ» у себя на сайте пишет: однократная трехчасовая консультация по проекту стоит 99 тыс. рублей; разработка концепции платформы – 2 млн 990 тыс. рублей. Готовы раскошелиться?
Необходимо сформировать свое мнение для принятия обоснованного решения. Однако сложность ИТ-платформ не позволяет это сделать быстро, если нет глубокой подготовки по вопросу. Чтобы сэкономить время и не потерять большие деньги, целесообразно обратиться к экспертам. Что касается исследований: в силу того, что ИТ-платформа – это уникальная вещь, которую необходимо проектировать и собирать для решения уникального набора требований, общие маркетинговые исследования вряд ли помогут. Также следует отказаться от иллюзии поиска полностью готового «коробочного» решения. Об этом рассказывает Александр Прозоров: «Я хочу привести метафору. ИТ-платформа – это большой торговый центр, который необходимо спроектировать и построить в конкретном ландшафте. В проекте необходимо предусмотреть подходы и подъезды, подключение к воде, газу, электричеству, канализации, вопросы обслуживания и эвакуации, вопросы трансформации помещений под требования различных арендаторов и множество других требований. Нельзя получить готовый торговый центр на складе. Существует только два варианта получить торговый центр: его можно построить или купить/арендовать уже готовый. Поэтому, если у вас достаточно ресурсов затевать строительство своего торгового центра, то ваш выбор – разработка ИТ-платформы. Если ресурсов недостаточно или есть ограничение по времени, то лучше будет въехать в готовый торговый центр – арендовать мощности существующей ИТ-платформы».
Преимущества, которые дает собственная ИТ-платформа:
• независимость от других крупных структур, конкурентов, поставщиков;
• построение внутренних и внешних экосистем;
• экономия;
• унификация процессов и данных;
• увеличение среднего чека;
• автоматизация бизнес-процессов, увеличение доступности своих услуг.
По версии компании Globus
Основные проблемы при создании корпоративных платформ
• собранных требований недостаточно или слишком много;
• сразу делается очень большой кусок и ставится слишком большая задача;
• конечный пользователь не вовлечен и/или не понимает преимуществ и цели;
• процесс ради процесса возникает, когда конечная цель не сформулирована
во времени и цифрах;
• не выявлены цели бизнеса в полном объеме;
• нет синхронизации между командой заказчика и подрядчика;
• попытка полностью скопировать конкурента без учета специфики собственных
процессов.
По версии компании Globus
Применение платформенного подхода в ритейле позволяет решать следующие задачи:
• обеспечить взаимодействие разрозненных информационных систем;
• удешевить создание бизнес-приложений;
• оптимизировать или провести реинжиниринг бизнес-процессов;
• упорядочить информационный ландшафт организации.
По версии компании «Витте Консалтинг»
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Если четыре года назад можно было услышать мнение такого рода: «цифровые платформы устарели, пора создавать экосистемы», то теперь ИТ-платформами снова гордятся. Многие самостоятельные организованные единицы создают собственные ИТ-платформы разного назначения. [~PREVIEW_TEXT] => Если четыре года назад можно было услышать мнение такого рода: «цифровые платформы устарели, пора создавать экосистемы», то теперь ИТ-платформами снова гордятся. Многие самостоятельные организованные единицы создают собственные ИТ-платформы разного назначения. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6003 [TIMESTAMP_X] => 18.05.2021 15:37:47 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 663 [WIDTH] => 1181 [FILE_SIZE] => 556250 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/6c6 [FILE_NAME] => 6c62860f82c332db1fde570270771700.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_525896389_.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => a1e32fca958ba650d8331681df06f6e0 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/6c6/6c62860f82c332db1fde570270771700.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/6c6/6c62860f82c332db1fde570270771700.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/6c6/6c62860f82c332db1fde570270771700.jpg [ALT] => Формы платформы [TITLE] => Формы платформы ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6003 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => formy-platformy [~CODE] => formy-platformy [EXTERNAL_ID] => 6358 [~EXTERNAL_ID] => 6358 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 18.05.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Формы платформы [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Формы платформы [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Если четыре года назад можно было услышать мнение такого рода: «цифровые платформы устарели, пора создавать экосистемы», то теперь ИТ-платформами снова гордятся. Многие самостоятельные организованные единицы создают собственные ИТ-платформы разного назначения. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Формы платформы [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Формы платформы | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [4] => Array ( [ID] => 6276 [~ID] => 6276 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Сделай сам [~NAME] => Сделай сам [ACTIVE_FROM_X] => 2021-03-31 10:37:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-03-31 10:37:00 [ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 10:37:00 [~ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 10:37:00 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:40:45 [~TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:40:45 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/sdelay-sam/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/sdelay-sam/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Импортозамещение – это не только замена санкционных европейских морепродуктов на белорусские. Это еще и переход с импортного программного обеспечения на отечественное. Пока в этот процесс серьезно вовлечены государственные структуры, однако, по мнению экспертов, дело может дойти и до коммерческих предприятий, в том числе и ритейловых компаний. При этом переход на российский софт происходит и по экономическим причинам: он заметно дешевле на фоне падающего рубля. К чему быть готовым и куда бежать в случае чего – вот тема сегодняшнего разговора.

Новый смысл этого слова подкрался к торговым компаниям незаметно. Когда в 2015 году Минкомсвязи утвердило приказ об отраслевом плане импортозамещения программного обеспечения, поворот на новые рельсы касался лишь государственных предприятий. Это было вполне закономерно: правительство беспокоилось, что Запад может не только применить очередные санкции, но и просто остановить работу проданного нам ПО и устройств. Даже телефон и телеграф захватывать не придется – производства будут обездвижены.
Переход на отечественные программы и оборудование вызвал не меньше споров, опасений и проблем, чем замещение пармезана пошехонским сыром в торговых сетях. Крупнейшие компании только в этом году начали отчитываться о том, что доля российского ПО в их проектах растет. Однако даже они не были готовы отказаться от западного софта раз и навсегда. Коммерческие компании в это время вздыхали с облегчением: это была не их головная боль.
Радовались не все и недолго: внезапно проблема, связанная с использованием западных технологий, растеклась: первыми начали подмокать операторы сотовой связи. В начале года они строили планы по проникновению в Россию сетей нового поколения 5G, а уже к сентябрю выяснилось: строиться можно только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
Почувствовали на себе дыхание закона и магазины, торгующие электроникой. В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на сложные электронные устройства. Ритейлеры попросили дать им хоть немного времени. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в администрацию президента письмо, цитаты из которого опубликовал ТАСС: «Установленный законопроектом срок <...> приведет к серьезному дефициту бытовой техники и электроники на российском рынке. Срок оборачиваемости электроники в ритейле составляет в среднем 30–60 дней. Таким образом, старые остатки вымоются, а новые товары еще не будут произведены».
И все же причем тут продуктовая розница? Наше дело – сторона, скажете вы. Пока вы правы, но тенденция налицо. С самого начала было понятно, что распространение концепции перехода к импортонезависимости не ограничится только госсектором. «Первыми к процессу подключились государственные организации, позднее – госкомпании, на которые было распространено требование по преимущественному использованию российского софта. Но уже два года назад эксперты Softline предсказывали дальнейшее распространение тренда на коммерческие организации и даже на частных пользователей», – отмечает Дмитрий Сорокин, руководитель отдела развития продаж отечественного ПО компании Softline.
Перекроем кислород
Действительно, даже автор этих строк как частное лицо столкнулся с тем, что можно в одночасье лишиться купленной у западного производителя программы. Вендоры уходят из России по разным причинам: кто-то присоединяется к санкциям, кто-то технически не может обеспечить все требования законодательства, например, хранит персональные данные россиян на серверах, физически находящихся за пределами РФ.
В моем случае я попросту не получила необходимого обновления от автора программы, и приложение, на котором выполнялись работы, встало. «Рад помочь, но у вас заблокирован доступ к серверам», – ответил на письмо разработчик. Так я лишилась и этого приложения, и заодно потеряла несколько рабочих дней в попытках решить проблему.
Бизнес себе такого позволить не может. Крупнейший ритейлер Amazon подсчитал, что минута простоя стоит им $165 тыс. Аналитики «Инфосистемы Джет» в недавнем вебинаре заявляли: «Для отечественных торговых организаций средняя стоимость одного часа простоя составляет от 20 до 50 млн руб.».
Воспитание рублем
Страх внезапно потерять важнейшие для работы организации ИТ-системы – не единственный двигатель импортозамещения. Бизнес всегда считает деньги. В отличие от госсектора ритейлу пока не предъявляют таких строгих требований к переходу на российские системы. «В коммерческом сегменте мотивы к использованию российского или открытого ПО иные, – полагает Максим Березин, директор по развитию бизнеса компании «КРОК Облачные сервисы». – В первую очередь нужно снижать лицензионные отчисления вендорам. Стоимость валюты с начала года увеличилась более чем на 20%, это неизбежно привело к подорожанию всего проприетарного софта».
Подорожают и лицензии, и техническое сопровождение. «Вполне может произойти так, что ритейлеры сами захотят перейти на отечественное ПО, так как умеют считать деньги, – размышляет Павел Попов, директор по развитию бизнеса компании Bell Integrator. – Конечно, есть и определенные страхи. Новое всегда пугает. Что касается санкций и ухода из России поставщиков, пока это касается только некоторых организаций, в массе бизнес не затронут. Тем не менее мне кажется, что общая атмосфера, царящая вокруг импортозамещения, и вышеуказанные вещи могут просто выдавить со временем желание использовать импортный софт».
Уже сейчас ритейлеры пытаются превентивно снижать у себя долю иностранного ПО. Но пока делается это не ради импортозамещения, а из-за экономии. «Например, в части СУБД многие переходят на бесплатные версии Postgres, в качестве ERP используют различные модификации 1С. Системы CRM многие пишут сами или используют российские. Западные CRM вообще не часто приживаются у нас как в крупном, так и в малом бизнесах, – говорит Павел Попов. – Мобильные приложения практически все пишут для себя сами. Сложно тем, у кого много бизнес-логики заложено внутри СУБД от Oracle или MS SQL. Также крайне сложно и дорого заменить ERP или CRM, если они стоят на предприятии давно и на них завязано большое количество бизнес-процессов. Очень сложно, например, «слезать» с SQP или Siebel. А своих аналогичных продуктов в России пока нет».
Перед стартом ИТ-проекта передовой ритейл опирается на бизнес-кейсы: просчитываются и доходы, и расходы. «Это и есть драйвер выбора относительно того, внедрять или нет то или иное решение, – говорит Геннадий Тарантасов, коммерческий директор ГК «КОРУС Консалтинг». По его мнению, основными критериями выбора ИТ-систем станет все-таки не страна производства, а совокупная стоимость владения, функциональность, риски и время, за которое решение внедряется. «Из-за текущей экономической ситуации западные решения становятся только дороже, поэтому, если на российском рынке есть ПО, которое закрывает те же функциональные задачи, что и иностранные аналоги, розничные сети выбирают их», – подчеркивает Геннадий Тарантасов.
В России есть бизнес-приложения, которые по функциональности не уступают лучшим решениям глобального рынка. К ним относятся системы для расчета заработной платы, кадрового делопроизводства, бизнес-приложения в области управления финансами и прочие. Их проще внедрять, легче найти специалистов для развития и обслуживания. И ритейлеры с удовольствием пользуются этим. Но есть и классы систем, сильно уступающих западному софту, например, в области оптимизации ценообразования, управления ассортиментом, распределения остатков продукции и так далее. «В этой ситуации ритейлер либо выбирает дорогое западное бизнес-приложение, либо пишет софт самостоятельно», – объясняет Геннадий Тарантасов.
«План Б»
Получается, что ИТ-директора уже сейчас задумываются над перестройкой стратегии развития ИТ-систем, их закупкой, внедрением, развитием. Ведь нельзя каждый год менять системы, повинуясь движению политического ветра. Стало быть, риски нужно просчитать заранее и сделать их оценку: проверить компоненты ИТ-ландшафта и прикладных приложений. «Грамотные ритейлеры думают об этом уже сейчас, – комментирует Павел Попов. – Риски есть, и они растут. Можно остаться без сопровождения или вынужденно перейти на новый софт в самый неподходящий момент. Стоит сразу подумать над «планом Б».
Вопрос импортозамещения не может сбрасываться со счетов ни одной компанией, работающей на территории РФ, в том числе и ритейлерами. «За последние несколько лет ритейл в целом претерпел ряд изменений, связанных с государственными инициативами: сюда можно отнести и все более жесткое регулирование отрасли, и ЕГАИС, и введение обязательной маркировки товара, – вспоминает Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – В связи с этим в стратегии ритейлера обязательно должен присутствовать учет так называемых страновых рисков и план их минимизации».
На заказ
Однородным ИТ-ландшафтом сейчас могут похвастаться разве что совсем молодые и маленькие компании. Крупный ритейл обладает целым парком из самых разных решений: как исторически сложившихся, так и новых, от проприетарных до опенсорсных разработок. Единообразия нет и вряд ли будет в обозримой перспективе. При этом ключевой бизнес ритейлера в условиях повышающейся конкуренции на рынке все больше зависит от выбранных ИТ-решений, цифровизации и оптимизации процессов. «Место ИТ в ритейле меняется, ныне это не сервисное подразделение, а полноценная составляющая бизнеса, – говорит Татьяна Ежова, руководитель направления Retail компании «Рексофт». – Недаром ряд ключевых игроков переименовывают свои торговые организации в ИТ-компании, развивая направление инсорса».
По словам Татьяны Ежовой, наблюдается повсеместный переход от монолитных платформенных решений к микросервисным, и основные критерии для внедрения: показатели эффективности, быстрый ввод в строй, инновационность. Таким образом, вопрос может решиться сам собой, и компания перейдет от использования вендорных решений, в том числе и иностранных, к индивидуальной разработке, к ПО, сделанному российскими разработчиками на заказ. «Это не тренд отказа от иностранного ПО, а переход к решениям, которые реально нужны бизнесу, – констатирует Татьяна Ежова. – Использование продуктов с открытым исходным кодом, в том числе и западных, вряд ли снизится, но число заказов на производство российских микросервисных платформ или уникальных решений от местных разработчиков увеличится. В ритейле, как правило, достаточная доля заказных решений (например, продающие мобильные приложения), а также специализированного ПО и оборудования, которое на 100% отвечает отечественному законодательству и оперативно следует его изменениям, вспомним те же мобильные кассы. Можно сказать, что в этих сегментах вопрос импортозамещения не стоит, потому что изначально используются отечественные программы». «На мой взгляд, разумно заказывать разработку основного куска системы, а дальше сопровождать и развивать ее своими силами, – добавляет Павел Попов. – На пиковые загрузки или конечные задачи можно привлекать внешних разработчиков, забирая их код себе».
Открыты новому
Можно заказать свое программное обеспечение у подрядчиков, а можно доработать основу под себя, используя продукты с открытым исходным кодом, доступные разработчикам любых стран. «Мы видим тренд на уход ритейла от монолитных систем к созданию микро- и макросервисов на базе открытых технологий, – соглашается Геннадий Тарантасов. – Вся экспертиза по подобным продуктам хранится у ритейлера. Он сам управляет созданием и развитием такого ПО».
Такой подход особо популярен у крупных и технологически развитых розничных сетей, например, у «М.видео», или у выходцев из рынка e-commerce (Wildberries, Lamoda). При этом у подобных компаний есть в ИТ-ландшафте и монолитные системы.
«На мой взгляд, эта стратегия оправданна, когда у бизнеса есть уникальная бизнес-задача, которую ранее никто на рынке не решал, а готовых ИТ-продуктов для этого нет, – комментирует Геннадий Тарантасов. – Это может быть связано со специфической функциональностью или новыми требованиями к производительности, когда требуется обрабатывать колоссальные объемы информации. Для типовых же задач, например, в области управления финансами, нет смысла в самописном решении».
Внутренняя сила
А что если вообще не обращаться к вендорам, вместо этого создавая необходимые ИТ-системы самостоятельно? Тем более что ритейл этим занимался и раньше. Некоторые настолько углубились в технологии, что даже открывают целые отделы, занимающиеся ИТ. Вспомним департамент по Data Science у X5 Retail Group.
Насколько это дальновидно и перспективно? Игорь Бонев, директор по развитию бизнеса департамента информационных технологий ИТ-компании «КРОК», предлагает быть осторожнее: «Опыт показывает, что самостоятельно заниматься разработкой целесообразно только в случае если на рынке категорически нет адекватного решения. В противном случае есть опасность стать в буквальном смысле заложником собственного ПО. Если ваш бизнес нацелен на развитие, то задачи будут постоянно усложняться, все больше загружая разработчиков и службу поддержки»
По его словам, очень важно учитывать, что самописное решение, скорее всего, не станет органичной частью экосистемы и будет мешать бесконфликтной работе. Сложности могут возникнуть и при интеграции такого ПО на имеющиеся вычислительные системы (зарубежные или российские).
Безусловно, компании сталкиваются с рисками использования самописных систем. Главный из них – трудности развития подобных решений, ведь все знания об ИТ-архитектуре остаются у разработчика, а некоторые самописные системы создавались не один год. «Когда нас привлекают как консультанта на подобные ИТ-проекты, это настоящий вызов – помочь ритейлеру быстро «вытащить» нужную функциональность и перенести в новый ИТ-инструмент», – делится опытом Геннадий Тарантасов.
При создании собственного ПО компания неизбежно сталкивается с целым рядом вопросов. Сергей Тиняков, партнер «Лиги цифровой экономики», объясняет, какие сложности предстоят на практике. По его словам, часть из этих вопросов относится к тому, что разрабатывать: какие бизнес-процессы заложить, как правильно их сгруппировать, как выстроить бизнес-архитектуру приложения. Это одна из основных вещей, за которую компании готовы платить вендору, обеспечивающему функциональность, проверенную временем.
Но и тут не все так просто. Подходит ли эта функциональность под ваши процессы? Может быть, дешевле изменить бизнес-процессы, сделать именно их подходящими «под коробку»? Или все же лучше доработать стандартное решение вендора под ваши процессы? Вполне может быть и так, что компания прекрасно знает свои процессы, они отлажены, и наличие негибкого коробочного решения только усложнит реализацию?
Вторая большая область, где надо определиться, это область вопросов о том, как создавать ПО. Нужно решить, какими силами будет вестись разработка: внутренними ресурсами или лучше сделать заказ внешнему подрядчику. Если понадобится собирать команду, то лучше учитывать, что последние несколько лет этот процесс сам по себе является сложной задачей.
Отдельно стоит важнейший вопрос мотивации и удержания сотрудников, которые будут носителями знаний. Их нужно снабжать интересными задачами на современных технологиях, иначе они перестают развиваться, им становится скучно, и появляется высокий риск их потерять. «В Лигу цифровой экономики неоднократно обращались клиенты, у которых целая команда айтишников вдруг перешла в другую организацию», – рассказывает Сергей Тиняков.
Кроме того, нужно решить вопросы, относящиеся как к моментам выбора базовой технологии и архитектурных подходов, так и к процессам разработки ПО и правильной организации работы команды. Ведь под разработкой ПО подразумевается целый пласт процессов проектирования архитектуры и интерфейсов, аналитики, разработки, всех видов тестирования, последующей поддержки созданного софта. Все это можно делать самому, а можно на какие-то направления выбрать профильные аутсорсинговые компании, которые закроют основную часть процессных и ресурсных вопросов, при этом передадут заказчику право на интеллектуальную собственность на создаваемое ПО.
Здесь важно честно ответить себе на вопрос: хотите ли вы частично сделаться ИТ-компанией, заниматься наймом, обучением и мотивацией профильных специалистов? Преференции от такого варианта понятны – вы получаете полный контроль над решением, меняете его как нужно и когда нужно, не завися от релизных циклов вендоров. Но нужно понимать, что это отдельный сложный мир, требующий постоянных значительных инвестиций.
«Иными словами, если вы беретесь за собственную разработку, нужно быть готовыми к сопутствующим высоким затратам, растягиванию сроков, рискам сбоев и снижению производительности. Конечно, можно разрабатывать ПО на базе хорошо зарекомендовавших себя средах разработки, но в этом случае мы уже говорим все-таки о наличии специализированной поддержки», – резюмирует Игорь Бонев.
На практике
Крупные сети к этому готовы. Так, на CNews Forum 2020 представители продуктовой сети супермаркетов «О’Кей» рассказали, почему решили заняться разработкой. Для продуктовой розницы очень важно точно и качественно собрать корзину по онлайн-заказу. Ничего не забыть и не пропустить. «Мы подошли к вопросу сборки и доставки очень серьезно, поэтому разработали уникальное программное обеспечение, которое, с одной стороны, позволило лучше понять и реализовать на практике все запросы клиента, а с другой – отразило потребности и пожелания сборщиков, – поделилась Елена Ременникова, директор по электронной коммерции сети гипермаркетов «О’Кей». – Приведу пример из практики. Что если в заказе молоко одной марки, а мы заменим ее на другую? Пустяк ведь. Но нет. Выяснилось, что для 70% наших покупателей бренд принципиально важен, тогда как оставшиеся 30% больше обращают внимание на состав продукта, поэтому готовы взять другую марку, лишь бы состав или процент жирности был тот же».
В результате компания провела опросную работу по каждой категории товаров, задала определенную логику и включила все наработки в собственное ПО. Теперь оно стоит на терминалах сбора данных, сборщики пользуются им при составлении корзины заказа. «Благодаря этому внедрению мы в несколько раз увеличили производительность сборщиков, а также оставили клиентов довольными. Высокие показатели сервиса для нас очень важны», – отмечает Елена Ременникова.
Из-под полы
Если ритейл в любом случае занимается своим софтом, то не стоит ли здесь воспользоваться тактикой: не можешь победить – возглавь? Одно из направлений госплана по импортозамещению предполагает государственную поддержку отечественных производителей в сегментах рынка ПО, связанных с отраслевой спецификой. Ритейл часто разрабатывает внутреннее ПО для себя – это во-первых. Во-вторых, мы видим тенденцию: все становится всем. Почта – банком, поисковик – таксопарком, таксопарк исчезает в мобильных приложениях. Не открывают ли эти тренды широкую перспективу нового развития для розницы? Ритейл уже превращается в высокотехнологичную отрасль и думает над захватом новых рынков. Может быть, он будет нарабатывать и продавать свои компетенции, коли уж это поддерживается государством? Сдают же сотовые операторы свои юридические отделы в b2b-аренду.
«Идея того, что розничные сети станут разработчиками софта не только для себя, но и вовне – достаточно сложная история, – оценивает перспективы Геннадий Тарантасов. – Я думаю, что ритейлеры, которые обладают подобной экспертизой и создают действительно что-то новое, будут смотреть в первую очередь на собственные нужды. Подобные разработки – их конкурентное преимущество, которым они вряд ли захотят поделиться с рынком».
Однако, считает Геннадий Тарантасов, на рынке могут появляться отдельные продукты, которые создает и использует ритейл. Но ценность будет не в этих решениях, а в информации, которой владеют крупные розничные компании. Сети могут монетизировать данные с помощью высокотехнологичных решений, предлагая рынку аналитику.
Некоторые ритейлеры уже используют сервисы, которые помогают проанализировать работу поставщиков, сделать выводы об эффективности и продать эту информацию этим же контрагентам. Другие решения помогают партнерам розничных сетей настраивать маркетинговые кампании. «Подобные аналитические системы будут развиваться и набирать популярность, однако в ближайшие годы все равно не займут большую долю в выручке компаний», – говорит Геннадий Тарантасов.
Сложности касаются и формы продажи наработанных ИТ-ком-петенций. «Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. У ритейлера всегда будет в приоритете свой бизнес, и это будет мешать развивать ИТ-направление, требующее особых подходов и по части работы с персоналом, и в работе с клиентами, – говорит Сергей Тиняков. – Отдельные точечные переиспользования ресурсов во время недозагрузки – может быть, но массово вряд ли. Не являюсь специалистом в юридических услугах, но предполагаю, что по сравнению с ними в ИТ-услугах слишком мало отделяемых коротких задач и слишком много командной работы. Из-за этого стоимость входа сотрудника в проект очень большая – он тратит массу времени на погружение до момента, когда начинает приносить пользу. То же можно сказать и про передачу знаний при выходе из проекта».
Если же говорить про создание конечных ИТ-продуктов или облачных услуг на базе текущей ИТ-инфраструктуры, то это еще более специфичная вещь со своей продуктовой культурой. «В общем, удачных примеров переиспользования ИТ-подразделения на внешнем рынке я не видел, по крайней мере у нас в России, – рассказывает Сергей Тиняков. – Думаю, это возможно, но потребует полного отделения от основного бизнеса, по сути, речь тогда пойдет уже, скорее, об организации новой компании, и тут для переиспользования опыта я бы подумал о партнерстве с профильными ИТ-организациями».
Ритейл изначально был одной из наиболее высокотехнологичных отраслей экономики, и поэтому именно эта сфера бизнеса одной из первых внедряет технологические новинки. Однако тенденции к превращению ритейлеров в этакие межотраслевые технологичные экосистемы пока нет. Даже WalMart до сих пор акцентирует внимание и ресурсы на развитии именно своего основного бизнеса. Почему так, объясняет Дмитрий Смирнов: «Дело в том, что ритейл сам по себе, с точки зрения основополагающих бизнес-процессов, достаточно простой вид бизнеса. И развитие технологий, Интернета, переход всех в онлайн и цифру ничего не изменили в основной процессной конструкции работы таких компаний. Это обеспечивает силу и устойчивость ритейла как отрасли, с одной стороны. Но с другой – простота и очевидность процессов привлекают сюда массы желающих из других отраслей: с деньгами, технологиями, историей и даже собственными ритейл-нишами. Тем не менее, на наш взгляд, вряд ли ритейл отойдет от своего основного бизнеса в сторону продажи услуг по автоматизации бизнес-процессов на базе собственных платформ, в том числе и в сторону продажи или аренды готовых бизнес-процессов «из облака».
Спасательный круг
Меж тем облака в 2020 году оказались на коне. Компании массово кинулись в объятия облачных провайдеров, которые пообещали обеспечить рабочие места, защитить периметр компаний от многочисленных угроз корпоративной безопасности. Если слушать то, что рассказывают о себе сервис-провайдеры, то приходит ощущение, что мы нашли панацею.
Логично предположить: если вдруг проблема импортозамещения встанет стеной и перед розницей, то всех спасут облака. Можно бросить все: инфраструктуру, приложения – всю головную боль, связанную с собственными ИТ-системами, и перейти в облако, а уж облачные провайдеры пускай заботятся о том, как соблюдать букву закона, на какой территории хранить персональные данные и каким ПО это делать.
«У ритейлера не получится так просто обойти ответственность по обработке персональных данных, – сразу отметает наш план по потенциальному спасению утопающих Сергей Тиняков. – В любом случае он эти данные получает от клиента и обрабатывает, таким образом, является оператором со всеми вытекающими обязанностями согласно Федеральному закону №152 «О персональных данных».
Несмотря на бурное развитие облачных технологий в мире, в России подобные решения не так популярны, как на более развитых рынках. В нашей стране доля облачных решений низкая. «Отчасти это связано с ограниченной функциональностью некоторых облачных сервисов – к сожалению, не все из них имеют такие же широкие возможности, как у продуктов on-premises, которые можно буквально сразу использовать, а это особенно важно лидерам рынка с уникальными бизнес-процессами», – говорит Геннадий Тарантасов.
По его мнению, какие-то сервисы перейдут в облако, но не все. Сама миграция – процесс, который растянется на долгое время, ведь разговор с бизнесом, попытки переубедить крупные компании довериться облачным сервисам – дело ближайших 5–10 лет.
Тем не менее доля облачных технологий растет, на рынке появляются и развиваются серьезные сервисы, которые не уступают on-premises-платформам по функциональным возможностям. «Это, к примеру, облачные системы финансового планирования и бюджетирования, CRM и другие. У них есть существенные конкурентные преимущества, связанные со скоростью, гибкостью и поддержкой решения. Все это способствует развитию облачных продуктов, в том числе и в России», – смотрит в будущее с оптимизмом Геннадий Тарантасов.
Импортозамещение касается составных частей корпоративных информационных систем, некоторые из которых не могут быть перемещены в облачную среду, по крайней мере без дополнительных настроек и доработок. Кроме того, размещение некой системы в облаке отнюдь не означает, что импортозамещение произошло: например, если система требует лицензионной авторизации через Интернет с сервера вендора, то при закрытии российского сегмента Интернета система попросту не заработает или же к ней не будет доступа, если она размещена физически в облаке за рубежом. «Тут выходом действительно могут стать облачные системы автоматизации, работающие по модели SaaS, например, – развивает мысль Дмитрий Смирнов. – Однако ритейлер должен быть готов перевести в одночасье свои процессы и данные для работы в облачной среде. Можно таким образом реорганизовывать бизнес-процессы, начиная со вспомогательных, постепенно переводя их все в облачную экосистему и импортозамещая информационное ядро бизнеса частями. Чему способствует, несомненно, тенденция к постепенному отходу от тяжелых монолитных информационных систем к микросервисным «экосистемам».
Да или нет?
Если смотреть на положение дел у западных компаний, то там в облако переводят до 30% задач, оставшиеся 70% решают своими внутренними силами. Можно ли ритейлу перейти в облако целиком? Тут мнение наших экспертов разделилось.
«Круг задач, которые компания из сферы ритейла может безопасно для бизнеса и комфортно для ИТ-службы отдать в публичное облако, очень невелик, – говорит Сергей Сидоров, директор департамента инфраструктурных решений и сервиса компании Oberon. – Ключевые для бизнеса задачи: учет складских остатков, движение товара, аналитику по видам продукции, маркетинговые акции, управление инфраструктурой магазинов, складов – все это ИТ-служба ритейлера предпочтет оставить в рамках собственной инфраструктуры. Даже если предположить, что облачный провайдер обеспечит все законодательно закрепленные и внутренние требования компаний к ИБ, то стоимость покупки серверов и команды инженеров будет равна двум годам эксплуатации подобного публичного облака. Однако использовать собственные мощности компания сможет гораздо дольше. Поэтому, на мой взгляд, большой бизнес, в том числе ритейлеры, не пойдут в облака массово, применяя эти технологии для решения какой-то части своих задач».
«Я думаю, что целиком перебраться в облако торговой организации невозможно. Действительно, 30%, может быть, можно перевести, но помимо персональных данных есть еще и корпоративная тайна и много других проблем. В облаке не знают, что есть misson critical для каждой отдельно взятой компании. Облако можно банально взломать. Даже чисто психологически свое выглядит надежнее», – уверен Павел Попов.
«Как показывает наш опыт, полностью перейти в облако ритейлеру не составляет проблемы, – парирует Максим Березин, директор по развитию бизнеса компании «КРОК Облачные сервисы». – Но важно отметить, что далеко не всегда это нужно. Схема использования внешних ресурсов зависит от специфики работы, частоты проведения акций, вызывающих резкий всплеск потребления вычислительных ресурсов, наличия унаследованных систем. Часто в облако выносят сервисы с динамичной нагрузкой, также используют облако как среду Test/Dev, все остальное держат либо у себя, либо на выделенном оборудовании в ЦОД провайдера. Это позволяет добиться максимальной эффективности утилизации ресурсов».
По мнению Максима Березина, обращение к облачным провайдерам можно считать некой формой импортозамещения. При этом важно, чтобы подобные облака соответствовали регуляторным нормам РФ. Одно их ключевых – локализация хранения данных в России. За это обоюдно отвечают и провайдер, и клиент, доверивший свои данные и системы публичному, частному или гибридному облаку.
«Здесь еще вопрос, что считать облаком, – предлагает договориться о терминах Сергей Тиняков. – Если мы говорим о том, что компания может не иметь свой ЦОД, то, думаю, да, такое для ритейлера возможно. Если же говорить о том, что большой ритейлер пользуется только стандартными облачными решениями для поддержки цифровизации всех своих процессов – то вряд ли. Ведь каждый бизнес уникален, всегда найдется что-то, что требует специфичной функциональности, дающей конкурентное преимущество».
Конечно, пока паниковать рано. Ни о каком ближайшем переселении в облако и выбрасывания за борт мировых софтверных гигантов речи не идет. К самим торговым сетям, как и к другим коммерческим компаниям, вряд ли будут предъявляться жесткие требования в отношении перехода к импортонезависимости. Тем не менее, как верно заметил Дмитрий Сорокин из компании Softline, на фоне повышенного внимания и поддержки со стороны государства решения отечественных вендоров развиваются достаточно быстро. Если до недавнего времени внедрение российских импортонезависимых продуктов было обусловлено прежде всего соображениями безопасности, то сегодня многие коммерческие заказчики используют их в реализации собственных ИТ-проектов, там как это оказывается выгоднее с экономической точки зрения.
Риски использования иностранного ПО
● Зависимость бизнеса от плавающего курса валют. При пессимистичных сценариях совокупная стоимость может существенно вырасти. Однако некоторые международные компании-разработчики могут фиксировать стоимость ПО в рублях.
● Политическая ситуация. При усилении глобальной конфронтации есть вероятность, что облака уйдут из России, и тогда компаниям будет сложно «вытащить» свои данные из этих сервисов и мигрировать на другие системы. Кроме того, есть риск наложения санкций на американские ИТ-компании, что блокирует продажи иностранного ПО на территории РФ.
● Государственное влияние. 90% компаний на ритейл-рынке – частные игроки, и роль государства здесь чрезвычайно мала. Но мы видим тренд, что постепенно эта роль становится все больше и больше. И если в ритейле будет все больше компаний, принадлежащих государству, то на иностранное ПО они будут смотреть гораздо осторожнее.
● По некоторым зарубежным решениям в России нет ни экспертизы, ни команды, которая бы внедрила и развивала платформу. Хотя эти решения достаточно интересные. Более того, некоторые системы требуют локализацию, и это тоже риск для бизнеса.
Экспертиза от ГК «КОРУС Консалтинг»
Стратегии срочного импортозамещения
● Замена поддерживающей организации на российскую.
● Переход на российский аналог.
● Локальная сертификация с участием вендора.
● Разработка собственного решения.
● Выкуп прав для самостоятельного развития.
Экспертиза от компании Bell Integrator
[~DETAIL_TEXT] =>Импортозамещение – это не только замена санкционных европейских морепродуктов на белорусские. Это еще и переход с импортного программного обеспечения на отечественное. Пока в этот процесс серьезно вовлечены государственные структуры, однако, по мнению экспертов, дело может дойти и до коммерческих предприятий, в том числе и ритейловых компаний. При этом переход на российский софт происходит и по экономическим причинам: он заметно дешевле на фоне падающего рубля. К чему быть готовым и куда бежать в случае чего – вот тема сегодняшнего разговора.

Новый смысл этого слова подкрался к торговым компаниям незаметно. Когда в 2015 году Минкомсвязи утвердило приказ об отраслевом плане импортозамещения программного обеспечения, поворот на новые рельсы касался лишь государственных предприятий. Это было вполне закономерно: правительство беспокоилось, что Запад может не только применить очередные санкции, но и просто остановить работу проданного нам ПО и устройств. Даже телефон и телеграф захватывать не придется – производства будут обездвижены.
Переход на отечественные программы и оборудование вызвал не меньше споров, опасений и проблем, чем замещение пармезана пошехонским сыром в торговых сетях. Крупнейшие компании только в этом году начали отчитываться о том, что доля российского ПО в их проектах растет. Однако даже они не были готовы отказаться от западного софта раз и навсегда. Коммерческие компании в это время вздыхали с облегчением: это была не их головная боль.
Радовались не все и недолго: внезапно проблема, связанная с использованием западных технологий, растеклась: первыми начали подмокать операторы сотовой связи. В начале года они строили планы по проникновению в Россию сетей нового поколения 5G, а уже к сентябрю выяснилось: строиться можно только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
Почувствовали на себе дыхание закона и магазины, торгующие электроникой. В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на сложные электронные устройства. Ритейлеры попросили дать им хоть немного времени. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в администрацию президента письмо, цитаты из которого опубликовал ТАСС: «Установленный законопроектом срок <...> приведет к серьезному дефициту бытовой техники и электроники на российском рынке. Срок оборачиваемости электроники в ритейле составляет в среднем 30–60 дней. Таким образом, старые остатки вымоются, а новые товары еще не будут произведены».
И все же причем тут продуктовая розница? Наше дело – сторона, скажете вы. Пока вы правы, но тенденция налицо. С самого начала было понятно, что распространение концепции перехода к импортонезависимости не ограничится только госсектором. «Первыми к процессу подключились государственные организации, позднее – госкомпании, на которые было распространено требование по преимущественному использованию российского софта. Но уже два года назад эксперты Softline предсказывали дальнейшее распространение тренда на коммерческие организации и даже на частных пользователей», – отмечает Дмитрий Сорокин, руководитель отдела развития продаж отечественного ПО компании Softline.
Перекроем кислород
Действительно, даже автор этих строк как частное лицо столкнулся с тем, что можно в одночасье лишиться купленной у западного производителя программы. Вендоры уходят из России по разным причинам: кто-то присоединяется к санкциям, кто-то технически не может обеспечить все требования законодательства, например, хранит персональные данные россиян на серверах, физически находящихся за пределами РФ.
В моем случае я попросту не получила необходимого обновления от автора программы, и приложение, на котором выполнялись работы, встало. «Рад помочь, но у вас заблокирован доступ к серверам», – ответил на письмо разработчик. Так я лишилась и этого приложения, и заодно потеряла несколько рабочих дней в попытках решить проблему.
Бизнес себе такого позволить не может. Крупнейший ритейлер Amazon подсчитал, что минута простоя стоит им $165 тыс. Аналитики «Инфосистемы Джет» в недавнем вебинаре заявляли: «Для отечественных торговых организаций средняя стоимость одного часа простоя составляет от 20 до 50 млн руб.».
Воспитание рублем
Страх внезапно потерять важнейшие для работы организации ИТ-системы – не единственный двигатель импортозамещения. Бизнес всегда считает деньги. В отличие от госсектора ритейлу пока не предъявляют таких строгих требований к переходу на российские системы. «В коммерческом сегменте мотивы к использованию российского или открытого ПО иные, – полагает Максим Березин, директор по развитию бизнеса компании «КРОК Облачные сервисы». – В первую очередь нужно снижать лицензионные отчисления вендорам. Стоимость валюты с начала года увеличилась более чем на 20%, это неизбежно привело к подорожанию всего проприетарного софта».
Подорожают и лицензии, и техническое сопровождение. «Вполне может произойти так, что ритейлеры сами захотят перейти на отечественное ПО, так как умеют считать деньги, – размышляет Павел Попов, директор по развитию бизнеса компании Bell Integrator. – Конечно, есть и определенные страхи. Новое всегда пугает. Что касается санкций и ухода из России поставщиков, пока это касается только некоторых организаций, в массе бизнес не затронут. Тем не менее мне кажется, что общая атмосфера, царящая вокруг импортозамещения, и вышеуказанные вещи могут просто выдавить со временем желание использовать импортный софт».
Уже сейчас ритейлеры пытаются превентивно снижать у себя долю иностранного ПО. Но пока делается это не ради импортозамещения, а из-за экономии. «Например, в части СУБД многие переходят на бесплатные версии Postgres, в качестве ERP используют различные модификации 1С. Системы CRM многие пишут сами или используют российские. Западные CRM вообще не часто приживаются у нас как в крупном, так и в малом бизнесах, – говорит Павел Попов. – Мобильные приложения практически все пишут для себя сами. Сложно тем, у кого много бизнес-логики заложено внутри СУБД от Oracle или MS SQL. Также крайне сложно и дорого заменить ERP или CRM, если они стоят на предприятии давно и на них завязано большое количество бизнес-процессов. Очень сложно, например, «слезать» с SQP или Siebel. А своих аналогичных продуктов в России пока нет».
Перед стартом ИТ-проекта передовой ритейл опирается на бизнес-кейсы: просчитываются и доходы, и расходы. «Это и есть драйвер выбора относительно того, внедрять или нет то или иное решение, – говорит Геннадий Тарантасов, коммерческий директор ГК «КОРУС Консалтинг». По его мнению, основными критериями выбора ИТ-систем станет все-таки не страна производства, а совокупная стоимость владения, функциональность, риски и время, за которое решение внедряется. «Из-за текущей экономической ситуации западные решения становятся только дороже, поэтому, если на российском рынке есть ПО, которое закрывает те же функциональные задачи, что и иностранные аналоги, розничные сети выбирают их», – подчеркивает Геннадий Тарантасов.
В России есть бизнес-приложения, которые по функциональности не уступают лучшим решениям глобального рынка. К ним относятся системы для расчета заработной платы, кадрового делопроизводства, бизнес-приложения в области управления финансами и прочие. Их проще внедрять, легче найти специалистов для развития и обслуживания. И ритейлеры с удовольствием пользуются этим. Но есть и классы систем, сильно уступающих западному софту, например, в области оптимизации ценообразования, управления ассортиментом, распределения остатков продукции и так далее. «В этой ситуации ритейлер либо выбирает дорогое западное бизнес-приложение, либо пишет софт самостоятельно», – объясняет Геннадий Тарантасов.
«План Б»
Получается, что ИТ-директора уже сейчас задумываются над перестройкой стратегии развития ИТ-систем, их закупкой, внедрением, развитием. Ведь нельзя каждый год менять системы, повинуясь движению политического ветра. Стало быть, риски нужно просчитать заранее и сделать их оценку: проверить компоненты ИТ-ландшафта и прикладных приложений. «Грамотные ритейлеры думают об этом уже сейчас, – комментирует Павел Попов. – Риски есть, и они растут. Можно остаться без сопровождения или вынужденно перейти на новый софт в самый неподходящий момент. Стоит сразу подумать над «планом Б».
Вопрос импортозамещения не может сбрасываться со счетов ни одной компанией, работающей на территории РФ, в том числе и ритейлерами. «За последние несколько лет ритейл в целом претерпел ряд изменений, связанных с государственными инициативами: сюда можно отнести и все более жесткое регулирование отрасли, и ЕГАИС, и введение обязательной маркировки товара, – вспоминает Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – В связи с этим в стратегии ритейлера обязательно должен присутствовать учет так называемых страновых рисков и план их минимизации».
На заказ
Однородным ИТ-ландшафтом сейчас могут похвастаться разве что совсем молодые и маленькие компании. Крупный ритейл обладает целым парком из самых разных решений: как исторически сложившихся, так и новых, от проприетарных до опенсорсных разработок. Единообразия нет и вряд ли будет в обозримой перспективе. При этом ключевой бизнес ритейлера в условиях повышающейся конкуренции на рынке все больше зависит от выбранных ИТ-решений, цифровизации и оптимизации процессов. «Место ИТ в ритейле меняется, ныне это не сервисное подразделение, а полноценная составляющая бизнеса, – говорит Татьяна Ежова, руководитель направления Retail компании «Рексофт». – Недаром ряд ключевых игроков переименовывают свои торговые организации в ИТ-компании, развивая направление инсорса».
По словам Татьяны Ежовой, наблюдается повсеместный переход от монолитных платформенных решений к микросервисным, и основные критерии для внедрения: показатели эффективности, быстрый ввод в строй, инновационность. Таким образом, вопрос может решиться сам собой, и компания перейдет от использования вендорных решений, в том числе и иностранных, к индивидуальной разработке, к ПО, сделанному российскими разработчиками на заказ. «Это не тренд отказа от иностранного ПО, а переход к решениям, которые реально нужны бизнесу, – констатирует Татьяна Ежова. – Использование продуктов с открытым исходным кодом, в том числе и западных, вряд ли снизится, но число заказов на производство российских микросервисных платформ или уникальных решений от местных разработчиков увеличится. В ритейле, как правило, достаточная доля заказных решений (например, продающие мобильные приложения), а также специализированного ПО и оборудования, которое на 100% отвечает отечественному законодательству и оперативно следует его изменениям, вспомним те же мобильные кассы. Можно сказать, что в этих сегментах вопрос импортозамещения не стоит, потому что изначально используются отечественные программы». «На мой взгляд, разумно заказывать разработку основного куска системы, а дальше сопровождать и развивать ее своими силами, – добавляет Павел Попов. – На пиковые загрузки или конечные задачи можно привлекать внешних разработчиков, забирая их код себе».
Открыты новому
Можно заказать свое программное обеспечение у подрядчиков, а можно доработать основу под себя, используя продукты с открытым исходным кодом, доступные разработчикам любых стран. «Мы видим тренд на уход ритейла от монолитных систем к созданию микро- и макросервисов на базе открытых технологий, – соглашается Геннадий Тарантасов. – Вся экспертиза по подобным продуктам хранится у ритейлера. Он сам управляет созданием и развитием такого ПО».
Такой подход особо популярен у крупных и технологически развитых розничных сетей, например, у «М.видео», или у выходцев из рынка e-commerce (Wildberries, Lamoda). При этом у подобных компаний есть в ИТ-ландшафте и монолитные системы.
«На мой взгляд, эта стратегия оправданна, когда у бизнеса есть уникальная бизнес-задача, которую ранее никто на рынке не решал, а готовых ИТ-продуктов для этого нет, – комментирует Геннадий Тарантасов. – Это может быть связано со специфической функциональностью или новыми требованиями к производительности, когда требуется обрабатывать колоссальные объемы информации. Для типовых же задач, например, в области управления финансами, нет смысла в самописном решении».
Внутренняя сила
А что если вообще не обращаться к вендорам, вместо этого создавая необходимые ИТ-системы самостоятельно? Тем более что ритейл этим занимался и раньше. Некоторые настолько углубились в технологии, что даже открывают целые отделы, занимающиеся ИТ. Вспомним департамент по Data Science у X5 Retail Group.
Насколько это дальновидно и перспективно? Игорь Бонев, директор по развитию бизнеса департамента информационных технологий ИТ-компании «КРОК», предлагает быть осторожнее: «Опыт показывает, что самостоятельно заниматься разработкой целесообразно только в случае если на рынке категорически нет адекватного решения. В противном случае есть опасность стать в буквальном смысле заложником собственного ПО. Если ваш бизнес нацелен на развитие, то задачи будут постоянно усложняться, все больше загружая разработчиков и службу поддержки»
По его словам, очень важно учитывать, что самописное решение, скорее всего, не станет органичной частью экосистемы и будет мешать бесконфликтной работе. Сложности могут возникнуть и при интеграции такого ПО на имеющиеся вычислительные системы (зарубежные или российские).
Безусловно, компании сталкиваются с рисками использования самописных систем. Главный из них – трудности развития подобных решений, ведь все знания об ИТ-архитектуре остаются у разработчика, а некоторые самописные системы создавались не один год. «Когда нас привлекают как консультанта на подобные ИТ-проекты, это настоящий вызов – помочь ритейлеру быстро «вытащить» нужную функциональность и перенести в новый ИТ-инструмент», – делится опытом Геннадий Тарантасов.
При создании собственного ПО компания неизбежно сталкивается с целым рядом вопросов. Сергей Тиняков, партнер «Лиги цифровой экономики», объясняет, какие сложности предстоят на практике. По его словам, часть из этих вопросов относится к тому, что разрабатывать: какие бизнес-процессы заложить, как правильно их сгруппировать, как выстроить бизнес-архитектуру приложения. Это одна из основных вещей, за которую компании готовы платить вендору, обеспечивающему функциональность, проверенную временем.
Но и тут не все так просто. Подходит ли эта функциональность под ваши процессы? Может быть, дешевле изменить бизнес-процессы, сделать именно их подходящими «под коробку»? Или все же лучше доработать стандартное решение вендора под ваши процессы? Вполне может быть и так, что компания прекрасно знает свои процессы, они отлажены, и наличие негибкого коробочного решения только усложнит реализацию?
Вторая большая область, где надо определиться, это область вопросов о том, как создавать ПО. Нужно решить, какими силами будет вестись разработка: внутренними ресурсами или лучше сделать заказ внешнему подрядчику. Если понадобится собирать команду, то лучше учитывать, что последние несколько лет этот процесс сам по себе является сложной задачей.
Отдельно стоит важнейший вопрос мотивации и удержания сотрудников, которые будут носителями знаний. Их нужно снабжать интересными задачами на современных технологиях, иначе они перестают развиваться, им становится скучно, и появляется высокий риск их потерять. «В Лигу цифровой экономики неоднократно обращались клиенты, у которых целая команда айтишников вдруг перешла в другую организацию», – рассказывает Сергей Тиняков.
Кроме того, нужно решить вопросы, относящиеся как к моментам выбора базовой технологии и архитектурных подходов, так и к процессам разработки ПО и правильной организации работы команды. Ведь под разработкой ПО подразумевается целый пласт процессов проектирования архитектуры и интерфейсов, аналитики, разработки, всех видов тестирования, последующей поддержки созданного софта. Все это можно делать самому, а можно на какие-то направления выбрать профильные аутсорсинговые компании, которые закроют основную часть процессных и ресурсных вопросов, при этом передадут заказчику право на интеллектуальную собственность на создаваемое ПО.
Здесь важно честно ответить себе на вопрос: хотите ли вы частично сделаться ИТ-компанией, заниматься наймом, обучением и мотивацией профильных специалистов? Преференции от такого варианта понятны – вы получаете полный контроль над решением, меняете его как нужно и когда нужно, не завися от релизных циклов вендоров. Но нужно понимать, что это отдельный сложный мир, требующий постоянных значительных инвестиций.
«Иными словами, если вы беретесь за собственную разработку, нужно быть готовыми к сопутствующим высоким затратам, растягиванию сроков, рискам сбоев и снижению производительности. Конечно, можно разрабатывать ПО на базе хорошо зарекомендовавших себя средах разработки, но в этом случае мы уже говорим все-таки о наличии специализированной поддержки», – резюмирует Игорь Бонев.
На практике
Крупные сети к этому готовы. Так, на CNews Forum 2020 представители продуктовой сети супермаркетов «О’Кей» рассказали, почему решили заняться разработкой. Для продуктовой розницы очень важно точно и качественно собрать корзину по онлайн-заказу. Ничего не забыть и не пропустить. «Мы подошли к вопросу сборки и доставки очень серьезно, поэтому разработали уникальное программное обеспечение, которое, с одной стороны, позволило лучше понять и реализовать на практике все запросы клиента, а с другой – отразило потребности и пожелания сборщиков, – поделилась Елена Ременникова, директор по электронной коммерции сети гипермаркетов «О’Кей». – Приведу пример из практики. Что если в заказе молоко одной марки, а мы заменим ее на другую? Пустяк ведь. Но нет. Выяснилось, что для 70% наших покупателей бренд принципиально важен, тогда как оставшиеся 30% больше обращают внимание на состав продукта, поэтому готовы взять другую марку, лишь бы состав или процент жирности был тот же».
В результате компания провела опросную работу по каждой категории товаров, задала определенную логику и включила все наработки в собственное ПО. Теперь оно стоит на терминалах сбора данных, сборщики пользуются им при составлении корзины заказа. «Благодаря этому внедрению мы в несколько раз увеличили производительность сборщиков, а также оставили клиентов довольными. Высокие показатели сервиса для нас очень важны», – отмечает Елена Ременникова.
Из-под полы
Если ритейл в любом случае занимается своим софтом, то не стоит ли здесь воспользоваться тактикой: не можешь победить – возглавь? Одно из направлений госплана по импортозамещению предполагает государственную поддержку отечественных производителей в сегментах рынка ПО, связанных с отраслевой спецификой. Ритейл часто разрабатывает внутреннее ПО для себя – это во-первых. Во-вторых, мы видим тенденцию: все становится всем. Почта – банком, поисковик – таксопарком, таксопарк исчезает в мобильных приложениях. Не открывают ли эти тренды широкую перспективу нового развития для розницы? Ритейл уже превращается в высокотехнологичную отрасль и думает над захватом новых рынков. Может быть, он будет нарабатывать и продавать свои компетенции, коли уж это поддерживается государством? Сдают же сотовые операторы свои юридические отделы в b2b-аренду.
«Идея того, что розничные сети станут разработчиками софта не только для себя, но и вовне – достаточно сложная история, – оценивает перспективы Геннадий Тарантасов. – Я думаю, что ритейлеры, которые обладают подобной экспертизой и создают действительно что-то новое, будут смотреть в первую очередь на собственные нужды. Подобные разработки – их конкурентное преимущество, которым они вряд ли захотят поделиться с рынком».
Однако, считает Геннадий Тарантасов, на рынке могут появляться отдельные продукты, которые создает и использует ритейл. Но ценность будет не в этих решениях, а в информации, которой владеют крупные розничные компании. Сети могут монетизировать данные с помощью высокотехнологичных решений, предлагая рынку аналитику.
Некоторые ритейлеры уже используют сервисы, которые помогают проанализировать работу поставщиков, сделать выводы об эффективности и продать эту информацию этим же контрагентам. Другие решения помогают партнерам розничных сетей настраивать маркетинговые кампании. «Подобные аналитические системы будут развиваться и набирать популярность, однако в ближайшие годы все равно не займут большую долю в выручке компаний», – говорит Геннадий Тарантасов.
Сложности касаются и формы продажи наработанных ИТ-ком-петенций. «Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. У ритейлера всегда будет в приоритете свой бизнес, и это будет мешать развивать ИТ-направление, требующее особых подходов и по части работы с персоналом, и в работе с клиентами, – говорит Сергей Тиняков. – Отдельные точечные переиспользования ресурсов во время недозагрузки – может быть, но массово вряд ли. Не являюсь специалистом в юридических услугах, но предполагаю, что по сравнению с ними в ИТ-услугах слишком мало отделяемых коротких задач и слишком много командной работы. Из-за этого стоимость входа сотрудника в проект очень большая – он тратит массу времени на погружение до момента, когда начинает приносить пользу. То же можно сказать и про передачу знаний при выходе из проекта».
Если же говорить про создание конечных ИТ-продуктов или облачных услуг на базе текущей ИТ-инфраструктуры, то это еще более специфичная вещь со своей продуктовой культурой. «В общем, удачных примеров переиспользования ИТ-подразделения на внешнем рынке я не видел, по крайней мере у нас в России, – рассказывает Сергей Тиняков. – Думаю, это возможно, но потребует полного отделения от основного бизнеса, по сути, речь тогда пойдет уже, скорее, об организации новой компании, и тут для переиспользования опыта я бы подумал о партнерстве с профильными ИТ-организациями».
Ритейл изначально был одной из наиболее высокотехнологичных отраслей экономики, и поэтому именно эта сфера бизнеса одной из первых внедряет технологические новинки. Однако тенденции к превращению ритейлеров в этакие межотраслевые технологичные экосистемы пока нет. Даже WalMart до сих пор акцентирует внимание и ресурсы на развитии именно своего основного бизнеса. Почему так, объясняет Дмитрий Смирнов: «Дело в том, что ритейл сам по себе, с точки зрения основополагающих бизнес-процессов, достаточно простой вид бизнеса. И развитие технологий, Интернета, переход всех в онлайн и цифру ничего не изменили в основной процессной конструкции работы таких компаний. Это обеспечивает силу и устойчивость ритейла как отрасли, с одной стороны. Но с другой – простота и очевидность процессов привлекают сюда массы желающих из других отраслей: с деньгами, технологиями, историей и даже собственными ритейл-нишами. Тем не менее, на наш взгляд, вряд ли ритейл отойдет от своего основного бизнеса в сторону продажи услуг по автоматизации бизнес-процессов на базе собственных платформ, в том числе и в сторону продажи или аренды готовых бизнес-процессов «из облака».
Спасательный круг
Меж тем облака в 2020 году оказались на коне. Компании массово кинулись в объятия облачных провайдеров, которые пообещали обеспечить рабочие места, защитить периметр компаний от многочисленных угроз корпоративной безопасности. Если слушать то, что рассказывают о себе сервис-провайдеры, то приходит ощущение, что мы нашли панацею.
Логично предположить: если вдруг проблема импортозамещения встанет стеной и перед розницей, то всех спасут облака. Можно бросить все: инфраструктуру, приложения – всю головную боль, связанную с собственными ИТ-системами, и перейти в облако, а уж облачные провайдеры пускай заботятся о том, как соблюдать букву закона, на какой территории хранить персональные данные и каким ПО это делать.
«У ритейлера не получится так просто обойти ответственность по обработке персональных данных, – сразу отметает наш план по потенциальному спасению утопающих Сергей Тиняков. – В любом случае он эти данные получает от клиента и обрабатывает, таким образом, является оператором со всеми вытекающими обязанностями согласно Федеральному закону №152 «О персональных данных».
Несмотря на бурное развитие облачных технологий в мире, в России подобные решения не так популярны, как на более развитых рынках. В нашей стране доля облачных решений низкая. «Отчасти это связано с ограниченной функциональностью некоторых облачных сервисов – к сожалению, не все из них имеют такие же широкие возможности, как у продуктов on-premises, которые можно буквально сразу использовать, а это особенно важно лидерам рынка с уникальными бизнес-процессами», – говорит Геннадий Тарантасов.
По его мнению, какие-то сервисы перейдут в облако, но не все. Сама миграция – процесс, который растянется на долгое время, ведь разговор с бизнесом, попытки переубедить крупные компании довериться облачным сервисам – дело ближайших 5–10 лет.
Тем не менее доля облачных технологий растет, на рынке появляются и развиваются серьезные сервисы, которые не уступают on-premises-платформам по функциональным возможностям. «Это, к примеру, облачные системы финансового планирования и бюджетирования, CRM и другие. У них есть существенные конкурентные преимущества, связанные со скоростью, гибкостью и поддержкой решения. Все это способствует развитию облачных продуктов, в том числе и в России», – смотрит в будущее с оптимизмом Геннадий Тарантасов.
Импортозамещение касается составных частей корпоративных информационных систем, некоторые из которых не могут быть перемещены в облачную среду, по крайней мере без дополнительных настроек и доработок. Кроме того, размещение некой системы в облаке отнюдь не означает, что импортозамещение произошло: например, если система требует лицензионной авторизации через Интернет с сервера вендора, то при закрытии российского сегмента Интернета система попросту не заработает или же к ней не будет доступа, если она размещена физически в облаке за рубежом. «Тут выходом действительно могут стать облачные системы автоматизации, работающие по модели SaaS, например, – развивает мысль Дмитрий Смирнов. – Однако ритейлер должен быть готов перевести в одночасье свои процессы и данные для работы в облачной среде. Можно таким образом реорганизовывать бизнес-процессы, начиная со вспомогательных, постепенно переводя их все в облачную экосистему и импортозамещая информационное ядро бизнеса частями. Чему способствует, несомненно, тенденция к постепенному отходу от тяжелых монолитных информационных систем к микросервисным «экосистемам».
Да или нет?
Если смотреть на положение дел у западных компаний, то там в облако переводят до 30% задач, оставшиеся 70% решают своими внутренними силами. Можно ли ритейлу перейти в облако целиком? Тут мнение наших экспертов разделилось.
«Круг задач, которые компания из сферы ритейла может безопасно для бизнеса и комфортно для ИТ-службы отдать в публичное облако, очень невелик, – говорит Сергей Сидоров, директор департамента инфраструктурных решений и сервиса компании Oberon. – Ключевые для бизнеса задачи: учет складских остатков, движение товара, аналитику по видам продукции, маркетинговые акции, управление инфраструктурой магазинов, складов – все это ИТ-служба ритейлера предпочтет оставить в рамках собственной инфраструктуры. Даже если предположить, что облачный провайдер обеспечит все законодательно закрепленные и внутренние требования компаний к ИБ, то стоимость покупки серверов и команды инженеров будет равна двум годам эксплуатации подобного публичного облака. Однако использовать собственные мощности компания сможет гораздо дольше. Поэтому, на мой взгляд, большой бизнес, в том числе ритейлеры, не пойдут в облака массово, применяя эти технологии для решения какой-то части своих задач».
«Я думаю, что целиком перебраться в облако торговой организации невозможно. Действительно, 30%, может быть, можно перевести, но помимо персональных данных есть еще и корпоративная тайна и много других проблем. В облаке не знают, что есть misson critical для каждой отдельно взятой компании. Облако можно банально взломать. Даже чисто психологически свое выглядит надежнее», – уверен Павел Попов.
«Как показывает наш опыт, полностью перейти в облако ритейлеру не составляет проблемы, – парирует Максим Березин, директор по развитию бизнеса компании «КРОК Облачные сервисы». – Но важно отметить, что далеко не всегда это нужно. Схема использования внешних ресурсов зависит от специфики работы, частоты проведения акций, вызывающих резкий всплеск потребления вычислительных ресурсов, наличия унаследованных систем. Часто в облако выносят сервисы с динамичной нагрузкой, также используют облако как среду Test/Dev, все остальное держат либо у себя, либо на выделенном оборудовании в ЦОД провайдера. Это позволяет добиться максимальной эффективности утилизации ресурсов».
По мнению Максима Березина, обращение к облачным провайдерам можно считать некой формой импортозамещения. При этом важно, чтобы подобные облака соответствовали регуляторным нормам РФ. Одно их ключевых – локализация хранения данных в России. За это обоюдно отвечают и провайдер, и клиент, доверивший свои данные и системы публичному, частному или гибридному облаку.
«Здесь еще вопрос, что считать облаком, – предлагает договориться о терминах Сергей Тиняков. – Если мы говорим о том, что компания может не иметь свой ЦОД, то, думаю, да, такое для ритейлера возможно. Если же говорить о том, что большой ритейлер пользуется только стандартными облачными решениями для поддержки цифровизации всех своих процессов – то вряд ли. Ведь каждый бизнес уникален, всегда найдется что-то, что требует специфичной функциональности, дающей конкурентное преимущество».
Конечно, пока паниковать рано. Ни о каком ближайшем переселении в облако и выбрасывания за борт мировых софтверных гигантов речи не идет. К самим торговым сетям, как и к другим коммерческим компаниям, вряд ли будут предъявляться жесткие требования в отношении перехода к импортонезависимости. Тем не менее, как верно заметил Дмитрий Сорокин из компании Softline, на фоне повышенного внимания и поддержки со стороны государства решения отечественных вендоров развиваются достаточно быстро. Если до недавнего времени внедрение российских импортонезависимых продуктов было обусловлено прежде всего соображениями безопасности, то сегодня многие коммерческие заказчики используют их в реализации собственных ИТ-проектов, там как это оказывается выгоднее с экономической точки зрения.
Риски использования иностранного ПО
● Зависимость бизнеса от плавающего курса валют. При пессимистичных сценариях совокупная стоимость может существенно вырасти. Однако некоторые международные компании-разработчики могут фиксировать стоимость ПО в рублях.
● Политическая ситуация. При усилении глобальной конфронтации есть вероятность, что облака уйдут из России, и тогда компаниям будет сложно «вытащить» свои данные из этих сервисов и мигрировать на другие системы. Кроме того, есть риск наложения санкций на американские ИТ-компании, что блокирует продажи иностранного ПО на территории РФ.
● Государственное влияние. 90% компаний на ритейл-рынке – частные игроки, и роль государства здесь чрезвычайно мала. Но мы видим тренд, что постепенно эта роль становится все больше и больше. И если в ритейле будет все больше компаний, принадлежащих государству, то на иностранное ПО они будут смотреть гораздо осторожнее.
● По некоторым зарубежным решениям в России нет ни экспертизы, ни команды, которая бы внедрила и развивала платформу. Хотя эти решения достаточно интересные. Более того, некоторые системы требуют локализацию, и это тоже риск для бизнеса.
Экспертиза от ГК «КОРУС Консалтинг»
Стратегии срочного импортозамещения
● Замена поддерживающей организации на российскую.
● Переход на российский аналог.
● Локальная сертификация с участием вендора.
● Разработка собственного решения.
● Выкуп прав для самостоятельного развития.
Экспертиза от компании Bell Integrator
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Импортозамещение – это не только замена санкционных европейских морепродуктов на белорусские. Это еще и переход с импортного программного обеспечения на отечественное. Переход на российский софт происходит и по экономическим причинам: он заметно дешевле на фоне падающего рубля. [~PREVIEW_TEXT] => Импортозамещение – это не только замена санкционных европейских морепродуктов на белорусские. Это еще и переход с импортного программного обеспечения на отечественное. Переход на российский софт происходит и по экономическим причинам: он заметно дешевле на фоне падающего рубля. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5845 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:40:45 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 850 [WIDTH] => 1276 [FILE_SIZE] => 691614 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/3d3 [FILE_NAME] => 3d374edfd9381e0c52c79bb821954276.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1667832958.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 6d76b5ee66f4f559e346bfb684d33ee9 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/3d3/3d374edfd9381e0c52c79bb821954276.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/3d3/3d374edfd9381e0c52c79bb821954276.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/3d3/3d374edfd9381e0c52c79bb821954276.jpg [ALT] => Сделай сам [TITLE] => Сделай сам ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5845 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => sdelay-sam [~CODE] => sdelay-sam [EXTERNAL_ID] => 6276 [~EXTERNAL_ID] => 6276 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Сделай сам [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Сделай сам [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Импортозамещение – это не только замена санкционных европейских морепродуктов на белорусские. Это еще и переход с импортного программного обеспечения на отечественное. Переход на российский софт происходит и по экономическим причинам: он заметно дешевле на фоне падающего рубля. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Сделай сам [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Сделай сам | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [5] => Array ( [ID] => 6017 [~ID] => 6017 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Эпоха ЭДО [~NAME] => Эпоха ЭДО [ACTIVE_FROM_X] => 2020-10-21 15:39:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2020-10-21 15:39:00 [ACTIVE_FROM] => 21.10.2020 15:39:00 [~ACTIVE_FROM] => 21.10.2020 15:39:00 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:14:54 [~TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:14:54 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/epokha-edo/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/epokha-edo/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Бумаги больше не будет, мы переходим на электронный документооборот. Этому лозунгу даже не первый десяток лет. Но всерьез зашевелились недавно. Пандемия и карантин, а также напряженное ожидание того, как будет развиваться ситуация, показали бизнесу: лучше иметь план Б и быть готовым к новому заточению в любое время суток. Компании массово начали переходить на ЭДО – электронный документооборот.
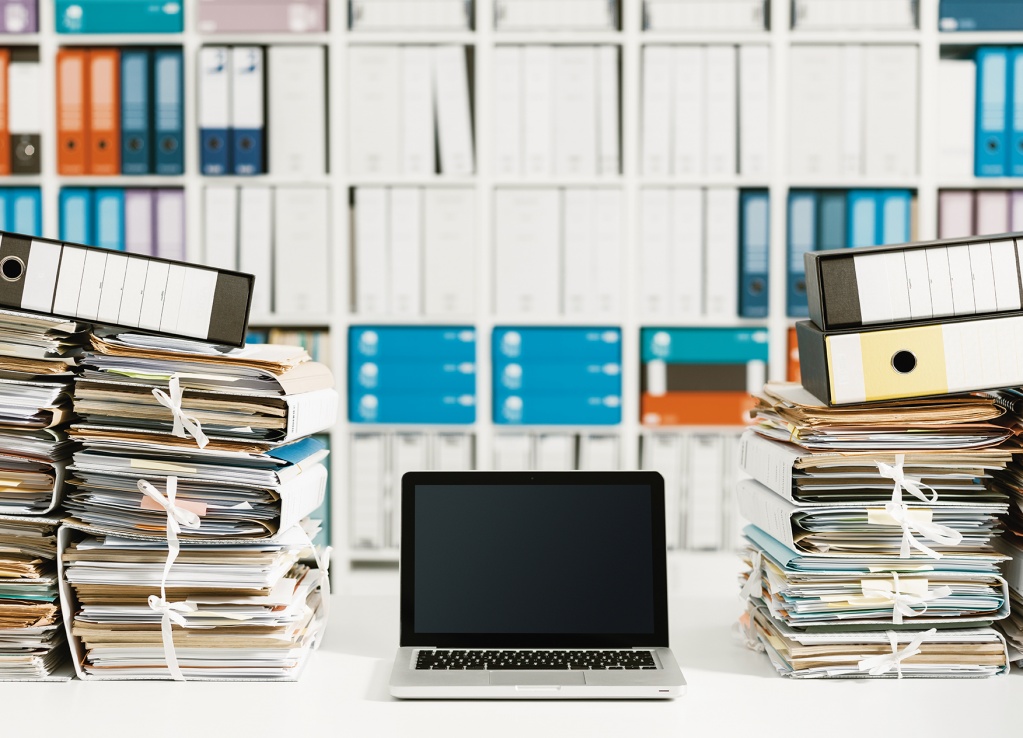
Несколько прошлых лет драйвером изменений выступала маркировка. В связи с постановлениями Правительства РФ об обязательной маркировке товаров (а 1 июля 2020 года маркировка стала необходима для табака и обуви), подразумевающими использование ЭДО при торговле маркированным товаром, интерес ритейла к ЭДО возрос. «Причем заинтересовалась вся сфера ритейла, не только федеральные и региональные сети, но и небольшие торговые точки. Маркировка значительно ускорила проникновение ЭДО в ритейл», – считает Елена Апарина, руководитель департамента по работе с корпоративными и ключевыми клиентами компании «Такском».
Казалось бы, потом последует период затишья, но пандемия внесла свои корректировки в планы бизнеса. На карантине многие компании имели большие проблемы с обменом документов: многие вынуждены были работать из дома, без доступа в офис со всеми его бумагами. «В период пандемии был ряд ограничений как у курьерских служб, так и у почты, – продолжает Елена Апарина, – а у ЭДО есть два существенных плюса.
Во-первых, можно не прикасаться к бумаге, таким образом избегая контакта. Во-вторых, можно работать с документами из дома со своего собственного компьютера, смартфона или планшета».
Такая ситуация вынудила задуматься: не стоит ли опасаться новых форс-мажоров, когда к документам не подберешься месяцами? Переход на ЭДО, в том числе юридически значимый, для многих компаний событие, произошедшее еще до пандемии. Между тем множество представителей малого и среднего бизнеса до этого либо вообще не использовали ЭДО в своей работе, либо использовали не так широко. «Пандемия послужила своего рода катализатором для ускорения подключения и использования ЭДО в работе ритейлеров, – рассказывает Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – Вместе с проникновением в ритейл процессов ЕГАИС, «Меркурия», систем маркировки товаров, а также благодаря постепенному переходу на электронные ТТН, пусть пока и в рамках эксперимента Минтранса, практически каждый ритейлер так или иначе начинает использовать ЭДО».
Карантинные меры помогают ускорить этот переход, уже состоявшийся де-факто. «Действительно, в марте-апреле мы отметили рост подключений новых контрагентов к процессам электронного документооборота среди наших клиентов, – соглашается Сергей Сыцевич, директор по развитию бизнеса направления xDE компании TerraLink. – Отмечу, что речь, скорее, о расширении экосистем ЭДО компаний». По его словам, компании из сферы ритейла и FMCG являются пионерами в области цифровизации взаимодействия со своими контрагентами и хорошо представляют все преимущества ЭДО и EDI, когда можно быстро и безошибочно проводить прием товара, уйти от возможных расхождений в документах, легко создавать документы, сопровождающие поставки. Новая реальность и изменяющееся поведение потребителей в сторону совершения покупок онлайн лишь подтолкнули эти компании задуматься о новых цифровых инструментах для большей автоматизации и прозрачности, ускорения бизнес-процессов. В ЭДО это создание сервиса единого окна по работе с цифровыми документами в экосистеме интеллектуального предприятия, объединяющей контур учетных систем, систем маркировки, ЭДО и EDI, который поможет компаниям повысить эффективность бизнеса при поддержке всех обязательных и перспективных требований.
Долго запрягаем
Неожиданно, что при всей давности темы и обилии факторов, подталкивающих к ЭДО, цифровые документы все еще нельзя назвать обычным делом. Электронные письма распечатываются и отправляются на подпись к руководству, документы просто сканируются в PDF без всякой организации поиска по тексту, ценные бумаги рассылаются почтой России.
Именно ритейл стал пионером в переходе на безбумажные технологии. И именно в области обработки первичных бумажных документов. «Остальные документопотоки переводятся на безбумажные рельсы гораздо медленнее, потому что отказ от бумаги дает не столько выигрышей, – поясняет Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн». – Интерес к тематике ЭДО в первую очередь возник сначала у крупных сетевых игроков, а потом и у более мелких поставщиков. У торговых организаций обработка первичных документов – существенная часть расходов, и переход на безбумажную «первичку» дает максимальные выгоды. Это касается как собственно накладных расходов на обработку бумаги, так и других факторов: скорости производства транзакций, управления возмещением НДС и прочим».
Разумеется, для тех ритейлеров, кто давно и полностью работает с системами электронного документооборота, подключил к процессам не только свою организацию, но и поставщиков, новости о переходе на ЭДО кажутся слишком «прошлогодними». Топ-10 игроков на рынке РФ уже перешли в максимально цифровой вид. Но если уйти за пределы регионов присутствия крупнейших игроков, то мы видим другую картину: небольшие местные компании не торопятся переходить на электронный обмен, потому что у них нет таких больших ИТ-бюджетов и возможности заставить или попросить перейти на ЭДО своих поставщиков. Алексей Пестерев, руководитель направления «Управление контентом и документооборот» ИТ-компании «КРОК», объясняет, куда уйдут деньги компании: «Если говорить о вложениях при переходе на ЭДО, то можно грубо разделить их на ИТ и организационные затраты. Со стороны ИТ-инфраструктуры нужно привести в порядок бизнес-процессы, провести изменения в своих бизнес-приложениях (ECM, ERP, CRM), укомплектовать рабочие места (СКЗИ, ЭП), а это деньги и время на реализацию. Также сам переход на ЭДО – это организационные задачи, которые включают изменение договоров с поставщиками, работу с поставщиком через роуминг или вариант, когда компания предлагает свое решение на ЭДО, но компенсирует затраты поставщика».
Практически все наши эксперты отметили этот факт – стоимость внедрения влетит в копеечку. «Я бы выделил два фактора. Во-первых, консерватизм руководства и линейных сотрудников – инновации всегда встречают сопротивление. Но главная причина – существенные единовременные инвестиции перевода на ЭДО, которые для большинства задач (за исключением того же перевода первички и еще некоторых) окупаются достаточно долго», – говорит Владимир Андреев. Однако необходимость работы в удаленном режиме показывает неизбежность этого процесса. Впрочем, понимают это не все. «К основному стоп-фактору я отнесу непонимание: бизнес не знает, зачем внедрять электронный документооборот, какие выгоды этот шаг принесет, какова экономическая эффективность от реализации проекта», – комментирует Ираида Бакаева, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Synerdocs.
Компании осознают, что потребуются интеграции с учетными системами, обучение пользователей. Последние, кстати, могут добавить свою ложку дегтя, так как им привычнее и проще работать на бумаге. Но это всего лишь отговорки. «Кажется, что если посмотреть на весь процесс перехода на ЭДО с верхнего уровня, то это огромный тяжелый фронт работы, поэтому тема электронного документооборота отодвигается и становится неприоритетной. Но если разделить тему на этапы, рассчитать экономическую эффективность, понять выгоды, определить сроки, исполнителей, то процесс перехода перестанет казаться страшным. Реальные плюсы от перехода на ЭДО компания сможет ощутить уже через полгода-год в зависимости от переводимых процессов и документов в электронный вид», – считает Ираида Бакаева.
В чем выгода
Когда электронный документ внедряли на волне маркировки, а не5в панике от наступающего карантина, были возможности пробовать, запускать пилоты, ставить эксперименты. С 1 июля в России была введена обязательная цифровая маркировка лекарств и обуви и запрет на оборот немаркированной табачной продукции. С 1 октября 2020 вводится обязательная маркировка парфюмерной продукции: импортеры и производители духов уже начали поставки продукции с кодами Data Matrix. Список товарных групп активно расширяется, и идут эксперименты в других отраслях (молоко, шины, фотоаппараты и др.). «Многие компании еще на этапе экспериментов активно внедряют электронный документооборот и отмечают, что это не только снижение затрат, экономия человеко-часов финансовых подразделений, рост скорости обмена документами, но и достаточно быстроокупаемые инвестиции, – отмечает Сергей Сыцевич. – Средний срок возврата вложений в проект ЭДО составляет 6–12 месяцев».
Минусы мы посчитали, давайте посмотрим на плюсы и определим, что в сухом остатке. В долгосрочном периоде выгоды огромны и очевидны. В этом уверен Владимир Андреев: «Это и радикальное ускорение процессов, и сокращение их стоимости, и главное – получение детальной информации об их ходе, что дает огромные возможности по их оптимизации, в частности, с применением технологий искусственного интеллекта. С бумажными документами это все совершенно невозможно».
Прозрачность и надежность обмена документами повышается, сокращается влияние человеческого фактора при обработке документов, тем самым уменьшается риск логистических простоев. «Внедрение платформы обмена электронными документами у одного из наших клиентов обеспечило и снижение трудозатрат сотрудников бэк-офиса на обработку документов: загруженность подразделения бухгалтерского учета снизилась почти на 50%. Также растет лояльность контрагентов», – делится подробностями Сергей Сыцевич.
Основными задачами перехода на ЭДО является сокращение сроков обмена, стоимости обмена и операционных затрат на взаимодействие с поставщиками. «Благодаря сервисам ЭДО в том числе можно быстро выставить корректирующие документы, если была совершена ошибка, например, в номенклатурных позициях, их количестве. Доставка одного документа в ЭДО стоит дешевле, чем доставка бумаги с помощью почты, курьерской доставки, собственных сотрудников. И чем быстрее вы подписали документы с обеих сторон, тем быстрее поступят деньги от контрагента. И, конечно, сервисы юридически значимого электронного документооборота исключают утерю и порчу документов», – говорит Алексей Пестерев. «С переходом на ЭДО компания не станет продавать больше, но сократит свои издержки, что немаловажно для любого бизнеса», – дополняет Елена Апарина.
Владимир Андреев рассказывает о таком успешном кейсе: «Компания «СТД Петрович» после внедрения СЭД на платформе Docsvision повысила эффективность работы сотрудников за счет сокращения сроков и повышения прозрачности процесса согласования и исполнения договоров, уменьшения времени и трудозатрат на подготовку и поиск необходимых документов».
Все в сеть
Хорошим примером последних двух лет является Wildberries и его максимальная цифровизация. Пять лет назад, когда ритейл только-только делал первые шаги в сторону освоения электронного документооборота, интернет-магазин объявил, что отказывается от бумажных документов в поставках. Сегодня 99% поставщиков работают с Wildberries в электронном виде. Прием товара ускорился в пять раз. Удалось исключить ошибки в оформлении документов, сократить сроки их рассмотрения и подписания. О том, как поэтапно протекал проект, рассказывает Ираида Бакаева.
В прошлом все первичные документы: акты, накладные, счета-фактуры – ехали вместе с товаром. Часто в бумагах были ошибки из-за того, что в номенклатуре продавца были сотни позиций, а объемы и цены постоянно менялись. В итоге, когда документы попадали в нужные руки, сведения в них уже не соответствовали действительности. На исправление ошибок и новую отправку уходило много времени.
Если при приеме товара обнаруживался брак или недогруз, приходилось составлять и подписывать акт ТОРГ-2 на основании накладной ТОРГ-12. Акт отсылали поставщику, он подписывал его со своей стороны и формировал корректировочный счет-фактуру. Затем весь пакет документов с ТОРГ-2 снова отправлялся обратно.
Чтобы устранить эти проволочки, Wildberries нужно было решение, в котором можно было бы создавать, подписывать и отправлять поставщику первичные электронные документы и получать от него таким же образом пакет ответных бумаг. В 2015 году специалисты отделов продаж и взаиморасчетов начали работать с электронными документами. Далее стартовал проект по подключению к ЭДО контрагентов. Wildberries проводила вебинары, писала письма, а подключение как таковое взял на себя оператор ЭДО. В цифру были переведены все процессы по отправке, получению, исправлению и контролю возврата документов. К 2017 году счета-фактуры, акты сверки, накладные, договоры и неформализованные документы стали электронными. Все новые договоры с новыми поставщиками заключались уже в электронном виде. Чтобы дополнительно мотивировать поставщиков, Wildberries начала возмещать их расходы на ЭДО.
В 2019 году начался обмен электронными транспортными накладными (ЭтрН), при этом для работы активно используются мобильные решения. Теперь все данные о водителе, машине и продукции берутся напрямую из ЭТрН и заносятся в корпоративную систему. Водителям остается лишь подъехать к месту разгрузки в указанное время в порядке электронной очереди, камера при въезде на склад считает номер и откроет шлагбаум для водителя. Сейчас средняя продолжительность ожидания разгрузки машины поставщика составляет от 0 до 10 минут.
Документы первой свежести
Еще одна история успеха связана с торговой сетью «ВкусВилл», которая в 2019 году перешла на ЭДО. Сегодня 1200 точек сети уже работают с электронными документами. В частности, на проекте автоматизирован обмен транспортными накладными (ТрН). Каждый день магазины «ВкусВилл» оформляют сотни ТрН. Учитывая тот факт, что торговая сеть работает с продуктами категории «фреш», крайне важно, чтобы согласование и подписание документов не тормозило отгрузки и поставки. В рамках проекта по переходу на ЭДО была реализована интеграция учетной системы компании с сервисом Synerdocs. Это избавило бухгалтерию заказчика от бумажной волокиты и позволило оперативно отслеживать статус документооборота.
Терпение и труд
И все же первые шаги могут не давать быстрого эффекта, так что ЭДО – это долгосрочная инвестиция, которую надо тщательно просчитывать. Об этом говорит Владимир Андреев: «Основные сложности – в правильной организации процесса, так как он весьма небыстрый. Его необходимо тщательно планировать, и с самого первого шага иметь представление об экономике. Об этом часто забывают, и в результате не получают ожидаемого положительного эффекта».
Без чего невозможно задумываться о переходе на ЭДО? Это зависит от разных факторов: от объема документооборота с контрагентами, необходимости его оптимизации, требования контролирующих органов и фискальных рисков. «Если для обмена небольшим количеством документов будет достаточно услуг оператора ЭДО, то для сложных случаев потребуется тесная интеграция с информационной системой организации. Для каких-то процессов хватит интеграции учетной системы с оператором, для других необходимо иметь бесшовную интеграцию с корпоративной СЭД», – объясняет он. По мере увеличения степени автоматизации необходимо будет структурировать как процессы, так и документы, которые в них обрабатываются. В каждом конкретном случае необходимо смотреть на экономику инвестиций и определять оптимальные подходы к решению этой задачи.
Прежде чем переходить на ЭДО, необходимо четко сформулировать цели и задачи, которые должны быть достигнуты. «По моему опыту, если подходить к этой задаче бессистемно и непоследовательно, то проект может затянуться на долгие годы, а профит компания получит минимальный», – предупреждает Ираида Бакаева. По ее словам, чтобы такого не допустить, необходимо выделить рабочую группу, руководителя проекта, который будет вести и курировать процесс. Маршрутизация документов, корпоративная информационная система, архив, разграничение прав доступа – это все прекрасно, но без четкого понимания, что компания должна получить «на выходе», малоэффективно.
Кроме того, требуется провести анализ внутренней среды, а также своих поставщиков: понять, каких операторов ЭДО они уже используют. «Например, если 80% поставщиков работают с одним и тем же оператором, то, скорее всего, имеет смысл внедрять того же оператора, что и у большинства подрядчиков, – считает Дмитрий Смирнов. Провести аудит, определиться с решением и реализовать проект ритейлеру помогут ИТ-компании с соответствующим опытом. Как правило, проект начинается с пилота: в его рамках устраняются все выявленные недочеты, и «на рельсы» ставится определенная часть документооборота. Затем проект масштабируется.
На старт, внедрение, марш!
Когда мы говорим об ЭДО, мы прежде всего говорим о кросс-организационном безбумажном документообороте. И тут в любом случае не обойтись без оператора ЭДО, так как он необходим для перехода на безбумажные счета-фактуры. «В любом случае использование оператора приносит выгоды, – полагает Владимир Андреев. – А вот какая внутренняя система будет участвовать в этом процессе, зависит от конкретной организации и конкретного процесса. Взаимодействие с оператором может осуществляться напрямую из прикладной системы (CRM или ERP) или реализовываться через СЭД. Вариантов много, надо выбрать оптимальный с точки зрения стоимости реализации, сопровождения и экономического эффекта».
Кроме того, неплохо оптимизировать и внутренний документооборот в компании. Любой электронный документооборот – тот же документооборот, только автоматизированный с применением соответствующих информационных систем. Поэтому успешный переход имеет два основных драйвера: поставленные процессы документооборота в компании как такового и наличие систем автоматизации. «Перевод компании на ЭДО, как и любой другой проект, грамотнее всего начинать с внутреннего аудита, расчета объема документов, участвующих в бизнес-процессах, а также с определения источников входа документов», – советует Дмитрий Смирнов.
Если документооборот небольшой, то зачастую внедрять новый инструмент не имеет смысла. Помимо этого обязательно надо обдумать, какая корпоративная система станет центром хранения, согласования документов, а также их передачи в другие информационные системы. «CRM и ECM – это те системы, которые наверняка уже должны быть в современной компании, – говорит Алексей Пестерев. – Но есть и другая проблема, которую нужно решать некоторым компаниям сейчас, а кому-то в будущем: большой объем накопленных документов, которые тормозят текущие системы, усложняют процесс поиска документов, усложняют обслуживание системы. Все это решается созданием электронного архива документов, данные из которых благодаря этому вытесняются из ECM-, ERP-систем и ЭДО. При этом может поддерживаться ссылочная структура между архивом и ECM, ERP, есть инструменты быстрого поиска, распознавания документов и другие возможности систем долговременного хранения».
Обязательно ли соблюдать эту очередность: сначала наладить внутренний ЭДО, затем внешний? Или можно поменять приоритеты? Чаще всего компании при переходе на ЭДО действуют поступательно и налаживают сначала внутренний документооборот, а потом автоматизируют обмен документами на так называемом внешнем контуре. «С одной стороны, это логично, так как можно с самого начала внутри компании настроить необходимые маршруты согласования, регламент, разграничения прав доступа и архив в электронном виде. Уже погруженным в тематику ЭДО пользователям станет легче перейти на новый уровень – межкорпоративный обмен с контрагентами», – полагает Ираида Бакаева. Что будет, если пойти наперекор этому правилу? «В моей практике были компании, которые первостепенно рассматривали обмен с поставщиками/клиентами и только потом наводили порядок во внутренних процессах, – рассказывает она. – Причины такого решения могут быть различные: поступает множество запросов от контрагентов или кто-то из крупных клиентов активно склоняет к ЭДО. Некоторые компании считают, что проще начать с внешнего обмена электронными документами. Поэтому и идут от простого к сложному, так как изменение внутренних процессов для них – задача более трудоемкая».
Здесь нет одного правильного решения, все зависит от целей компании. В большинстве случаев в итоге все равно придется налаживать как внешний, так и внутренний документооборот. «Надо подумать как про внутреннюю автоматизацию безбумажного документооборота на базе СЭД, так и про средства интеграции СЭД и операторов ЭДО. При этом СЭД в данном случае мы «понимаем» не узко, как систему традиционного делопроизводства, а именно как комплексную СЭД/ECM-систему, которая может автоматизировать произвольные процессы с использованием инструментов быстрой разработки и возможностью создавать различные архивы, в частности, безбумажных документов», – рассказывает Владимир Андреев.
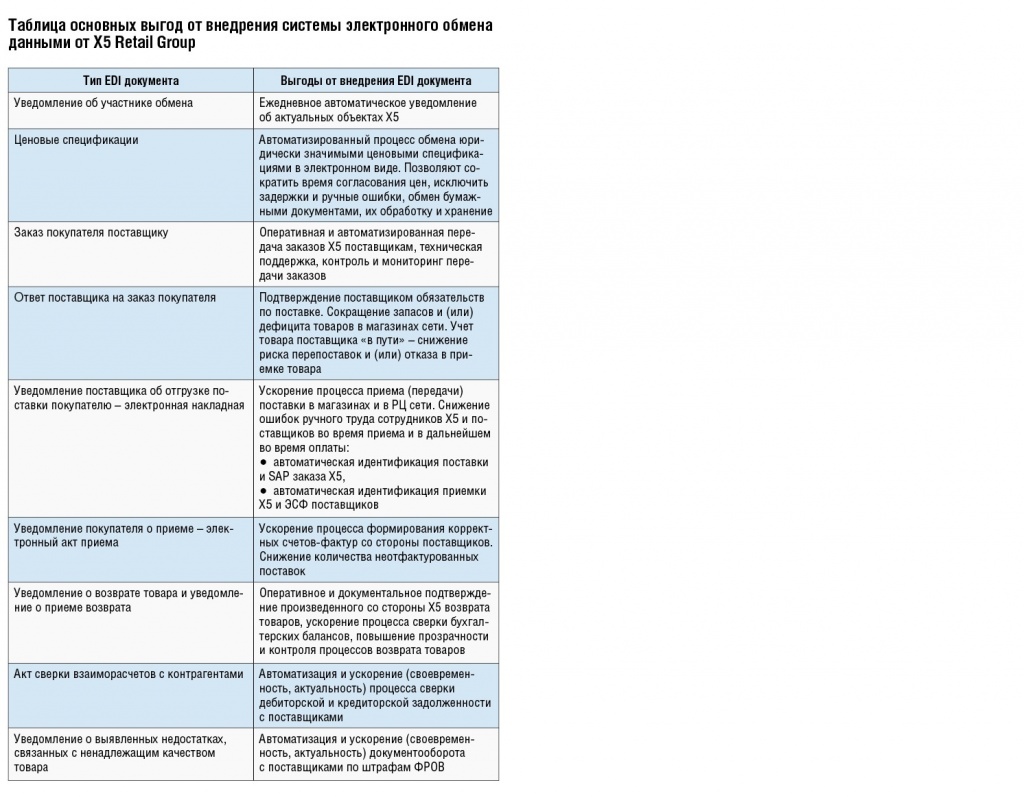
Что войдет в проект (внутренний или внешний ЭДО), решается исходя из аудита и ожидаемого эффекта, который должен принести проект. «Если компании сложно сделать такой выбор, то для этого есть профессиональный консалтинг. Такие задачи в КРОК мы тоже решаем, – уверяет Алексей Пестерев. – В том числе мы анализируем внутреннюю среду заказчика, участвуем в формировании карты проекта, технического задания, предложений по оптимизации бизнес-процессов, которые в том числе предстоит стандартизировать и унифицировать».
По его словам, классическая схема всегда простая. Сначала идут аудит внутренних процессов, проработка очередности этапов. Затем составляется техническое задание на проект или на конкретные этапы работ. Далее следуют выбор поставщика, реализация проекта. На последнем этапе делается анализ полученных результатов и старт нового проекта.
Чтобы перейти на ЭДО, нужно организовать рабочую группу. В ней должны быть все заинтересованные лица: бухгалтер, руководитель или директор, ИТ-специалист (для крупных компаний). «Далее ритейлу необходимо зафиксировать переход на ЭДО со своими поставщиками, то есть прописать это в договорах поставки или в соглашениях к действующим договорам. Выбрать оператора электронного документооборота, выбрать решение, которое не нарушит процессы и не приведет к смене учетной системы, а органично в нее впишется. Оборудовать склад сканерами или ТСД для приема товара», – советует Елена Апарина.
Если говорить об информационных системах, то на сегодняшний день у каждой сети или торговой точки уже есть какая-то учетная система, и ЭДО встраивается в эту систему: тогда не требуется устанавливать ничего дополнительно. «Например, большинство ритейлеров используют учетную систему 1С. ЭДО «Такском» интегрирован с 1С, поэтому, чтобы его применять, нужно просто активировать эту функциональность. Этот продукт называется «1С-Такском». Он подразумевает, что ЭДО будет работать непосредственно из учетной системы 1С клиента, – объясняет Елена Апарина. – Если учетная система 1С не обновляема и не может быть интегрирована с сервисом ЭДО, то тогда уже потребуется приобретать дополнительные решения, например, станцию сканирования (решение на платформе 1С). Она позволяет загружать документы и данные из своей учетной системы. Если в торговой точке не было учетной системы, можно использовать веб-решения и работать с электронными документами, не усложняя процессы».
Электронная подпись – также необходимый атрибут ЭДО, но если компания уже сдает отчетность в электронном виде, то она у нее есть. ЭП для отчетности подойдет и для работы с электронными документами. «При внедрении ЭДО надо определить сотрудников, уполномоченных на подписание УПД, и оформить на них электронную подпись. Также можно воспользоваться сервисом маршрутов, когда любой входящий документ будет направляться именно тому сотруднику, который уполномочен этот документ подписывать, например, бухгалтеру», – говорит Елена Апарина.
Две стороны одной медали
В заключение скажем несколько слов про EDI. Иногда о нем рассуждают так, что может показаться – это синоним ЭДО. Строго говоря, ЭДО и EDI – это две стороны одной медали. EDI – это, собственно, электронное сопровождение любой бизнес-транзакции между организациями, а ЭДО – это юридически значимый обмен безбумажными документами, сопровождающими эти транзакции. «То, что эти процессы реализуются двумя разными классами систем, в общем, является недоразумением, которых, впрочем, очень много в истории развития информационных технологий. Конечно, эти два класса систем будут сливаться в одну в ближайшем будущем. Но пока они служат разным целям. EDI – ускорению и сопровождению взаимодействия субъектов бизнеса при проведении бизнес-операций, а ЭДО – сокращению издержек на документооборот. Для разных задач может оказаться более важным тот или иной аспект, и именно с него будет начинаться автоматизация», – подчеркивает Владимир Андреев.
Разница также заключается в том, что не каждому бизнесу нужны оба компонента. ЭДО и EDI для классического продуктового ритейла уже становятся отраслевым стандартом. «Но если мы говорим о других сферах ритейла, то EDI не является обязательным инструментом. Например, автомобильный ритейл точно не требует EDI», – замечает Алексей Пестерев.
EDI является неотъемлемой частью в работе с поставщиками. EDI помогает сети получить именно то количество и тот ассортимент товара, который она заказывает, и производить дальнейшее планирование по товарному стоку, исходя из оборачиваемости товара на полке. «Но EDI не является обязательным, – подчеркивает Елена Апарина. – ЭДО же необходим всему ритейлу, если в его ассортимент входят товары, подлежащие обязательной маркировке».
ЭДО нужно четко разделять на юридически значимый (ЮЗЭДО) и на простой обмен электронными сообщениями единого формата, входящими в состав EDI. Такими сообщениями являются заказ, подтверждение заказа, ценовой лист, уведомление об отгрузке и другие. «В ритейле EDI применяется уже давно, около десяти лет, – рассказывает Елена Апарина, – но это не ЮЗЭДО». С определенного времени операторы стали включать ЮЗЭДО в состав предложений по EDI. Некоторые сети используют УПД (универсальный передаточный документ) как еще один документ в составе документооборота. Если компания перешла на ЭДО хотя бы по одной товарной группе, то есть смысл переходить на ЭДО со всеми поставщиками, так как разделять бумажный и электронный документооборот нецелесообразно и сложно.
Выбор партнера. Вопросы оператору ЭДО
● Предоставляет ли оператор EDI-сервис помимо ЭДО?
Какие документы уже сейчас возможно отправлять в сервисе помимо привычной первички, например, ТТН?
● Готов ли оператор ЭДО помочь в подключении поставщиков?
● С какими компаниями налажен процесс обмена через роуминг?
● Есть ли возможность самостоятельной настройки интеграции по API, есть набор готовых коннекторов к системам?
● Предусмотрена ли гибкая тарификация, особенно при больших объемах?
● Есть ли референсные клиенты в отрасли?
Список вопросов подготовила компания «КРОК»
Как ритейлеру выбрать оператора ЭДО?
● Обращайте внимание на наличие у оператора ЭДО успешных кейсов, относящихся к вашей отрасли.
● Экспертиза и опыт сотрудников оператора первостепенны. Компетентные сотрудники понимают болевые места компании-клиента и подбирают максимально удобные решения, позволяющие закрыть все открытые задачи.
● Нужно понимать, что перейти самим на ЭДО – это половина шага. Чтобы был профит, необходимо подключить как можно больше контрагентов. Поэтому в приоритете всегда будут операторы, предлагающие такую услугу, как подключение контрагентов.
● Наличие роуминга со всеми основными операторами ЭДО. Практика показывает, что у заказчика есть определенный пул поставщиков или клиентов, которые уже используют разных операторов.
● Квалифицированная и грамотная техническая поддержка. Обзвоните поддержку нескольких операторов и задайте какой-то один вопрос. Сравните работу поддержки по параметрам: как быстро взяли трубку, с какой скоростью обрабатывали запрос, насколько качественный вы получили ответ.
Советы давала Ираида Бакаева, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Synerdocs.
[~DETAIL_TEXT] =>
Бумаги больше не будет, мы переходим на электронный документооборот. Этому лозунгу даже не первый десяток лет. Но всерьез зашевелились недавно. Пандемия и карантин, а также напряженное ожидание того, как будет развиваться ситуация, показали бизнесу: лучше иметь план Б и быть готовым к новому заточению в любое время суток. Компании массово начали переходить на ЭДО – электронный документооборот.
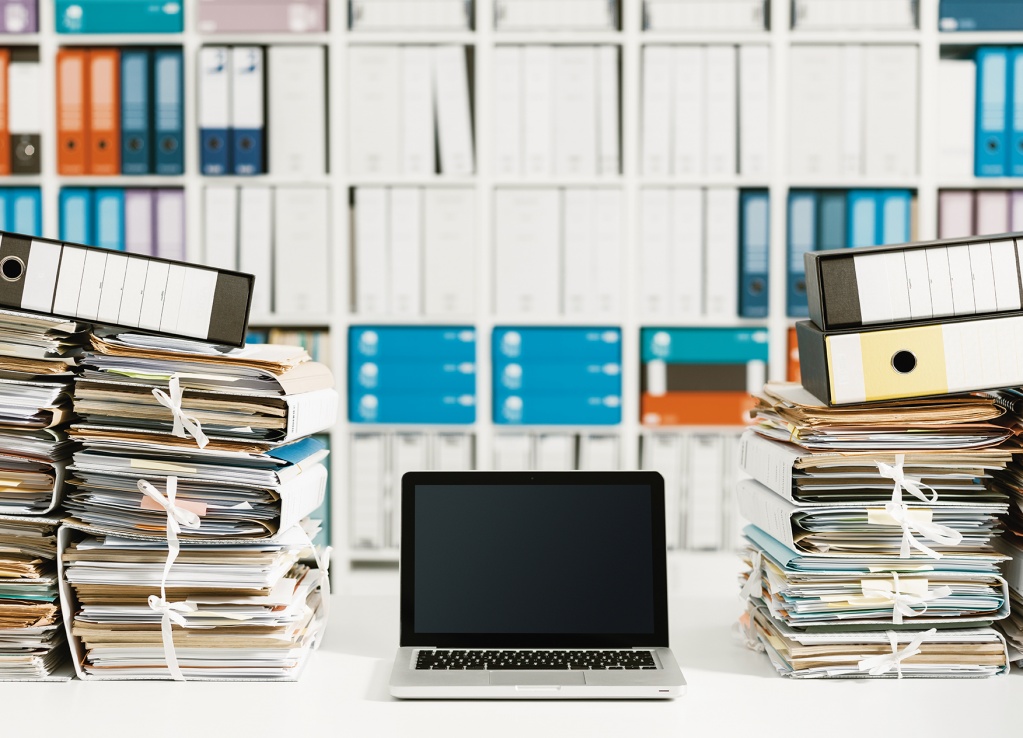
Несколько прошлых лет драйвером изменений выступала маркировка. В связи с постановлениями Правительства РФ об обязательной маркировке товаров (а 1 июля 2020 года маркировка стала необходима для табака и обуви), подразумевающими использование ЭДО при торговле маркированным товаром, интерес ритейла к ЭДО возрос. «Причем заинтересовалась вся сфера ритейла, не только федеральные и региональные сети, но и небольшие торговые точки. Маркировка значительно ускорила проникновение ЭДО в ритейл», – считает Елена Апарина, руководитель департамента по работе с корпоративными и ключевыми клиентами компании «Такском».
Казалось бы, потом последует период затишья, но пандемия внесла свои корректировки в планы бизнеса. На карантине многие компании имели большие проблемы с обменом документов: многие вынуждены были работать из дома, без доступа в офис со всеми его бумагами. «В период пандемии был ряд ограничений как у курьерских служб, так и у почты, – продолжает Елена Апарина, – а у ЭДО есть два существенных плюса.
Во-первых, можно не прикасаться к бумаге, таким образом избегая контакта. Во-вторых, можно работать с документами из дома со своего собственного компьютера, смартфона или планшета».
Такая ситуация вынудила задуматься: не стоит ли опасаться новых форс-мажоров, когда к документам не подберешься месяцами? Переход на ЭДО, в том числе юридически значимый, для многих компаний событие, произошедшее еще до пандемии. Между тем множество представителей малого и среднего бизнеса до этого либо вообще не использовали ЭДО в своей работе, либо использовали не так широко. «Пандемия послужила своего рода катализатором для ускорения подключения и использования ЭДО в работе ритейлеров, – рассказывает Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – Вместе с проникновением в ритейл процессов ЕГАИС, «Меркурия», систем маркировки товаров, а также благодаря постепенному переходу на электронные ТТН, пусть пока и в рамках эксперимента Минтранса, практически каждый ритейлер так или иначе начинает использовать ЭДО».
Карантинные меры помогают ускорить этот переход, уже состоявшийся де-факто. «Действительно, в марте-апреле мы отметили рост подключений новых контрагентов к процессам электронного документооборота среди наших клиентов, – соглашается Сергей Сыцевич, директор по развитию бизнеса направления xDE компании TerraLink. – Отмечу, что речь, скорее, о расширении экосистем ЭДО компаний». По его словам, компании из сферы ритейла и FMCG являются пионерами в области цифровизации взаимодействия со своими контрагентами и хорошо представляют все преимущества ЭДО и EDI, когда можно быстро и безошибочно проводить прием товара, уйти от возможных расхождений в документах, легко создавать документы, сопровождающие поставки. Новая реальность и изменяющееся поведение потребителей в сторону совершения покупок онлайн лишь подтолкнули эти компании задуматься о новых цифровых инструментах для большей автоматизации и прозрачности, ускорения бизнес-процессов. В ЭДО это создание сервиса единого окна по работе с цифровыми документами в экосистеме интеллектуального предприятия, объединяющей контур учетных систем, систем маркировки, ЭДО и EDI, который поможет компаниям повысить эффективность бизнеса при поддержке всех обязательных и перспективных требований.
Долго запрягаем
Неожиданно, что при всей давности темы и обилии факторов, подталкивающих к ЭДО, цифровые документы все еще нельзя назвать обычным делом. Электронные письма распечатываются и отправляются на подпись к руководству, документы просто сканируются в PDF без всякой организации поиска по тексту, ценные бумаги рассылаются почтой России.
Именно ритейл стал пионером в переходе на безбумажные технологии. И именно в области обработки первичных бумажных документов. «Остальные документопотоки переводятся на безбумажные рельсы гораздо медленнее, потому что отказ от бумаги дает не столько выигрышей, – поясняет Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн». – Интерес к тематике ЭДО в первую очередь возник сначала у крупных сетевых игроков, а потом и у более мелких поставщиков. У торговых организаций обработка первичных документов – существенная часть расходов, и переход на безбумажную «первичку» дает максимальные выгоды. Это касается как собственно накладных расходов на обработку бумаги, так и других факторов: скорости производства транзакций, управления возмещением НДС и прочим».
Разумеется, для тех ритейлеров, кто давно и полностью работает с системами электронного документооборота, подключил к процессам не только свою организацию, но и поставщиков, новости о переходе на ЭДО кажутся слишком «прошлогодними». Топ-10 игроков на рынке РФ уже перешли в максимально цифровой вид. Но если уйти за пределы регионов присутствия крупнейших игроков, то мы видим другую картину: небольшие местные компании не торопятся переходить на электронный обмен, потому что у них нет таких больших ИТ-бюджетов и возможности заставить или попросить перейти на ЭДО своих поставщиков. Алексей Пестерев, руководитель направления «Управление контентом и документооборот» ИТ-компании «КРОК», объясняет, куда уйдут деньги компании: «Если говорить о вложениях при переходе на ЭДО, то можно грубо разделить их на ИТ и организационные затраты. Со стороны ИТ-инфраструктуры нужно привести в порядок бизнес-процессы, провести изменения в своих бизнес-приложениях (ECM, ERP, CRM), укомплектовать рабочие места (СКЗИ, ЭП), а это деньги и время на реализацию. Также сам переход на ЭДО – это организационные задачи, которые включают изменение договоров с поставщиками, работу с поставщиком через роуминг или вариант, когда компания предлагает свое решение на ЭДО, но компенсирует затраты поставщика».
Практически все наши эксперты отметили этот факт – стоимость внедрения влетит в копеечку. «Я бы выделил два фактора. Во-первых, консерватизм руководства и линейных сотрудников – инновации всегда встречают сопротивление. Но главная причина – существенные единовременные инвестиции перевода на ЭДО, которые для большинства задач (за исключением того же перевода первички и еще некоторых) окупаются достаточно долго», – говорит Владимир Андреев. Однако необходимость работы в удаленном режиме показывает неизбежность этого процесса. Впрочем, понимают это не все. «К основному стоп-фактору я отнесу непонимание: бизнес не знает, зачем внедрять электронный документооборот, какие выгоды этот шаг принесет, какова экономическая эффективность от реализации проекта», – комментирует Ираида Бакаева, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Synerdocs.
Компании осознают, что потребуются интеграции с учетными системами, обучение пользователей. Последние, кстати, могут добавить свою ложку дегтя, так как им привычнее и проще работать на бумаге. Но это всего лишь отговорки. «Кажется, что если посмотреть на весь процесс перехода на ЭДО с верхнего уровня, то это огромный тяжелый фронт работы, поэтому тема электронного документооборота отодвигается и становится неприоритетной. Но если разделить тему на этапы, рассчитать экономическую эффективность, понять выгоды, определить сроки, исполнителей, то процесс перехода перестанет казаться страшным. Реальные плюсы от перехода на ЭДО компания сможет ощутить уже через полгода-год в зависимости от переводимых процессов и документов в электронный вид», – считает Ираида Бакаева.
В чем выгода
Когда электронный документ внедряли на волне маркировки, а не5в панике от наступающего карантина, были возможности пробовать, запускать пилоты, ставить эксперименты. С 1 июля в России была введена обязательная цифровая маркировка лекарств и обуви и запрет на оборот немаркированной табачной продукции. С 1 октября 2020 вводится обязательная маркировка парфюмерной продукции: импортеры и производители духов уже начали поставки продукции с кодами Data Matrix. Список товарных групп активно расширяется, и идут эксперименты в других отраслях (молоко, шины, фотоаппараты и др.). «Многие компании еще на этапе экспериментов активно внедряют электронный документооборот и отмечают, что это не только снижение затрат, экономия человеко-часов финансовых подразделений, рост скорости обмена документами, но и достаточно быстроокупаемые инвестиции, – отмечает Сергей Сыцевич. – Средний срок возврата вложений в проект ЭДО составляет 6–12 месяцев».
Минусы мы посчитали, давайте посмотрим на плюсы и определим, что в сухом остатке. В долгосрочном периоде выгоды огромны и очевидны. В этом уверен Владимир Андреев: «Это и радикальное ускорение процессов, и сокращение их стоимости, и главное – получение детальной информации об их ходе, что дает огромные возможности по их оптимизации, в частности, с применением технологий искусственного интеллекта. С бумажными документами это все совершенно невозможно».
Прозрачность и надежность обмена документами повышается, сокращается влияние человеческого фактора при обработке документов, тем самым уменьшается риск логистических простоев. «Внедрение платформы обмена электронными документами у одного из наших клиентов обеспечило и снижение трудозатрат сотрудников бэк-офиса на обработку документов: загруженность подразделения бухгалтерского учета снизилась почти на 50%. Также растет лояльность контрагентов», – делится подробностями Сергей Сыцевич.
Основными задачами перехода на ЭДО является сокращение сроков обмена, стоимости обмена и операционных затрат на взаимодействие с поставщиками. «Благодаря сервисам ЭДО в том числе можно быстро выставить корректирующие документы, если была совершена ошибка, например, в номенклатурных позициях, их количестве. Доставка одного документа в ЭДО стоит дешевле, чем доставка бумаги с помощью почты, курьерской доставки, собственных сотрудников. И чем быстрее вы подписали документы с обеих сторон, тем быстрее поступят деньги от контрагента. И, конечно, сервисы юридически значимого электронного документооборота исключают утерю и порчу документов», – говорит Алексей Пестерев. «С переходом на ЭДО компания не станет продавать больше, но сократит свои издержки, что немаловажно для любого бизнеса», – дополняет Елена Апарина.
Владимир Андреев рассказывает о таком успешном кейсе: «Компания «СТД Петрович» после внедрения СЭД на платформе Docsvision повысила эффективность работы сотрудников за счет сокращения сроков и повышения прозрачности процесса согласования и исполнения договоров, уменьшения времени и трудозатрат на подготовку и поиск необходимых документов».
Все в сеть
Хорошим примером последних двух лет является Wildberries и его максимальная цифровизация. Пять лет назад, когда ритейл только-только делал первые шаги в сторону освоения электронного документооборота, интернет-магазин объявил, что отказывается от бумажных документов в поставках. Сегодня 99% поставщиков работают с Wildberries в электронном виде. Прием товара ускорился в пять раз. Удалось исключить ошибки в оформлении документов, сократить сроки их рассмотрения и подписания. О том, как поэтапно протекал проект, рассказывает Ираида Бакаева.
В прошлом все первичные документы: акты, накладные, счета-фактуры – ехали вместе с товаром. Часто в бумагах были ошибки из-за того, что в номенклатуре продавца были сотни позиций, а объемы и цены постоянно менялись. В итоге, когда документы попадали в нужные руки, сведения в них уже не соответствовали действительности. На исправление ошибок и новую отправку уходило много времени.
Если при приеме товара обнаруживался брак или недогруз, приходилось составлять и подписывать акт ТОРГ-2 на основании накладной ТОРГ-12. Акт отсылали поставщику, он подписывал его со своей стороны и формировал корректировочный счет-фактуру. Затем весь пакет документов с ТОРГ-2 снова отправлялся обратно.
Чтобы устранить эти проволочки, Wildberries нужно было решение, в котором можно было бы создавать, подписывать и отправлять поставщику первичные электронные документы и получать от него таким же образом пакет ответных бумаг. В 2015 году специалисты отделов продаж и взаиморасчетов начали работать с электронными документами. Далее стартовал проект по подключению к ЭДО контрагентов. Wildberries проводила вебинары, писала письма, а подключение как таковое взял на себя оператор ЭДО. В цифру были переведены все процессы по отправке, получению, исправлению и контролю возврата документов. К 2017 году счета-фактуры, акты сверки, накладные, договоры и неформализованные документы стали электронными. Все новые договоры с новыми поставщиками заключались уже в электронном виде. Чтобы дополнительно мотивировать поставщиков, Wildberries начала возмещать их расходы на ЭДО.
В 2019 году начался обмен электронными транспортными накладными (ЭтрН), при этом для работы активно используются мобильные решения. Теперь все данные о водителе, машине и продукции берутся напрямую из ЭТрН и заносятся в корпоративную систему. Водителям остается лишь подъехать к месту разгрузки в указанное время в порядке электронной очереди, камера при въезде на склад считает номер и откроет шлагбаум для водителя. Сейчас средняя продолжительность ожидания разгрузки машины поставщика составляет от 0 до 10 минут.
Документы первой свежести
Еще одна история успеха связана с торговой сетью «ВкусВилл», которая в 2019 году перешла на ЭДО. Сегодня 1200 точек сети уже работают с электронными документами. В частности, на проекте автоматизирован обмен транспортными накладными (ТрН). Каждый день магазины «ВкусВилл» оформляют сотни ТрН. Учитывая тот факт, что торговая сеть работает с продуктами категории «фреш», крайне важно, чтобы согласование и подписание документов не тормозило отгрузки и поставки. В рамках проекта по переходу на ЭДО была реализована интеграция учетной системы компании с сервисом Synerdocs. Это избавило бухгалтерию заказчика от бумажной волокиты и позволило оперативно отслеживать статус документооборота.
Терпение и труд
И все же первые шаги могут не давать быстрого эффекта, так что ЭДО – это долгосрочная инвестиция, которую надо тщательно просчитывать. Об этом говорит Владимир Андреев: «Основные сложности – в правильной организации процесса, так как он весьма небыстрый. Его необходимо тщательно планировать, и с самого первого шага иметь представление об экономике. Об этом часто забывают, и в результате не получают ожидаемого положительного эффекта».
Без чего невозможно задумываться о переходе на ЭДО? Это зависит от разных факторов: от объема документооборота с контрагентами, необходимости его оптимизации, требования контролирующих органов и фискальных рисков. «Если для обмена небольшим количеством документов будет достаточно услуг оператора ЭДО, то для сложных случаев потребуется тесная интеграция с информационной системой организации. Для каких-то процессов хватит интеграции учетной системы с оператором, для других необходимо иметь бесшовную интеграцию с корпоративной СЭД», – объясняет он. По мере увеличения степени автоматизации необходимо будет структурировать как процессы, так и документы, которые в них обрабатываются. В каждом конкретном случае необходимо смотреть на экономику инвестиций и определять оптимальные подходы к решению этой задачи.
Прежде чем переходить на ЭДО, необходимо четко сформулировать цели и задачи, которые должны быть достигнуты. «По моему опыту, если подходить к этой задаче бессистемно и непоследовательно, то проект может затянуться на долгие годы, а профит компания получит минимальный», – предупреждает Ираида Бакаева. По ее словам, чтобы такого не допустить, необходимо выделить рабочую группу, руководителя проекта, который будет вести и курировать процесс. Маршрутизация документов, корпоративная информационная система, архив, разграничение прав доступа – это все прекрасно, но без четкого понимания, что компания должна получить «на выходе», малоэффективно.
Кроме того, требуется провести анализ внутренней среды, а также своих поставщиков: понять, каких операторов ЭДО они уже используют. «Например, если 80% поставщиков работают с одним и тем же оператором, то, скорее всего, имеет смысл внедрять того же оператора, что и у большинства подрядчиков, – считает Дмитрий Смирнов. Провести аудит, определиться с решением и реализовать проект ритейлеру помогут ИТ-компании с соответствующим опытом. Как правило, проект начинается с пилота: в его рамках устраняются все выявленные недочеты, и «на рельсы» ставится определенная часть документооборота. Затем проект масштабируется.
На старт, внедрение, марш!
Когда мы говорим об ЭДО, мы прежде всего говорим о кросс-организационном безбумажном документообороте. И тут в любом случае не обойтись без оператора ЭДО, так как он необходим для перехода на безбумажные счета-фактуры. «В любом случае использование оператора приносит выгоды, – полагает Владимир Андреев. – А вот какая внутренняя система будет участвовать в этом процессе, зависит от конкретной организации и конкретного процесса. Взаимодействие с оператором может осуществляться напрямую из прикладной системы (CRM или ERP) или реализовываться через СЭД. Вариантов много, надо выбрать оптимальный с точки зрения стоимости реализации, сопровождения и экономического эффекта».
Кроме того, неплохо оптимизировать и внутренний документооборот в компании. Любой электронный документооборот – тот же документооборот, только автоматизированный с применением соответствующих информационных систем. Поэтому успешный переход имеет два основных драйвера: поставленные процессы документооборота в компании как такового и наличие систем автоматизации. «Перевод компании на ЭДО, как и любой другой проект, грамотнее всего начинать с внутреннего аудита, расчета объема документов, участвующих в бизнес-процессах, а также с определения источников входа документов», – советует Дмитрий Смирнов.
Если документооборот небольшой, то зачастую внедрять новый инструмент не имеет смысла. Помимо этого обязательно надо обдумать, какая корпоративная система станет центром хранения, согласования документов, а также их передачи в другие информационные системы. «CRM и ECM – это те системы, которые наверняка уже должны быть в современной компании, – говорит Алексей Пестерев. – Но есть и другая проблема, которую нужно решать некоторым компаниям сейчас, а кому-то в будущем: большой объем накопленных документов, которые тормозят текущие системы, усложняют процесс поиска документов, усложняют обслуживание системы. Все это решается созданием электронного архива документов, данные из которых благодаря этому вытесняются из ECM-, ERP-систем и ЭДО. При этом может поддерживаться ссылочная структура между архивом и ECM, ERP, есть инструменты быстрого поиска, распознавания документов и другие возможности систем долговременного хранения».
Обязательно ли соблюдать эту очередность: сначала наладить внутренний ЭДО, затем внешний? Или можно поменять приоритеты? Чаще всего компании при переходе на ЭДО действуют поступательно и налаживают сначала внутренний документооборот, а потом автоматизируют обмен документами на так называемом внешнем контуре. «С одной стороны, это логично, так как можно с самого начала внутри компании настроить необходимые маршруты согласования, регламент, разграничения прав доступа и архив в электронном виде. Уже погруженным в тематику ЭДО пользователям станет легче перейти на новый уровень – межкорпоративный обмен с контрагентами», – полагает Ираида Бакаева. Что будет, если пойти наперекор этому правилу? «В моей практике были компании, которые первостепенно рассматривали обмен с поставщиками/клиентами и только потом наводили порядок во внутренних процессах, – рассказывает она. – Причины такого решения могут быть различные: поступает множество запросов от контрагентов или кто-то из крупных клиентов активно склоняет к ЭДО. Некоторые компании считают, что проще начать с внешнего обмена электронными документами. Поэтому и идут от простого к сложному, так как изменение внутренних процессов для них – задача более трудоемкая».
Здесь нет одного правильного решения, все зависит от целей компании. В большинстве случаев в итоге все равно придется налаживать как внешний, так и внутренний документооборот. «Надо подумать как про внутреннюю автоматизацию безбумажного документооборота на базе СЭД, так и про средства интеграции СЭД и операторов ЭДО. При этом СЭД в данном случае мы «понимаем» не узко, как систему традиционного делопроизводства, а именно как комплексную СЭД/ECM-систему, которая может автоматизировать произвольные процессы с использованием инструментов быстрой разработки и возможностью создавать различные архивы, в частности, безбумажных документов», – рассказывает Владимир Андреев.
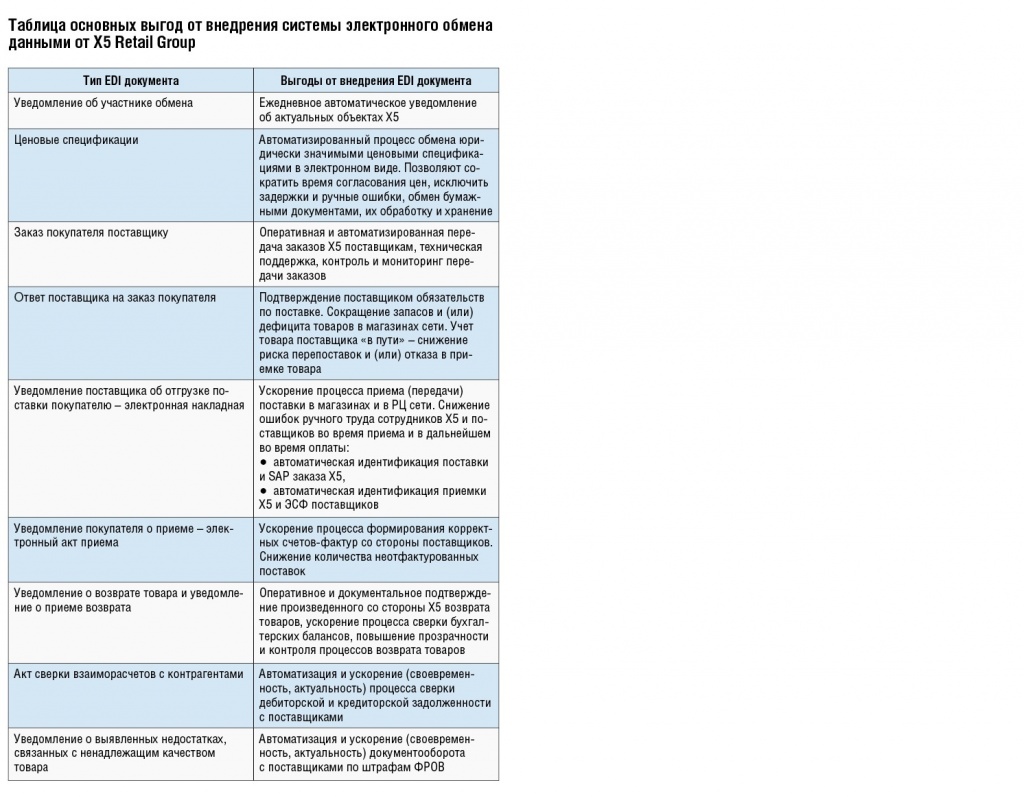
Что войдет в проект (внутренний или внешний ЭДО), решается исходя из аудита и ожидаемого эффекта, который должен принести проект. «Если компании сложно сделать такой выбор, то для этого есть профессиональный консалтинг. Такие задачи в КРОК мы тоже решаем, – уверяет Алексей Пестерев. – В том числе мы анализируем внутреннюю среду заказчика, участвуем в формировании карты проекта, технического задания, предложений по оптимизации бизнес-процессов, которые в том числе предстоит стандартизировать и унифицировать».
По его словам, классическая схема всегда простая. Сначала идут аудит внутренних процессов, проработка очередности этапов. Затем составляется техническое задание на проект или на конкретные этапы работ. Далее следуют выбор поставщика, реализация проекта. На последнем этапе делается анализ полученных результатов и старт нового проекта.
Чтобы перейти на ЭДО, нужно организовать рабочую группу. В ней должны быть все заинтересованные лица: бухгалтер, руководитель или директор, ИТ-специалист (для крупных компаний). «Далее ритейлу необходимо зафиксировать переход на ЭДО со своими поставщиками, то есть прописать это в договорах поставки или в соглашениях к действующим договорам. Выбрать оператора электронного документооборота, выбрать решение, которое не нарушит процессы и не приведет к смене учетной системы, а органично в нее впишется. Оборудовать склад сканерами или ТСД для приема товара», – советует Елена Апарина.
Если говорить об информационных системах, то на сегодняшний день у каждой сети или торговой точки уже есть какая-то учетная система, и ЭДО встраивается в эту систему: тогда не требуется устанавливать ничего дополнительно. «Например, большинство ритейлеров используют учетную систему 1С. ЭДО «Такском» интегрирован с 1С, поэтому, чтобы его применять, нужно просто активировать эту функциональность. Этот продукт называется «1С-Такском». Он подразумевает, что ЭДО будет работать непосредственно из учетной системы 1С клиента, – объясняет Елена Апарина. – Если учетная система 1С не обновляема и не может быть интегрирована с сервисом ЭДО, то тогда уже потребуется приобретать дополнительные решения, например, станцию сканирования (решение на платформе 1С). Она позволяет загружать документы и данные из своей учетной системы. Если в торговой точке не было учетной системы, можно использовать веб-решения и работать с электронными документами, не усложняя процессы».
Электронная подпись – также необходимый атрибут ЭДО, но если компания уже сдает отчетность в электронном виде, то она у нее есть. ЭП для отчетности подойдет и для работы с электронными документами. «При внедрении ЭДО надо определить сотрудников, уполномоченных на подписание УПД, и оформить на них электронную подпись. Также можно воспользоваться сервисом маршрутов, когда любой входящий документ будет направляться именно тому сотруднику, который уполномочен этот документ подписывать, например, бухгалтеру», – говорит Елена Апарина.
Две стороны одной медали
В заключение скажем несколько слов про EDI. Иногда о нем рассуждают так, что может показаться – это синоним ЭДО. Строго говоря, ЭДО и EDI – это две стороны одной медали. EDI – это, собственно, электронное сопровождение любой бизнес-транзакции между организациями, а ЭДО – это юридически значимый обмен безбумажными документами, сопровождающими эти транзакции. «То, что эти процессы реализуются двумя разными классами систем, в общем, является недоразумением, которых, впрочем, очень много в истории развития информационных технологий. Конечно, эти два класса систем будут сливаться в одну в ближайшем будущем. Но пока они служат разным целям. EDI – ускорению и сопровождению взаимодействия субъектов бизнеса при проведении бизнес-операций, а ЭДО – сокращению издержек на документооборот. Для разных задач может оказаться более важным тот или иной аспект, и именно с него будет начинаться автоматизация», – подчеркивает Владимир Андреев.
Разница также заключается в том, что не каждому бизнесу нужны оба компонента. ЭДО и EDI для классического продуктового ритейла уже становятся отраслевым стандартом. «Но если мы говорим о других сферах ритейла, то EDI не является обязательным инструментом. Например, автомобильный ритейл точно не требует EDI», – замечает Алексей Пестерев.
EDI является неотъемлемой частью в работе с поставщиками. EDI помогает сети получить именно то количество и тот ассортимент товара, который она заказывает, и производить дальнейшее планирование по товарному стоку, исходя из оборачиваемости товара на полке. «Но EDI не является обязательным, – подчеркивает Елена Апарина. – ЭДО же необходим всему ритейлу, если в его ассортимент входят товары, подлежащие обязательной маркировке».
ЭДО нужно четко разделять на юридически значимый (ЮЗЭДО) и на простой обмен электронными сообщениями единого формата, входящими в состав EDI. Такими сообщениями являются заказ, подтверждение заказа, ценовой лист, уведомление об отгрузке и другие. «В ритейле EDI применяется уже давно, около десяти лет, – рассказывает Елена Апарина, – но это не ЮЗЭДО». С определенного времени операторы стали включать ЮЗЭДО в состав предложений по EDI. Некоторые сети используют УПД (универсальный передаточный документ) как еще один документ в составе документооборота. Если компания перешла на ЭДО хотя бы по одной товарной группе, то есть смысл переходить на ЭДО со всеми поставщиками, так как разделять бумажный и электронный документооборот нецелесообразно и сложно.
Выбор партнера. Вопросы оператору ЭДО
● Предоставляет ли оператор EDI-сервис помимо ЭДО?
Какие документы уже сейчас возможно отправлять в сервисе помимо привычной первички, например, ТТН?
● Готов ли оператор ЭДО помочь в подключении поставщиков?
● С какими компаниями налажен процесс обмена через роуминг?
● Есть ли возможность самостоятельной настройки интеграции по API, есть набор готовых коннекторов к системам?
● Предусмотрена ли гибкая тарификация, особенно при больших объемах?
● Есть ли референсные клиенты в отрасли?
Список вопросов подготовила компания «КРОК»
Как ритейлеру выбрать оператора ЭДО?
● Обращайте внимание на наличие у оператора ЭДО успешных кейсов, относящихся к вашей отрасли.
● Экспертиза и опыт сотрудников оператора первостепенны. Компетентные сотрудники понимают болевые места компании-клиента и подбирают максимально удобные решения, позволяющие закрыть все открытые задачи.
● Нужно понимать, что перейти самим на ЭДО – это половина шага. Чтобы был профит, необходимо подключить как можно больше контрагентов. Поэтому в приоритете всегда будут операторы, предлагающие такую услугу, как подключение контрагентов.
● Наличие роуминга со всеми основными операторами ЭДО. Практика показывает, что у заказчика есть определенный пул поставщиков или клиентов, которые уже используют разных операторов.
● Квалифицированная и грамотная техническая поддержка. Обзвоните поддержку нескольких операторов и задайте какой-то один вопрос. Сравните работу поддержки по параметрам: как быстро взяли трубку, с какой скоростью обрабатывали запрос, насколько качественный вы получили ответ.
Советы давала Ираида Бакаева, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Synerdocs.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Бумаги больше не будет, мы переходим на электронный документооборот. Этому лозунгу даже не первый десяток лет. Но всерьез зашевелились недавно. Во время пандемии и карантина компании массово начали переходить на ЭДО – электронный документооборот.
[~PREVIEW_TEXT] => Бумаги больше не будет, мы переходим на электронный документооборот. Этому лозунгу даже не первый десяток лет. Но всерьез зашевелились недавно. Во время пандемии и карантина компании массово начали переходить на ЭДО – электронный документооборот. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5435 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:14:54 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 738 [WIDTH] => 1023 [FILE_SIZE] => 227335 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/e90 [FILE_NAME] => e901065d71ab4397ae7919e00cb44b53.jpg [ORIGINAL_NAME] => 82e7c892f38b0974fd6cb451d8ae5978.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 743847998957611fc1ed0403fbb8fdcc [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/e90/e901065d71ab4397ae7919e00cb44b53.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/e90/e901065d71ab4397ae7919e00cb44b53.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/e90/e901065d71ab4397ae7919e00cb44b53.jpg [ALT] => Эпоха ЭДО [TITLE] => Эпоха ЭДО ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5435 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => epokha-edo [~CODE] => epokha-edo [EXTERNAL_ID] => 6017 [~EXTERNAL_ID] => 6017 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 21.10.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Эпоха ЭДО [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Эпоха ЭДО [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Бумаги больше не будет, мы переходим на электронный документооборот. Этому лозунгу даже не первый десяток лет. Но всерьез зашевелились недавно. Во время пандемии и карантина компании массово начали переходить на ЭДО – электронный документооборот. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Эпоха ЭДО [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Эпоха ЭДО | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [6] => Array ( [ID] => 5883 [~ID] => 5883 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Очередь в сеть [~NAME] => Очередь в сеть [ACTIVE_FROM_X] => 2020-08-19 17:01:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2020-08-19 17:01:00 [ACTIVE_FROM] => 19.08.2020 17:01:00 [~ACTIVE_FROM] => 19.08.2020 17:01:00 [TIMESTAMP_X] => 19.08.2020 19:06:16 [~TIMESTAMP_X] => 19.08.2020 19:06:16 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/ochered-v-set/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/ochered-v-set/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реальность. Россияне в режиме самоизоляции пытались накормить и напоить свои семьи, не выходя по мере возможности из дома. Это было непросто, потому что на сайты стояли виртуальные очереди и зачастую проще было пойти в расчерченный полосатой лентой магазин «у дома». ИТ-вендоры тем временем разрабатывали «карантинные пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла.

Довольно сложно учиться, когда труба уже зовет на передовую. Вся индустрия продуктового ритейла испытала жестокие перегрузки. Тяжело вздохнули даже гиганты рынка. «Известно, что большинство крупных ритейлеров в первые месяц-полтора самоизоляции не справились с волной интернет-заказов. В полной мере не удалось обеспечить ни доступность ассортимента, ни доставку покупок. Это справедливо даже для тех из них, у кого уже были достаточно функциональные цифровые магазины, ориентированные на самовывоз, и незначительные масштабы заказов с доставкой. Ситуация постепенно выправилась к маю, но идеальной ее пока назвать трудно», – рассказывает Евгений Овчаров, директор по инновационным решениям компании Oberon.
«Гибкость и масштабируемость ИТ-экосистемы – вот основные проблемы, с которыми столкнулась продуктовая розница, на наш взгляд, – комментирует Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – Пандемия наглядно продемонстрировала, что устаревшие ИТ-системы себя практически изжили. Годами складывавшиеся ИТ-ландшафты ритейлеров сейчас стали «потолком» при их дальнейшем развитии. Такие системы тяжело поддаются доработкам. Например, подключение нового канала доставки не должно занимать недели или же для масштабирования нагрузки на интернет-магазин не нужно ждать поставки «железа» в течение месяца».
Раз мы живем по-новому, нужны новые инструменты. И они появились. Порой весьма странные и экзотические. Иногда больше похожие на подпорки для покосившегося забора. «Наибольшее удивление у меня вызвала виртуальная очередь для посещения сайта, – рассказывает Илья Аристов, менеджер по развитию бизнеса компании DataArt. – Онлайн-ритейлер не смог отмасштабировать сервис по доставке продуктов на дом и подключил себе на сайт виртуальную очередь. В итоге клиентам приходилось ждать своей очереди, чтобы просто попасть на сайт и получить возможность сделать заказ, а потом дожидаться еще и доставки».
Кризис, вызванный угрозой пандемии, показал, что дилемма инноватора «меняйся или умри» актуальна как никогда. В любой момент нужно быть готовым к изменениям в устоявшихся технологиях. А это не только ИТ-инструменты, но и процессы в целом. Закрытие традиционных магазинов повысило оборот в интернет-торговле. Об этом рассуждает Наталья Милехина, эксперт по бизнес-решениям компании Generix Group: «Хорошо, если у магазина или сети уже существовал свой интернет-магазин, а если нет? Тут есть отличный выход – маркетплейс. Маркетплейсы начали развиваться до угрозы пандемии, но именно сейчас они стали еще более востребованы и покупателями, и продавцами».
Но маркетплейс – это не столько ИТ-инструмент, сколько технология торговли. «Однако со стороны ИТ она поддерживается огромным набором программных решений, так как обороты штучных товаров, проходящих через маркетплейс, невозможно отслеживать вручную. Кроме сайта-витрины, который видят покупатели, маркетплейс использует разнообразные системы, поддерживающие внутренние процессы, такие как WMS, TMS, CRM, системы бухгалтерского учета и корпоративные учетные системы, а также системы взаимодействия с партнерами: процессинговые системы («банк-клиент»), личные кабинеты поставщиков, системы отслеживания и телематики. И это не полный перечень», – объясняет Наталья Милехина.
Некоторые ритейлеры мудро решили не метаться и развивать те решения, которые постепенно входили в их жизнь еще до пандемии. «Нужно отметить, что все к этому шло и раньше, но в условиях изоляции нужно было трансформироваться и осваивать новые площадки быстрее, – говорит Лина Стратулат, продакт-менеджер по аналитике компании DSSL. – Для решения этой задачи возникло большое количество мобильных приложений. Они предназначены как для внутреннего пользования, так и для потребителя».
ИТ для регулятора
Первый шторм стих, но ритейл пока не может прийти в себя. Новые проблемы на пороге, и имя им – проверки регуляторов. Роспотребнадзор сообщал о том, что с 1 мая сотрудники ведомства уже провели четыре тысячи проверок, чтобы узнать, не нарушают ли предприятия города Москвы противоэпидемический режим. Выяснилось, что нарушают, и больше всех – именно точки продуктовой розницы. Их доля составила 51% всех выявленных нарушителей.
Неизвестно, сколько еще будет проверок и закончатся ли карантинные мероприятия на одном локдауне. Возможно, нас ждет вторая и даже третья волна. Именно так рассудили компании, которые начали предлагать ритейлу совершенно новые ИТ-инструменты. Настолько новые, что, услышав о них в начале года, мы решили бы, что это шутка. Мерить температуру покупателям? Вы в своем уме? Следить, чтобы люди стояли на расстоянии 1,5 метра друг от друга? Зачем? Это что-то, связанное с терроризмом? Мы рассуждали бы примерно так, если бы случайно заглянули бы в ближайшее будущее и одним глазком прочитали заголовки новостей.
К сожалению, теперь не нужно никому объяснять, зачем именно нужны эти новые инструменты. «Во время пандемии стали востребованы решения, связанные с контролем социальной дистанции и бесконтактным измерением температуры с помощью тепловизоров, – рассказывает Сергей Болкисев, основатель компании Ainerics. – Мы адаптировали для этих целей модуль распознавания лиц в составе продукта автоматического управления доступом».
По его словам, в базу данных торговой сети заносятся фотографии всех сотрудников, обязанных находиться на карантине, заболевших или находящихся в зоне риска. Система видеоаналитики Ainerics распознает лица людей, попадающих в поле зрения камер видеонаблюдения, и выполняет поиск по этой базе. В случае обнаружения нарушителя система моментально отправляет уведомление ответственным сотрудникам.
«Наша компания подошла к карантинным решениям комплексно, – делится подробностями Лина Стратулат. – Комплекс включает в себя инструменты тепловизионного контроля, детекторы защитных масок и дистанции между людьми, модуль для подсчета людей, одновременно находящихся в помещении, а также услуги удаленного диспетчерского центра для отслеживания и фиксации инцидентов, предоставления отчетности о соблюдении всех норм и мер защиты.
Она рассказала, как это работает на практике. Так, модуль видеоаналитики детектирует в кадре лица людей и определяет наличие защитной маски. При обнаружении человека без индивидуальных средств защиты детектор генерирует тревожное событие и/или воспроизводит уведомление по громкой связи.

Следующий модуль предназначен для контроля дистанции между людьми в очередях, проходах и любых местах скопления людей. Нейросетевой детектор определяет точное расстояние между людьми в любом помещении или на улице. Это помогает контролировать соблюдение дистанции и навигационной разметки покупателями. При выявлении нарушений система выводит на экран монитора изображение с нарушителем и местом его нахождения, отправляет тревожное уведомление охранникам и ответственным сотрудникам и воспроизводит звуковое оповещение.
Это лучше, чем если магазин будет узнавать о скоплении людей на кассах из гневных постов в соцсетях, как это недавно случилось с «Леруа Мерлен». Кстати, возможно, о нем говорит Лина Стратулат, не называя имен: «К нам обратился очень крупный DIY-ритейлер с проблемой: после ослабления карантинных мер покупатели хлынули в магазин, и контролировать их количество в торговом зале было просто невозможно. Но, как мы понимаем, это очень важно для сдерживания распространения вируса. Для решения задачи мы усовершенствовали модуль подсчета объектов Trassir Neuro Counter».
По ее словам, новый функционал помогает вести подсчет посетителей в режиме реального времени, отображая информацию о количестве покупателей в магазине на мобильном телефоне / мониторе оператора, а также фиксировать тревожное событие, если покупателей в помещении торгового зала больше, чем позволяют правила. «После закрытия счетчики обнуляются, – добавляет Лина Стратулат. – Получая эту информацию в режиме реального времени, ответственные лица предпринимают необходимые действия. Например, перекрывают вход в магазин или торговый зал до того момента, когда количество людей в помещении вновь будет соответствовать установленным нормам.
Еще одно решение – это лицензия Trassir Thermal Camera, которая предназначена для подключения одной тепловизионной камеры. При детекции лица в кадре тепловизор присылает в Trassir данные о температуре обнаруженного лица и снимок человека. В системе задаются настройки порога температуры, при превышении которой генерируется тревожное событие. Программа позволяет настроить различные типы реакций при появлении в кадре человека с повышенной температурой, например, можно отправлять на почту снимки человека с данными о температуре. «Все эти меры помогают выполнять требования Роспотребнадзора, снижать риски заражения и исключать получение штрафов. Кроме того, использующие такие решения или весь комплекс мер компании проявляют свою социальную ответственность, что благоприятно сказывается на лояльности покупателей», – утверждает Лина Стратулат.
Хайп или вечные ценности?
Честно говоря, когда мы впервые услышали о новых инструментах, то возникло стойкое ощущение: мир пытается хайповать на горячих новостях. Чего мы только не видели! Имбирь по четыре тысячи за килограмм, «антивирусные» коробки с чесноком и лимоном по цене, сильно превышающей докарантинную, и прочие «антикризисные» меры. Почему бы ИТ-компаниям не сыграть в ту же игру?
Руслан Цечоев, руководитель веб-интегратора EVEN Lab, подтверждает наши подозрения: «По большей части это хайп. Дело в том, что сложные технические решения разрабатываются и внедряются долго. Сейчас ритейлу нужно проявлять максимальную гибкость, быстро перестраиваться, использовать готовые сервисы, но не начинать дорогостоящие проекты. Например, недавняя новость о тестировании магазинов без касс и продавцов «Азбукой вкуса» совместно со Сбербанком и «Визой» может показаться антикризисным решением. Но их проект – результат долгой работы, которая была начата до сообщений о коронавирусе».
Лина Стратулат не согласна и считает, что вопрос о хайпе даже поднимать не стоит: «Назвать данные решения однодневками или хайпом я не могу. Во-первых, мы не знаем, когда эпидемия завершится и завершится ли, все прогнозы очень противоречивые. Во-вторых, это не работа по принципу хайпа. Рынок сформировал запрос и проблему, ИТ-вендоры ответили ему своими решениями, и у каждой такой компании есть стремление принести пользу бизнесу и человеку. Это не обман или трюк, как при хайпе, а реакция на проблему, стоит разделять эти понятия». По ее мнению, количество запросов на противоэпидемиологические решения растет с каждым днем: «В нашей компании мы называем такие решения «карантинным пакетом» и стараемся максимизировать пользу, которую он может принести. При этом мы продумываем сценарии использования решения после завершения пандемии».
Как бы то ни было, очевидно, что решения для «бесконтактного измерения температуры» и «соблюдения социальной дистанции» сами по себе не обещают увеличить прибыль. «Сейчас, в фазе спада экономики, во время «затягивания поясов» тратить деньги на хайп даже крупный ритейл не станет, – размышляет Евгений Овчаров. – Другое дело, если говорить об обязательных мерах по измерению температуры и контроле социальной дистанции как условии работы магазина. Но при этом от регуляторов должны быть нещадные штрафы за нарушения. А это тоже маловероятно, ведь крупный ритейл – серьезные и социально значимые игроки рынка с собственным лобби, и так просто штрафами его не обложить».
«Если история с тепловизорами действительно вряд ли окажется востребованной после окончания карантина, то развернутая во время пандемии система видеоаналитики может быть эффективно использована и в дальнейшем, – резонно замечает Сергей Болкисев. – Тем более что сфера ее применения широка и, кстати, очень интересна». По его словам, помимо контроля доступа на предприятия это может быть контроль рабочего времени персонала и его нахождения на рабочем месте. Для магазинов примерами использования могут быть замеры пешеходного трафика (в том числе с демографическими характеристиками), контроль возникновения очередей, предотвращение внутренних злоупотреблений и краж, оповещение о «заблокированных» ранее за воровство покупателях.
«Мне кажется, что кризис только пробудит интерес к «умному видеонаблюдению» и консалтингу на основе полученных данных, – говорит Сергей Болкисев. – Остановка бизнеса на несколько месяцев обозначила слабые места, выявила потребность в правильном прогнозировании и ИТ-трансформации бизнес-процессов. Данные, которые видеоаналитика может дать бизнесу, имеют большую ценность, дают понимание о происходящем и создают прочный фундамент для будущего. Система поможет не совершить ошибку при открытии нового магазина, всегда знать в лицо любимых клиентов или усилить контроль безопасности».
Под защиту
«Безопасность» – вот слово, которое будет в центре внимания людей еще очень долго. По мнению Дмитрия Смирнова, совершенно ясно: ритейл уже не будет прежним. Поведенческие акценты покупателей еще больше сместятся в сторону сервиса, защищенности, снова произойдет перераспределение каналов коммуникации с клиентом. «Мы считаем, что ИТ сыграет очень важную роль в конкурентной борьбе ритейлеров за лояльность клиентов, а также будет влиять на эффективность бизнеса. Поэтому мы разработали антикризисный портфель специально для ритейлеров, – говорит он. – Именно цифровизация решает задачу адаптивности, актуальность которой получила новый виток в связи с коронакризисом. Тем не менее о принципиально новом ИТ-инструментарии речи не идет».
В первую очередь продуктовой рознице надо построить платформу, которая позволит взаимодействовать с клиентами: принимать заказы и оплаты. Во вторую очередь хорошо бы озаботиться безопасностью внутренних процессов компании, в которой сотрудники работают дистанционно: количество хакерских атак резко возросло, когда компании перевели сотрудников на удаленную работу. Подробностями делится Никита Цаплин, управляющий партнер RUVDS.com: «Необходимо обеспечить безопасность бухгалтерии, документооборота и личных данных покупателей. Если инфраструктура не защищена и не настроена с учетом атак, данные легко утекут в руки конкурентов. Нужно обратить внимание на SaaS-инструменты, которые работают на виртуальных серверах (VPS), – пока это самый безопасный и ненакладный способ защитить данные клиентов и компании».
В связи с угрозой повторения пандемии, возможно, будет некоторый всплеск интереса к роботизированным решениям, позволяющим создавать склады и производства с минимальным количеством сотрудников. Про это решение вспоминает Наталья Милехина: «С одной стороны, роботизированный склад снизит риски перерывов в работе в связи с массовыми заболеваниями, с другой – роботам не нужны средства индивидуальной защиты, а следовательно, можно избежать связанных с этим расходов».

Слабое звено
Подтянуть недостающие элементы ИТ-систем – вот что советуют все опрошенные нами эксперты. Но каждый смотрит на эти недостающие звенья со своей колокольни. По мнению Натальи Милехиной, розничной торговле потребуются развитые решения, которые могут быть быстро перенастроены для поддержки усложнившихся процессов. При угрозе пандемии важно сокращать личные контакты и проводить периодические дезинфекции. ИТ-решения должны позволять описывать такие действия при перемещении товара в цепи поставок и контролировать выполнение этих действий сотрудниками.
Все и всегда хотят сократить расходы, поэтому, как и прежде, популярностью пользуются сервисы автоматизации. «Мы видим интерес ритейлеров к нашему предложению, – рассказывает Ленар Рахматуллин, руководитель направления услуг «Сервис Деск» компании ICL Services. – Мы предложили услугу «Сервис Деска» с технологиями искусственного интеллекта. Не можем отнести ее к хайповой, так как услуга предоставлялась заказчикам и ранее, до периода пандемии. К слову, крупнейшими ее потребителями и прежде являлись ритейл и сети общественного питания, где достаточно широко применяются системы автоматизации».
По его словам, спрос на консультации по работе с клиентами через Интернет, чаты, звонки растет. Часто ритейлерам приходится обзванивать клиентов, подтверждать статусы заказа – это все мы можем автоматизировать. «Сервис Деск» с этим хорошо справляется. На текущий момент мы отмечаем рост запросов на чат-боты, обработку голосового обращения, когда на первой стадии включается робот и помогает отсортировать звонки, направить клиента к нужному специалисту», – поясняет Ленар Рахматуллин.
Он отмечает, что большинство обращений всегда связано со специфичными бизнес-процессами заказчика. «К примеру, ритейлеров, использующих кассовое оборудование, традиционно волнуют вопросы, связанные с чеками, работой онлайн-магазинов. Меньше половины заявок – это проблемы с учетными записями, предоставлением доступа, восстановлением паролей. В период самоизоляции из-за массового перехода на удаленную работу наблюдался всплеск запросов, когда пользователь начинает подключать системы на расстоянии, и ему нужно настроить собственные устройства, подключить принтер. Сейчас, когда все начали возвращаться в офисы, мы также ожидаем всплеска обращений из-за доступа к системам».
На крыльях доставки
Карантин дал толчок развитию онлайн-покупок и в продуктовом сегменте. В ближайшее время будут развиваться доставка «до двери» и в постаматы. При этом развитие онлайн-формата потребует более скоординированной работы логистики и цепи поставок, ИТ и контроля персонала. Подробностями делится Юлия Гаврилова, директор по продажам компании Sigfox: «Пандемия выявила неготовность логистической инфраструктуры многих компаний к массовым заказам на доставку «до двери». Мы часто слышим и читаем негативные отзывы о службе и качестве доставке крупных онлайн-ритейлеров, когда товар задерживается, приходит не полностью укомплектованным, когда товар не приходит совсем, но при этом есть отметка о его доставке».
Как полагает Юлия Гаврилова, в решении этих проблем могут помочь инструменты Интернета вещей (internet of things – IoT). Так, с помощью датчиков движения клиенты могут в приложении отслеживать перемещение курьеров и точно знать, когда курьер выехал и примерно через какое время доставит заказ, общаться с курьером непосредственно в чате приложения. Для компаний это возможность не только отслеживать курьеров, но также анализировать полученные данные и составлять оптимальные маршруты и время.
Доставка любого продукта – на данный момент популярный и востребованный бизнес. Функционирование такого бизнеса предполагает очень сильную проработку ИТ-инструментария. «Как правило, он включает в себя интернет-магазин, мобильное приложение, приложение для сборщиков, приложение для доставщиков, интеграцию с внутренними системами магазинов, систему для управления дарксторами, – перечисляет Андрей Минин, генеральный директор digital-агентства aim. – При этом каждая фудтех-компания старается внедрять свою инновацию в этот процесс для результативной автоматизации и сокращения издержек».
В России «Яндексу» удалось быстро перестроить сервис «Яндекс.Такси» для доставки из магазинов. В США взлетел DoorDash – сервис доставки еды, работающий по принципу BlaBlaCar: водитель доставляет заказы по пути домой. «Все, что связано с быстрой доставкой, будет развиваться. Но, например, для доставки дронами еще рановато. Попытки использования дронов – это рекламные акции, и в ближайшие лет пять таковыми и останутся», – скептично замечает Руслан Цечоев.
Евгений Овчаров полагает, что сервис доставки будет активно развиваться и дальше: «Вот статистика от «Яндекс.Кассы»: в апреле заказов продуктов с доставкой на 85% больше, чем в марте. И ожидается, что в мае рост достигнет 100%. Конечно, никто не прогнозирует двукратного роста от месяца к месяцу в дальнейшем, но что восходящее направление тренда с нами до конца года и дальше – сомнений не вызывает».
Покупательная способность россиян упала, а значит, обострилась конкуренция и появилась потребность снижать расходы. На таком фоне ритейл сосредоточится не на инновациях, а на оптимизации, в первую очередь логистической. По словам Руслана Цечоева, производители будут искать новые формы сотрудничества с ритейлом. Таким образом, будет расти потребность в услугах интеграции информационных систем ритейлера со службами доставки и с системами производителей и поставщиков.
Не до жиру
Несмотря на все рассуждения, порой кажется, что ритейл в ближайшее время вообще не станет смотреть на ИТ-инструменты. Слишком много пробоин возникло в корабле. Нужно затыкать дыры, экономить. «Действительно, порой на наши предложения по внедрению автоматизации мы слышим от ритейлеров, что для них целесообразнее потратить бюджет на еще одну торговую точку, которая сразу начнет приносить доход, – соглашается с нашими рассуждениями Дмитрий Смирнов. – Однако пандемия очень хорошо показала неэффективность многих бизнес-процессов. А эффективность мало где может быть достигнута без автоматизации. Поэтому мы уверены, что в ближайшее время ИТ-инструменты станут еще больше востребованы в этой сфере».
Заметим: относительно безболезненно, а то и с выгодой, пандемию перенесли компании, чья ИТ-экосистема позволяла быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию: поменять ассортимент и прогноз спроса, видоизменить логистику, сайт.
Культурное влияние
За какой инструмент хвататься ритейлеру – ответ на этот вопрос будет сильно зависеть от его стратегии развития. «Если вы спросите об этом ритейлеров, то мнения будут очень отличаться, – считает Лина Стратулат. – Одни совершенно не готовы к выходу в онлайн и направляют силы на поддержание продаж в торговых точках, автоматизацию процессов. Другие будут развивать и доводить до совершенства доставку, кто-то будет активно использовать вендинговые аппараты. А вот в успешность и окупаемость магазина без продавцов в России лично я верю мало. Мировой опыт показывает нерадужную картину, кроме того, есть высокие социопсихологические барьеры».
Фокус на инструментах опасен, поскольку не позволяет их эффективно применять для решения задач бизнеса. Все инструменты необходимо поместить в контекст бизнеса. Помимо инструментов нужны методология цифровизации, политики по работе с информацией, специалисты с современными компетенциями, а также совершенно новая культура работы с информацией. Об этом подробно говорит Александр Черкавский, методолог по решениям в области управления данными компании «Витте Консалтинг», эксперт по цифровой экономике РАНХиГС: «Критическим фактором успеха во время и после пандемии станет наличие подготовленных сотрудников, из которых можно сформировать команду цифровизации. Уже эта команда будет достигать поставленных целей. Я бы предложил подготовить план обучения сотрудников, оценку уровня зрелости цифрового развития, разработку концепции и стратегии цифровизации, а также методики цифровизации. Причем все перечисленные мероприятия обычно выполняются с участием не только консультантов-методологов, но обученных сотрудников организации. В жизни это приводит к тому, что топ-менеджмент организации прекрасно понимает, во что он вкладывает деньги при цифровизации, что именно и каким образом спрашивать с исполнителей в ходе реализации программы».
По его мнению, следует также учитывать, что ИТ напрямую не связаны с цифровизацией. Цифровизация – это про создание ценности для организации, для этого новые информационные технологии могут и не понадобиться. Если же организация сфокусируется исключительно на снижении издержек, то новые ИТ не будут востребованы, и проекты развития будут приостановлены. Сейчас на рынке уже так и происходит. В ходе недавнего мониторинга российского рынка выявлен низкий уровень зрелости цифрового развития из-за фокуса на хайповых технологиях и технических вопросах. «В организациях есть программное обеспечение, аппаратное обеспечение, – говорит Александр Черкавский. – А методологического обеспечения и информационных менеджеров нет. Бизнес не понимает, как данные связаны с успешностью организации. Поэтому во всех организациях существуют проблемы с целеполаганием для цифровизации, с оценкой соответствующих инвестиционных проектов и с исполнением».
«Я бы рекомендовал начать с культуры компании, понимания, как изменять или адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям, – поддерживает ход мысли Александра Илья Аристов. – Мне очень понравилось, как сеть магазинов «ВкусВилл» решила задачу доставки во время пандемии. У них до этого момента была доставка по Москве (я живу в Питере), в мобильном приложении покупателя можно было посмотреть остатки по магазину, заказать онлайн и забрать самому. Добавив к этому функционалу доставку от «Яндекс.Такси», они быстро решили задачу онлайн-доставки, сделали ее в тот же день, что остальные сервисы по доставке продуктов не всегда могут предложить (кроме «Самоката», конечно же). Или, например, сеть «Буше» – не думаю, что они так бы легко смогли выйти в онлайн, если бы не их корпоративная культура. ИТ тоже важны, но они играют поддерживающую роль. Ну и на внедрение чего-то нового нужны инвестиции и время, не уверен, что сейчас компании будут готовы к запуску больших проектов, если появится риск второй волны».
[~DETAIL_TEXT] =>
Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реальность. Россияне в режиме самоизоляции пытались накормить и напоить свои семьи, не выходя по мере возможности из дома. Это было непросто, потому что на сайты стояли виртуальные очереди и зачастую проще было пойти в расчерченный полосатой лентой магазин «у дома». ИТ-вендоры тем временем разрабатывали «карантинные пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла.

Довольно сложно учиться, когда труба уже зовет на передовую. Вся индустрия продуктового ритейла испытала жестокие перегрузки. Тяжело вздохнули даже гиганты рынка. «Известно, что большинство крупных ритейлеров в первые месяц-полтора самоизоляции не справились с волной интернет-заказов. В полной мере не удалось обеспечить ни доступность ассортимента, ни доставку покупок. Это справедливо даже для тех из них, у кого уже были достаточно функциональные цифровые магазины, ориентированные на самовывоз, и незначительные масштабы заказов с доставкой. Ситуация постепенно выправилась к маю, но идеальной ее пока назвать трудно», – рассказывает Евгений Овчаров, директор по инновационным решениям компании Oberon.
«Гибкость и масштабируемость ИТ-экосистемы – вот основные проблемы, с которыми столкнулась продуктовая розница, на наш взгляд, – комментирует Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – Пандемия наглядно продемонстрировала, что устаревшие ИТ-системы себя практически изжили. Годами складывавшиеся ИТ-ландшафты ритейлеров сейчас стали «потолком» при их дальнейшем развитии. Такие системы тяжело поддаются доработкам. Например, подключение нового канала доставки не должно занимать недели или же для масштабирования нагрузки на интернет-магазин не нужно ждать поставки «железа» в течение месяца».
Раз мы живем по-новому, нужны новые инструменты. И они появились. Порой весьма странные и экзотические. Иногда больше похожие на подпорки для покосившегося забора. «Наибольшее удивление у меня вызвала виртуальная очередь для посещения сайта, – рассказывает Илья Аристов, менеджер по развитию бизнеса компании DataArt. – Онлайн-ритейлер не смог отмасштабировать сервис по доставке продуктов на дом и подключил себе на сайт виртуальную очередь. В итоге клиентам приходилось ждать своей очереди, чтобы просто попасть на сайт и получить возможность сделать заказ, а потом дожидаться еще и доставки».
Кризис, вызванный угрозой пандемии, показал, что дилемма инноватора «меняйся или умри» актуальна как никогда. В любой момент нужно быть готовым к изменениям в устоявшихся технологиях. А это не только ИТ-инструменты, но и процессы в целом. Закрытие традиционных магазинов повысило оборот в интернет-торговле. Об этом рассуждает Наталья Милехина, эксперт по бизнес-решениям компании Generix Group: «Хорошо, если у магазина или сети уже существовал свой интернет-магазин, а если нет? Тут есть отличный выход – маркетплейс. Маркетплейсы начали развиваться до угрозы пандемии, но именно сейчас они стали еще более востребованы и покупателями, и продавцами».
Но маркетплейс – это не столько ИТ-инструмент, сколько технология торговли. «Однако со стороны ИТ она поддерживается огромным набором программных решений, так как обороты штучных товаров, проходящих через маркетплейс, невозможно отслеживать вручную. Кроме сайта-витрины, который видят покупатели, маркетплейс использует разнообразные системы, поддерживающие внутренние процессы, такие как WMS, TMS, CRM, системы бухгалтерского учета и корпоративные учетные системы, а также системы взаимодействия с партнерами: процессинговые системы («банк-клиент»), личные кабинеты поставщиков, системы отслеживания и телематики. И это не полный перечень», – объясняет Наталья Милехина.
Некоторые ритейлеры мудро решили не метаться и развивать те решения, которые постепенно входили в их жизнь еще до пандемии. «Нужно отметить, что все к этому шло и раньше, но в условиях изоляции нужно было трансформироваться и осваивать новые площадки быстрее, – говорит Лина Стратулат, продакт-менеджер по аналитике компании DSSL. – Для решения этой задачи возникло большое количество мобильных приложений. Они предназначены как для внутреннего пользования, так и для потребителя».
ИТ для регулятора
Первый шторм стих, но ритейл пока не может прийти в себя. Новые проблемы на пороге, и имя им – проверки регуляторов. Роспотребнадзор сообщал о том, что с 1 мая сотрудники ведомства уже провели четыре тысячи проверок, чтобы узнать, не нарушают ли предприятия города Москвы противоэпидемический режим. Выяснилось, что нарушают, и больше всех – именно точки продуктовой розницы. Их доля составила 51% всех выявленных нарушителей.
Неизвестно, сколько еще будет проверок и закончатся ли карантинные мероприятия на одном локдауне. Возможно, нас ждет вторая и даже третья волна. Именно так рассудили компании, которые начали предлагать ритейлу совершенно новые ИТ-инструменты. Настолько новые, что, услышав о них в начале года, мы решили бы, что это шутка. Мерить температуру покупателям? Вы в своем уме? Следить, чтобы люди стояли на расстоянии 1,5 метра друг от друга? Зачем? Это что-то, связанное с терроризмом? Мы рассуждали бы примерно так, если бы случайно заглянули бы в ближайшее будущее и одним глазком прочитали заголовки новостей.
К сожалению, теперь не нужно никому объяснять, зачем именно нужны эти новые инструменты. «Во время пандемии стали востребованы решения, связанные с контролем социальной дистанции и бесконтактным измерением температуры с помощью тепловизоров, – рассказывает Сергей Болкисев, основатель компании Ainerics. – Мы адаптировали для этих целей модуль распознавания лиц в составе продукта автоматического управления доступом».
По его словам, в базу данных торговой сети заносятся фотографии всех сотрудников, обязанных находиться на карантине, заболевших или находящихся в зоне риска. Система видеоаналитики Ainerics распознает лица людей, попадающих в поле зрения камер видеонаблюдения, и выполняет поиск по этой базе. В случае обнаружения нарушителя система моментально отправляет уведомление ответственным сотрудникам.
«Наша компания подошла к карантинным решениям комплексно, – делится подробностями Лина Стратулат. – Комплекс включает в себя инструменты тепловизионного контроля, детекторы защитных масок и дистанции между людьми, модуль для подсчета людей, одновременно находящихся в помещении, а также услуги удаленного диспетчерского центра для отслеживания и фиксации инцидентов, предоставления отчетности о соблюдении всех норм и мер защиты.
Она рассказала, как это работает на практике. Так, модуль видеоаналитики детектирует в кадре лица людей и определяет наличие защитной маски. При обнаружении человека без индивидуальных средств защиты детектор генерирует тревожное событие и/или воспроизводит уведомление по громкой связи.

Следующий модуль предназначен для контроля дистанции между людьми в очередях, проходах и любых местах скопления людей. Нейросетевой детектор определяет точное расстояние между людьми в любом помещении или на улице. Это помогает контролировать соблюдение дистанции и навигационной разметки покупателями. При выявлении нарушений система выводит на экран монитора изображение с нарушителем и местом его нахождения, отправляет тревожное уведомление охранникам и ответственным сотрудникам и воспроизводит звуковое оповещение.
Это лучше, чем если магазин будет узнавать о скоплении людей на кассах из гневных постов в соцсетях, как это недавно случилось с «Леруа Мерлен». Кстати, возможно, о нем говорит Лина Стратулат, не называя имен: «К нам обратился очень крупный DIY-ритейлер с проблемой: после ослабления карантинных мер покупатели хлынули в магазин, и контролировать их количество в торговом зале было просто невозможно. Но, как мы понимаем, это очень важно для сдерживания распространения вируса. Для решения задачи мы усовершенствовали модуль подсчета объектов Trassir Neuro Counter».
По ее словам, новый функционал помогает вести подсчет посетителей в режиме реального времени, отображая информацию о количестве покупателей в магазине на мобильном телефоне / мониторе оператора, а также фиксировать тревожное событие, если покупателей в помещении торгового зала больше, чем позволяют правила. «После закрытия счетчики обнуляются, – добавляет Лина Стратулат. – Получая эту информацию в режиме реального времени, ответственные лица предпринимают необходимые действия. Например, перекрывают вход в магазин или торговый зал до того момента, когда количество людей в помещении вновь будет соответствовать установленным нормам.
Еще одно решение – это лицензия Trassir Thermal Camera, которая предназначена для подключения одной тепловизионной камеры. При детекции лица в кадре тепловизор присылает в Trassir данные о температуре обнаруженного лица и снимок человека. В системе задаются настройки порога температуры, при превышении которой генерируется тревожное событие. Программа позволяет настроить различные типы реакций при появлении в кадре человека с повышенной температурой, например, можно отправлять на почту снимки человека с данными о температуре. «Все эти меры помогают выполнять требования Роспотребнадзора, снижать риски заражения и исключать получение штрафов. Кроме того, использующие такие решения или весь комплекс мер компании проявляют свою социальную ответственность, что благоприятно сказывается на лояльности покупателей», – утверждает Лина Стратулат.
Хайп или вечные ценности?
Честно говоря, когда мы впервые услышали о новых инструментах, то возникло стойкое ощущение: мир пытается хайповать на горячих новостях. Чего мы только не видели! Имбирь по четыре тысячи за килограмм, «антивирусные» коробки с чесноком и лимоном по цене, сильно превышающей докарантинную, и прочие «антикризисные» меры. Почему бы ИТ-компаниям не сыграть в ту же игру?
Руслан Цечоев, руководитель веб-интегратора EVEN Lab, подтверждает наши подозрения: «По большей части это хайп. Дело в том, что сложные технические решения разрабатываются и внедряются долго. Сейчас ритейлу нужно проявлять максимальную гибкость, быстро перестраиваться, использовать готовые сервисы, но не начинать дорогостоящие проекты. Например, недавняя новость о тестировании магазинов без касс и продавцов «Азбукой вкуса» совместно со Сбербанком и «Визой» может показаться антикризисным решением. Но их проект – результат долгой работы, которая была начата до сообщений о коронавирусе».
Лина Стратулат не согласна и считает, что вопрос о хайпе даже поднимать не стоит: «Назвать данные решения однодневками или хайпом я не могу. Во-первых, мы не знаем, когда эпидемия завершится и завершится ли, все прогнозы очень противоречивые. Во-вторых, это не работа по принципу хайпа. Рынок сформировал запрос и проблему, ИТ-вендоры ответили ему своими решениями, и у каждой такой компании есть стремление принести пользу бизнесу и человеку. Это не обман или трюк, как при хайпе, а реакция на проблему, стоит разделять эти понятия». По ее мнению, количество запросов на противоэпидемиологические решения растет с каждым днем: «В нашей компании мы называем такие решения «карантинным пакетом» и стараемся максимизировать пользу, которую он может принести. При этом мы продумываем сценарии использования решения после завершения пандемии».
Как бы то ни было, очевидно, что решения для «бесконтактного измерения температуры» и «соблюдения социальной дистанции» сами по себе не обещают увеличить прибыль. «Сейчас, в фазе спада экономики, во время «затягивания поясов» тратить деньги на хайп даже крупный ритейл не станет, – размышляет Евгений Овчаров. – Другое дело, если говорить об обязательных мерах по измерению температуры и контроле социальной дистанции как условии работы магазина. Но при этом от регуляторов должны быть нещадные штрафы за нарушения. А это тоже маловероятно, ведь крупный ритейл – серьезные и социально значимые игроки рынка с собственным лобби, и так просто штрафами его не обложить».
«Если история с тепловизорами действительно вряд ли окажется востребованной после окончания карантина, то развернутая во время пандемии система видеоаналитики может быть эффективно использована и в дальнейшем, – резонно замечает Сергей Болкисев. – Тем более что сфера ее применения широка и, кстати, очень интересна». По его словам, помимо контроля доступа на предприятия это может быть контроль рабочего времени персонала и его нахождения на рабочем месте. Для магазинов примерами использования могут быть замеры пешеходного трафика (в том числе с демографическими характеристиками), контроль возникновения очередей, предотвращение внутренних злоупотреблений и краж, оповещение о «заблокированных» ранее за воровство покупателях.
«Мне кажется, что кризис только пробудит интерес к «умному видеонаблюдению» и консалтингу на основе полученных данных, – говорит Сергей Болкисев. – Остановка бизнеса на несколько месяцев обозначила слабые места, выявила потребность в правильном прогнозировании и ИТ-трансформации бизнес-процессов. Данные, которые видеоаналитика может дать бизнесу, имеют большую ценность, дают понимание о происходящем и создают прочный фундамент для будущего. Система поможет не совершить ошибку при открытии нового магазина, всегда знать в лицо любимых клиентов или усилить контроль безопасности».
Под защиту
«Безопасность» – вот слово, которое будет в центре внимания людей еще очень долго. По мнению Дмитрия Смирнова, совершенно ясно: ритейл уже не будет прежним. Поведенческие акценты покупателей еще больше сместятся в сторону сервиса, защищенности, снова произойдет перераспределение каналов коммуникации с клиентом. «Мы считаем, что ИТ сыграет очень важную роль в конкурентной борьбе ритейлеров за лояльность клиентов, а также будет влиять на эффективность бизнеса. Поэтому мы разработали антикризисный портфель специально для ритейлеров, – говорит он. – Именно цифровизация решает задачу адаптивности, актуальность которой получила новый виток в связи с коронакризисом. Тем не менее о принципиально новом ИТ-инструментарии речи не идет».
В первую очередь продуктовой рознице надо построить платформу, которая позволит взаимодействовать с клиентами: принимать заказы и оплаты. Во вторую очередь хорошо бы озаботиться безопасностью внутренних процессов компании, в которой сотрудники работают дистанционно: количество хакерских атак резко возросло, когда компании перевели сотрудников на удаленную работу. Подробностями делится Никита Цаплин, управляющий партнер RUVDS.com: «Необходимо обеспечить безопасность бухгалтерии, документооборота и личных данных покупателей. Если инфраструктура не защищена и не настроена с учетом атак, данные легко утекут в руки конкурентов. Нужно обратить внимание на SaaS-инструменты, которые работают на виртуальных серверах (VPS), – пока это самый безопасный и ненакладный способ защитить данные клиентов и компании».
В связи с угрозой повторения пандемии, возможно, будет некоторый всплеск интереса к роботизированным решениям, позволяющим создавать склады и производства с минимальным количеством сотрудников. Про это решение вспоминает Наталья Милехина: «С одной стороны, роботизированный склад снизит риски перерывов в работе в связи с массовыми заболеваниями, с другой – роботам не нужны средства индивидуальной защиты, а следовательно, можно избежать связанных с этим расходов».

Слабое звено
Подтянуть недостающие элементы ИТ-систем – вот что советуют все опрошенные нами эксперты. Но каждый смотрит на эти недостающие звенья со своей колокольни. По мнению Натальи Милехиной, розничной торговле потребуются развитые решения, которые могут быть быстро перенастроены для поддержки усложнившихся процессов. При угрозе пандемии важно сокращать личные контакты и проводить периодические дезинфекции. ИТ-решения должны позволять описывать такие действия при перемещении товара в цепи поставок и контролировать выполнение этих действий сотрудниками.
Все и всегда хотят сократить расходы, поэтому, как и прежде, популярностью пользуются сервисы автоматизации. «Мы видим интерес ритейлеров к нашему предложению, – рассказывает Ленар Рахматуллин, руководитель направления услуг «Сервис Деск» компании ICL Services. – Мы предложили услугу «Сервис Деска» с технологиями искусственного интеллекта. Не можем отнести ее к хайповой, так как услуга предоставлялась заказчикам и ранее, до периода пандемии. К слову, крупнейшими ее потребителями и прежде являлись ритейл и сети общественного питания, где достаточно широко применяются системы автоматизации».
По его словам, спрос на консультации по работе с клиентами через Интернет, чаты, звонки растет. Часто ритейлерам приходится обзванивать клиентов, подтверждать статусы заказа – это все мы можем автоматизировать. «Сервис Деск» с этим хорошо справляется. На текущий момент мы отмечаем рост запросов на чат-боты, обработку голосового обращения, когда на первой стадии включается робот и помогает отсортировать звонки, направить клиента к нужному специалисту», – поясняет Ленар Рахматуллин.
Он отмечает, что большинство обращений всегда связано со специфичными бизнес-процессами заказчика. «К примеру, ритейлеров, использующих кассовое оборудование, традиционно волнуют вопросы, связанные с чеками, работой онлайн-магазинов. Меньше половины заявок – это проблемы с учетными записями, предоставлением доступа, восстановлением паролей. В период самоизоляции из-за массового перехода на удаленную работу наблюдался всплеск запросов, когда пользователь начинает подключать системы на расстоянии, и ему нужно настроить собственные устройства, подключить принтер. Сейчас, когда все начали возвращаться в офисы, мы также ожидаем всплеска обращений из-за доступа к системам».
На крыльях доставки
Карантин дал толчок развитию онлайн-покупок и в продуктовом сегменте. В ближайшее время будут развиваться доставка «до двери» и в постаматы. При этом развитие онлайн-формата потребует более скоординированной работы логистики и цепи поставок, ИТ и контроля персонала. Подробностями делится Юлия Гаврилова, директор по продажам компании Sigfox: «Пандемия выявила неготовность логистической инфраструктуры многих компаний к массовым заказам на доставку «до двери». Мы часто слышим и читаем негативные отзывы о службе и качестве доставке крупных онлайн-ритейлеров, когда товар задерживается, приходит не полностью укомплектованным, когда товар не приходит совсем, но при этом есть отметка о его доставке».
Как полагает Юлия Гаврилова, в решении этих проблем могут помочь инструменты Интернета вещей (internet of things – IoT). Так, с помощью датчиков движения клиенты могут в приложении отслеживать перемещение курьеров и точно знать, когда курьер выехал и примерно через какое время доставит заказ, общаться с курьером непосредственно в чате приложения. Для компаний это возможность не только отслеживать курьеров, но также анализировать полученные данные и составлять оптимальные маршруты и время.
Доставка любого продукта – на данный момент популярный и востребованный бизнес. Функционирование такого бизнеса предполагает очень сильную проработку ИТ-инструментария. «Как правило, он включает в себя интернет-магазин, мобильное приложение, приложение для сборщиков, приложение для доставщиков, интеграцию с внутренними системами магазинов, систему для управления дарксторами, – перечисляет Андрей Минин, генеральный директор digital-агентства aim. – При этом каждая фудтех-компания старается внедрять свою инновацию в этот процесс для результативной автоматизации и сокращения издержек».
В России «Яндексу» удалось быстро перестроить сервис «Яндекс.Такси» для доставки из магазинов. В США взлетел DoorDash – сервис доставки еды, работающий по принципу BlaBlaCar: водитель доставляет заказы по пути домой. «Все, что связано с быстрой доставкой, будет развиваться. Но, например, для доставки дронами еще рановато. Попытки использования дронов – это рекламные акции, и в ближайшие лет пять таковыми и останутся», – скептично замечает Руслан Цечоев.
Евгений Овчаров полагает, что сервис доставки будет активно развиваться и дальше: «Вот статистика от «Яндекс.Кассы»: в апреле заказов продуктов с доставкой на 85% больше, чем в марте. И ожидается, что в мае рост достигнет 100%. Конечно, никто не прогнозирует двукратного роста от месяца к месяцу в дальнейшем, но что восходящее направление тренда с нами до конца года и дальше – сомнений не вызывает».
Покупательная способность россиян упала, а значит, обострилась конкуренция и появилась потребность снижать расходы. На таком фоне ритейл сосредоточится не на инновациях, а на оптимизации, в первую очередь логистической. По словам Руслана Цечоева, производители будут искать новые формы сотрудничества с ритейлом. Таким образом, будет расти потребность в услугах интеграции информационных систем ритейлера со службами доставки и с системами производителей и поставщиков.
Не до жиру
Несмотря на все рассуждения, порой кажется, что ритейл в ближайшее время вообще не станет смотреть на ИТ-инструменты. Слишком много пробоин возникло в корабле. Нужно затыкать дыры, экономить. «Действительно, порой на наши предложения по внедрению автоматизации мы слышим от ритейлеров, что для них целесообразнее потратить бюджет на еще одну торговую точку, которая сразу начнет приносить доход, – соглашается с нашими рассуждениями Дмитрий Смирнов. – Однако пандемия очень хорошо показала неэффективность многих бизнес-процессов. А эффективность мало где может быть достигнута без автоматизации. Поэтому мы уверены, что в ближайшее время ИТ-инструменты станут еще больше востребованы в этой сфере».
Заметим: относительно безболезненно, а то и с выгодой, пандемию перенесли компании, чья ИТ-экосистема позволяла быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию: поменять ассортимент и прогноз спроса, видоизменить логистику, сайт.
Культурное влияние
За какой инструмент хвататься ритейлеру – ответ на этот вопрос будет сильно зависеть от его стратегии развития. «Если вы спросите об этом ритейлеров, то мнения будут очень отличаться, – считает Лина Стратулат. – Одни совершенно не готовы к выходу в онлайн и направляют силы на поддержание продаж в торговых точках, автоматизацию процессов. Другие будут развивать и доводить до совершенства доставку, кто-то будет активно использовать вендинговые аппараты. А вот в успешность и окупаемость магазина без продавцов в России лично я верю мало. Мировой опыт показывает нерадужную картину, кроме того, есть высокие социопсихологические барьеры».
Фокус на инструментах опасен, поскольку не позволяет их эффективно применять для решения задач бизнеса. Все инструменты необходимо поместить в контекст бизнеса. Помимо инструментов нужны методология цифровизации, политики по работе с информацией, специалисты с современными компетенциями, а также совершенно новая культура работы с информацией. Об этом подробно говорит Александр Черкавский, методолог по решениям в области управления данными компании «Витте Консалтинг», эксперт по цифровой экономике РАНХиГС: «Критическим фактором успеха во время и после пандемии станет наличие подготовленных сотрудников, из которых можно сформировать команду цифровизации. Уже эта команда будет достигать поставленных целей. Я бы предложил подготовить план обучения сотрудников, оценку уровня зрелости цифрового развития, разработку концепции и стратегии цифровизации, а также методики цифровизации. Причем все перечисленные мероприятия обычно выполняются с участием не только консультантов-методологов, но обученных сотрудников организации. В жизни это приводит к тому, что топ-менеджмент организации прекрасно понимает, во что он вкладывает деньги при цифровизации, что именно и каким образом спрашивать с исполнителей в ходе реализации программы».
По его мнению, следует также учитывать, что ИТ напрямую не связаны с цифровизацией. Цифровизация – это про создание ценности для организации, для этого новые информационные технологии могут и не понадобиться. Если же организация сфокусируется исключительно на снижении издержек, то новые ИТ не будут востребованы, и проекты развития будут приостановлены. Сейчас на рынке уже так и происходит. В ходе недавнего мониторинга российского рынка выявлен низкий уровень зрелости цифрового развития из-за фокуса на хайповых технологиях и технических вопросах. «В организациях есть программное обеспечение, аппаратное обеспечение, – говорит Александр Черкавский. – А методологического обеспечения и информационных менеджеров нет. Бизнес не понимает, как данные связаны с успешностью организации. Поэтому во всех организациях существуют проблемы с целеполаганием для цифровизации, с оценкой соответствующих инвестиционных проектов и с исполнением».
«Я бы рекомендовал начать с культуры компании, понимания, как изменять или адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям, – поддерживает ход мысли Александра Илья Аристов. – Мне очень понравилось, как сеть магазинов «ВкусВилл» решила задачу доставки во время пандемии. У них до этого момента была доставка по Москве (я живу в Питере), в мобильном приложении покупателя можно было посмотреть остатки по магазину, заказать онлайн и забрать самому. Добавив к этому функционалу доставку от «Яндекс.Такси», они быстро решили задачу онлайн-доставки, сделали ее в тот же день, что остальные сервисы по доставке продуктов не всегда могут предложить (кроме «Самоката», конечно же). Или, например, сеть «Буше» – не думаю, что они так бы легко смогли выйти в онлайн, если бы не их корпоративная культура. ИТ тоже важны, но они играют поддерживающую роль. Ну и на внедрение чего-то нового нужны инвестиции и время, не уверен, что сейчас компании будут готовы к запуску больших проектов, если появится риск второй волны».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реальность.В режиме самоизоляции на сайты стояли виртуальные очереди, а ИТ-вендоры разрабатывали «карантинные пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла. [~PREVIEW_TEXT] => Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реальность.В режиме самоизоляции на сайты стояли виртуальные очереди, а ИТ-вендоры разрабатывали «карантинные пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5205 [TIMESTAMP_X] => 19.08.2020 19:06:16 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 661 [WIDTH] => 994 [FILE_SIZE] => 347969 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/4e3 [FILE_NAME] => 4e36756b0d76980a0379f71d94f73138.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_313339853.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 79e01327345866e8b5263998febcc5f0 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/4e3/4e36756b0d76980a0379f71d94f73138.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/4e3/4e36756b0d76980a0379f71d94f73138.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/4e3/4e36756b0d76980a0379f71d94f73138.jpg [ALT] => Очередь в сеть [TITLE] => Очередь в сеть ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5205 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => ochered-v-set [~CODE] => ochered-v-set [EXTERNAL_ID] => 5883 [~EXTERNAL_ID] => 5883 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 19.08.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Очередь в сеть [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Очередь в сеть [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реальность.В режиме самоизоляции на сайты стояли виртуальные очереди, а ИТ-вендоры разрабатывали «карантинные пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Очередь в сеть [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Очередь в сеть | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [7] => Array ( [ID] => 5668 [~ID] => 5668 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Ритейл качает [~NAME] => Ритейл качает [ACTIVE_FROM_X] => 2020-04-29 16:29:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2020-04-29 16:29:00 [ACTIVE_FROM] => 29.04.2020 16:29:00 [~ACTIVE_FROM] => 29.04.2020 16:29:00 [TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:37:49 [~TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:37:49 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/riteyl-kachaet/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/riteyl-kachaet/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Данные, как известно, новая нефть, а нефть можно выгодно продать. Но встает вопрос: «Продажа данных – это законно?» Если спросить у людей на улицах, все скажут: «Конечно, нет!» Но почему тогда в только что ушедшем году сразу несколько ритейлеров сообщили, что намерены извлечь прибыль из своих данных: они будут предоставлены всем желающим – тем, кто за них готов заплатить. Разберемся в ситуации с помощью специалистов.

Продажа данных – само это словосочетание настолько сомнительно для современного уха, что, даже договариваясь с экспертами об интервью, мы вынуждены были заверить их: говорить будем строго о бизнесе, никаких жареных фактов. У обывателя торговля данными напрямую ассоциируется с криминалом и мошенническими схемами. Наверное, уже не осталось такого человека, кто, имея мобильный телефон или компьютер, ни разу не столкнулся со злоумышленниками всех мастей. С мошенниками, которые активно использовали не только психологические приемы, но и те крохи персональных данных, которые им удалось выудить из баз данных, гуляющих по Интернету.
Компании, в свою очередь, уже не первый год находятся под дамокловым мечом Закона о защите персональных данных. Еще не так давно слова о 152-ФЗ звучали буквально на каждой конференции, касающейся информационных технологий, и слушатели подолгу не отпускали спикеров, которые объясняли им, как на практике исполнять эту новую для корпораций роль оператора данных. С плохо скрываемым беспокойством в глазах все пытались понять, что же такое персональные данные, утечки которых нельзя допускать. Между прочим, вопрос этот не так банален, как кажется. Даже ваше лицо – это вполне себе персональные данные в мире, где есть нейросети и распознавание лиц, камеры на каждом шагу и смартфоны в руках любого прохожего. Один-единственный снимок лица может привести к вашим соцсетям, друзьям, родственникам, адресу почты, номеру телефона и даже домашнему адресу, если вы долгое время живете на одном и том же месте. Старые базы адресов доступны любому школьнику. Кто ищет – тот найдет.
И вот на этом тревожном фоне возникает бизнес, даже рынок, купли и продажи данных. «Когда речь заходит о продаже данных в России, да и во всем мире, в первую очередь в голову приходит «теневой» сегмент: продажа данных в darknet, «сливы», взломы и хищения персональных данных, прослушка со стороны наших гаджетов и виртуальных помощников», – говорит Константин Савчук, управляющий партнер компании Constanta. По его словам, даже продажа легальных данных зачастую либо тщательно скрывается («данные в конверте»), либо прячется за NDA, когда источники и поставщики не раскрываются. Да и владельцы данных делятся ими довольно неохотно.
Однако рынок, причем не такой, о котором говорят шепотом, есть. «Вообще рынок клиентских данных в России формировался как минимум последние полтора десятка лет. Стихийная торговля персональными данными велась задолго до выхода соответствующего закона о персональных данных. Однако именно выход этого закона акцентировал внимание как покупателей, так и продавцов на необходимости рыночного регулирования в рамках закона, а также на формировании цивилизованного рынка торговли данными со своими спросом и предложением», – рассказывает Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле.
У компаний копятся данные о пользователях, их поведении и устройствах. У ритейла копятся данные о покупателях. Про Big Data и использование данных внутри компаний говорят не первый год. Если что-то можно на законных основаниях использовать у себя, почему бы не придумать дополнительный метод извлечения прибыли из этого массива информации?
Правда, сначала извлечение прибыли легальным назвать было нельзя. Но и подпольным – тоже. Вспомните: базы данных продавались просто так, в любой торговой точке, и лежали рядом с играми и самоучителями английского языка. Да что уж там, ворованные программы лежали там же – и никто не видел тут проблемы. Наоборот, многие радостно все это покупали.
«На первых порах формирование спроса и предложения проходило по тернистому и опасному пути «партизанщины». На таких торговых площадках, как «Горбушка» или, например, на рынках в Митино или Царицыно можно было встретить предложения о продаже банковских баз данных, сборников данных абонентов сотовых сетей и интернет-операторов, баз данных ГИБДД, миграционных и паспортных служб, реестра собственников жилья. В общем, предлагалось все то, что можно было «увести» с помощью человеческого фактора в виде нечистых на руку сисадминов или же просто скачать через Интернет с «честных» ресурсов, которые попросту недостаточно заботились о защите своих данных», – проводит экскурс в недавнее прошлое Дмитрий Смирнов.
Одними из первых торговать «обезличенными» данными стали телеком-операторы. По размаху и охвату им нет равных до сих пор, так как они могут гораздо лучше сегментировать человека. Параллельно формировался и свой, «нишевый», спрос на заказную добычу данных: как правило, речь шла о кредитных историях, авуарах сильных мира сего или некой подноготной бизнеса. Так как спрос на подобные данные изначально был целевой, то ввиду уникальности и предложения были достаточно дорогими.
Появление и бурный рост соцсетей вылил на просторы Интернета целый океан персональных данных, который резко уронил на них спрос. Многие данные стало возможно получить, просто покопавшись в лично выложенной информации на просторах, скажем, Facebook. В итоге сформировался не только рынок сырых данных, но и даже спрос и предложение подборок данных, очищенных от мусора. Цель – минимизация времени на поиск и извлечение неких инсайтов, получение большего выхода от вложенного в данные рубля. «Это и обусловило формирование современных инструментов по поиску и сбору / извлечению информации, их предварительной обработке-очистке, категоризации и компоновке, – объясняет Дмитрий Смирнов. – Так, например, сеть по продаже израильской косметики будет интересовать не просто база данных клиентов одного из лидеров отечественного фэшн-ритейлера, но, скорее всего, в привязке к продажам парфюмерии и косметики СТМ этого ритейлера».
На законных основаниях
Эволюция продолжалась. От свободного и криминального рынка мы перешли к анализу данных. Наиболее крупные агрегаторы данных пошли по пути продажи аналитики на основе имеющихся у них данных. Торговля шла не самими данными, а графиками и цифрами, то есть сведениями, почерпнутыми из океана информации. О других сценариях не думали: во-первых, был риск снова ступить на зыбкую почву разногласий с законом, во-вторых, никто не хотел делиться основным своим ресурсом – данными. А вот исследования – дело другое. По крайней мере в них все законно.
«Если мы говорим про исследовательские агентства и создание интегрированных дата-платформ, то сейчас рынок исследований (в первую очередь готовой аналитики) максимально развит, – считает Инна Караева, директор по развитию бизнеса исследовательского холдинга «Ромир». – Но если речь про «большие данные», то существенных кейсов в России нет».
По ее мнению, сложность состоит, во-первых, в неструктурированности данных, которые собирались в течение продолжительного времени без единого подхода к классификаторам, атрибутике, и, во-вторых, в отсутствии репрезентации. «Все данные должны быть репрезентативны, то есть откалиброваны, к примеру, потребительскими панелями, которые позволяют, понимая квоту и выборку людей, дать качественную аналитику, – поясняет Инна. – В России в этом направлении пока лишь предпринимаются первые шаги».
Рынок данных в России есть: и продавцы, и покупатели, и специализированные торговые площадки. В этом уверен Константин Савчук. Покупают и продают и «сырые» данные, и готовую аналитику. В России насчитывается с десяток (возможно, уже больше) так называемых Processed Data Suppliers (PDS), которые закупают ресурс у поставщиков сырых данных, обрабатывают его и представляют готовый аналитический продукт для одного или нескольких аудиторных сегментов. С точки зрения В2В-обмена данными этот рынок сейчас закономерно наиболее распространен в области интернет-рекламы, но есть все основания ожидать, что на подходе активное развитие продажи банковских, операторских или ритейлерских данных.
Несмотря на то что мы только начали смотреть в эту сторону, рынок Big Data в нашей стране уже называют очень перспективным. В 2018 году компания IDC предварительно оценила выручку от продажи решений BDA (Big Data Analytics) в $1,4 млрд. Это 40% всего объема инвестиций в технологии обработки больших данных и бизнес-аналитику в Центральной и Восточной Европе, что делает Россию крупнейшим игроком в регионе.
Однако говорить о том, что рынок окончательно сформировался, преждевременно. «Да, некоторые связки работают уже давно, – говорит Антон Румянцев, директор OFD.ru. – Например, онлайн- и офлайн-ритейлеры не первый год продают агрегированные данные диджитал-агентствам, которые занимаются таргетированной рекламой. Этот рынок можно считать устоявшимся. Но в России появились и другие игроки, которые обрабатывают большие данные, и они начинают постепенно занимать нишу на рынке. Это операторы фискальных данных. На основе информации из чеков они создают аналитические продукты, а обогащая эти данные данными других компаний, предлагают клиентам еще более полную аналитику».
С OFD.ru произошел интересный случай. Когда на недавно прошедшем форуме CNews-2019 Родион Горин показал слайд презентации, где было сказано, что пятеро из 21 оператора фискальных данных зарабатывают на продаже фискальных данных с раскрытием, в зале возникло нешуточное оживление. Людей волновал вопрос: если так можно, то почему торгуют только пятеро? А если так нельзя, то почему те пятеро вообще торгуют? Антон Румянцев, тоже из OFD.RU, с места добавил, что с законом вообще все не так просто, как хотелось бы. В октябре 2019 года компания читала первый черновик приказа от ФНС на тему анонимизации данных, и по нему неясно, что можно, а что нельзя, так как формулировки расплывчаты.
В этом мы сильно отстали от Запада. Там рынок данных уже сформирован и функционирует по собственным цивилизованным правилам. Об этом рассказывает Дмитрий Зеленко, коммерческий директор «ЛАНИТ Омни» (входит в группу компаний «ЛАНИТ»): «Например, 25 мая 2018 года в Европе вступил в силу регламент по защите персональных данных (General Data Protection Regulation, или GDPR), под действие которого попали и российские фирмы, обрабатывающие данные европейцев. И крупные международные компании открыто заявляют о своем участии в развитии рынка данных, в частности такие гиганты, как Visa и Mastercard. В европейских странах существуют биржи данных (Data Exchange), через которые ритейлеры могут продать накопленные данные».
Как пояснил Дмитрий Зеленко, в нашей стране практически отсутствует рынок купли / продажи информации в виде бирж данных в связи с Законом о защите персональных данных. В целом на территории РФ сейчас существует большая неопределенность в вопросах сбора внешних данных с точки зрения законодательства. Если в законах появится понятие «большие пользовательские данные» и данные об интересах пользователей перестанут быть персональными, это даст толчок для развития рынка продажи и покупки данных. «Хотелось бы подчеркнуть, что рекламной отрасли не нужна идентифицированная личность: им всего лишь требуется знание о том, чем в реальном времени интересуется устройство пользователя сети, – говорит Дмитрий Зеленко. – Сейчас мы знаем об инициативах Института развития Интернета (ИРИ) и Ассоциации больших данных (АБД) и надеемся, что они позволят избежать законодательных ограничений».
Вопрос легальности покупки и продажи данных в России стоит остро. «Предложений и ожиданий от изменения законодательства множество, но пока, по ощущениям, весы российского закона могут качнуться как в одну, так и в другую сторону», – добавляет Константин Савчук.
Ранние пташки
Наше отставание в этой области объясняется не только слабостью законодательной базы. Мы просто позже начали – сначала были слишком захвачены «свободным рынком» девяностых. «Технологии и культура сбора данных пришли к нам значительно позже и пока получили сравнительно меньшее развитие, – говорит Константин Савчук. – Не стоит забывать и про мощь, которая есть у зарубежных гигантов-первопроходцев, стоящих у истоков массового хайпа, посвященного сбору данных, про такие компании, как Google и Amazon».
По оценкам экспертов «Ромира», отечественный рынок продажи и покупки данных отстает на пять–семь лет. Запад давно и активно занялся BI с фокусом на аналитику внутри ритейла и госструктур. В России же крупнейшие ритейлеры только в последние два–три года в условиях стагнации роста задумались о кастомизации и таргетировании предложений, поэтому только сейчас возникла острая необходимость четко понимать покупателя, глубоко работать с данными, создавать свои BI-структуры. «Но, несмотря на то, что мы на начальных стадиях, у нас есть возможность использовать западный опыт, интегрируя его в собственные решения», – уверена Инна Караева.
В современном мире скорость проникновения технологий удивительно высокая: ничто не мешает внедрению технологий обработки и аналитики данных, алгоритмов и сервисов на российский рынок. По словам Константина Савчука, разработкой и разворачиванием таких технологий сейчас занимаются и системные интеграторы, и консультанты, и поставщики инфраструктуры. Крупные российские компании начинают взращивать in-house-компетенции. «Думаю, при отсутствии значимого внешнего влияния (например, законодательных ограничений) можно смело говорить о «выравнивании» нашего и западного рынков данных в обозримом будущем», – говорит он.
Сейчас развитие идет большими темпами. «Многие специалисты делают ставку на BDA как на основной драйвер развития информационных технологий в 2020 году, в том числе потому, что большие данные – основа для других технологий: машинного обучения, искусственного интеллекта», – комментирует Антон Румянцев.
Сам рынок Big Data в свою очередь не ограничивается теми компаниями, кто этими данными располагает: банками, сотовыми операторами, операторами фискальных данных. Он сложнее. Это и поставщики инфраструктуры для хранения и обработки данных, и разработчики алгоритмов для их извлечения, и системные интеграторы, и разработчики готовых сервисов на базе больших данных. В России представлены компании, которые предоставляют все перечисленные услуги.
Новая нефть
Мы начали поздно, законы зыбки, но золотые горы в виде данных не дадут бизнесу спать спокойно. «Есть два типа компаний: те, которые торгуют данными, и те, которые врут, что не торгуют данными», – смеется Константин Савчук. По его словам, данные с автономных касс ритейлеров приравнивают сейчас к «новой нефти» больших данных: рынок огромен, такие данные прозрачны и, что самое главное, легальны. Из аналитики этих данных вытекают и тот самый «цифровой портрет» потребителя, и предиктивная аналитика с управленческим учетом, и таргетированные кредитные предложения от банков. Ряд самих операторов фискальных данных (ОФД) ожидает, что аналитика и продажа данных может занять до трети всей выручки бизнеса. Более того, не столько ценна аналитика одного или нескольких ОФД, сколько общая, более точная аналитика всего пула данных с онлайн-касс, поскольку каждый игрок отхватывает только свой кусок пирога. «Можно смело ожидать, что в ближайшие годы операторы данных возьмут курс на объединение усилий и создание единого пула как компетенций, так и аналитики кассовых данных», – прогнозирует Константин Савчук.
Если это такой лакомый кусок, то почему, если вспомнить описанную выше историю со слайдом и пятью ОФД, до сих пор не все зарабатывают на продаже данных? Комментирует Инна Караева: «Мало торгующих, потому что это действительно очень сложно. Нет унифицированного описания (идентификатора) товара на чеке. С одного кассового или эквайрингового аппарата приходит масса неструктурированных и нерепрезентативных данных. Кроме того, пул торговых точек в рамках любой ОФД непостоянен: любой мерчант может поменять оператора ОФД за несколько минут, что вызовет флуктуацию в выборках, невозможность перевзвешивать данные, показывать стабильную аналитику и, как результат, делать качественные прогнозы».

Те, кто продают данные, делают это потому, что могут. Первая пятерка крупнейших операторов фискальных данных обслуживает более 80% рынка. Их данные интересны производителям, ритейлерам и другим участникам рынка Big Data. Остальные ОФД слишком маленькие, и данные, которыми они располагают, имеют гораздо меньшую ценность.
«Важно сразу отметить, что ОФД работают только с фискальными данными, Закон 152-ФЗ «О персональных данных» к ним неприменим, – объясняет детали Антон Румянцев. – При работе с данными операторы руководствуются законом 54-ФЗ. Согласно ему, ОФД может «осуществлять обработку фискальных данных в статистических или иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания таких фискальных данных». То есть операторы имеют право монетизировать фискальные данные при условии их обезличивания. Четкое определение понятия «обезличивание» будет дано в законопроекте, над которым сейчас работают федеральные органы исполнительной власти. Скорее всего, он установит более прозрачные правила игры, чем 54-ФЗ».
Текущее законодательство не ограничивает ОФД в области продажи аналитики. Единственное условие – обезличенность данных, и это тот термин, вокруг которого до сих пор активно ведутся споры: как его определить, что такое анонимизация и возможен ли обратный процесс – деанонимизации данных? Считается, что когда продают «сырье», то это анонимизированные данные. Однако многие эксперты говорят: сформулировать, что такое анонимизация, достаточно сложно.
О том, как на практике выглядит анонимизация, рассказывает Антон Румянцев: «Например, чтобы обезличить данные наших клиентов и защитить их, в наших аналитических отчетах мы не раскрываем названия собственных торговых марок сетей, а приводим их к единому справочнику. Так, SKU «Диски ватные «Собственной торговой марки», 120 шт.» в отчете будет выглядеть «Диски ватные, 120 шт.». Приведу еще один пример обезличивания. Допустим, клиент хочет открыть продуктовый магазин на улице Тельмана и просит проанализировать продажи на ней в аналогичных точках: узнать средний чек, самые популярные товары. Мы видим, что на этой улице расположены один продуктовый магазин, аптека и цветочная лавка. Таким образом, если мы предоставим клиенту данные только по этой улице, то раскроем данные по конкретной торговой точке – продуктовому магазину. Это недопустимо, поэтому мы будем расширять географическую зону до тех пор, пока в ней не окажется достаточное количество аналогичных торговых точек. Так мы достигаем обезличивания».
Правила торговли
Одним из примеров использования деперсонализированных данных в России является практика компании Segmento, контрольный пакет акций которой в 2015 году приобрел Сбербанк. Это был первый известный пример монетизации банковских данных в России и в Европе. «По информации из открытых источников, компания на конец 2016 года оперировала обезличенными данными 84 млн клиентов «Сбербанка» для размещения рекламы в четырех каналах: мобильных приложениях, социальных сетях, на баннерах и в видеороликах. Из анонимизированных данных аналитики «Сбербанка» могут создавать кастомные сегменты и продавать их рекламодателям. Это намного повышает адресность рекламы и ее эффективность», – рассказывает Дмитрий Зеленко:
Звучит заманчиво. Но если ритейлер решается на продажу данных, он должен торговать действительно анонимизированными данными. «Действительно, бывает «псевдоанонимизация». Она может быть ненамеренной и намеренной», – отмечает Антон Румянцев.
По его мнению, в первом случае операторы или ритейлеры не смогли реализовать алгоритм анонимизации, тогда как во втором они попросту идут на компромисс с заказчиком и соглашаются на продажу данных, которые возможно деанонимизировать. «Объясню, как это работает на примере ОФД, – рассказывает Антон. – Предположим, к оператору поступил запрос на анализ продаж в конкретном районе. Он выгрузил массив данных, скрыл из чека информацию об ИНН, месте расчетов и ФПД. В то же время он оставил возможность привязать SKU к торговой точке через название товара или геохарактеристики. Торговую сеть, где был продан SKU, вычислить несложно, если посмотреть на то, как товар записан в чеке. Обычно все товары сети одной категории написаны по одному образцу: используются одинаковые сокращения или название бренда-производителя всегда пишется строчными буквами. Определив, к какой сети принадлежит магазин, дальше нетрудно вычислить его расположение, ведь обычно в отчете задается ограничение по географии».
По понятиям
Продающей стороне важно соблюсти не только букву закона. Как сказал один из участников пресловутого форума CNews, «по закону продавать можно, а по понятиям – не нужно». Отчасти имелось в виду следующее: ОФД торгуют данными, которые получают от ритейла. Они их частично анонимизируют, но недостаточно с точки зрения ритейлера. Да ведь в конечном счете ритейл и сам не прочь торговать своими данными вместо (а не вместе) с ОФД.
«По закону продавать можно, а по понятиям – тем более, – перефразирует Евгения Рыбинская, директор по трейду и инновациям агентства Unite. – Согласно мировой истории, чем свободнее и чем в большем объеме распространяются данные, тем быстрее идет прогресс, который меняет жизнь человека и меняет к лучшему. Да, конечно, на пути прогресса кто-то теряет бизнесы и страдает, но, как показывает практика в целом, человечество от прогресса получает больше пользы, чем вреда. Поэтому продавать такие знания обязательно нужно и желательно на честной конкурентной основе».
Не понятия в данном случае будут являться двигателем развития рынка, а маячащие на горизонте прибыли. «Для ритейла агрегация данных у ОФД также может стать важным условием развития, ведь сами торговые сети ограничены только собственными данными, но могут значительно выиграть от приобретения данных других ритейлеров, – замечает Константин Савчук. – И чем полнее будет «пакет», то есть чем больше и точнее аналитика, тем больше будет выигрыш. В таких условиях концентрация усилий по обезличиванию, обработке и продаже данных на единой площадке (которой могут стать ОФД) выглядит, как ситуация win-win».
Вообще сравнивать данные ритейлера и ОФД не совсем корректно, потому что ритейлер видит только собственные продажи, а оператор – все торговые точки, которые к нему подключены. Последний находится в более выигрышном положении, потому что охватывает большую долю рынка.
Кто правит бал
Интересно, какое будущее ждет ритейл на этом глобальном рынке обмена данными? Смогут ли ритейлеры занять на этом рынке лидирующие позиции или будут оттеснены? У ритейла есть значительный потенциал в области использования больших данных и торговли данными в том числе за счет развития решений wifi-аналитики, видеоаналитики, мобильных приложений и программ лояльности, а также других цифровых сервисов. По мнению Константина Савчука, крупные торговые сети и сами максимально заинтересованы в развитии компетенций в этой сфере: ведь это бизнес, сильно зависимый от гибкого управления запасами, логистикой и скидочной политикой, то есть всех тех направлений, где предиктивная и таргетированная Big Data может «изменить правила игры». Дополнительным преимуществом крупного ритейла может стать не только готовность, но и финансовая возможность взрастить в себе компетенции по данным.
Однако пророчить ритейлу лидерство в области больших данных тоже сложно, ведь есть секторы, для которых сбор данных более органично вписывается в бизнес-модель – это и банки, и телеком-операторы, в которых все взаимодействие с потребителем практически полностью перешло в онлайн, и социальные сети. Ситуация с ОФД также показывает, что у ритейла может не быть монополии на его данные: сейчас и банки, и операторы знают состав продуктовой корзины своих клиентов.
«В целом можно сказать, что данные ритейла – это одна из многих значимых компонент цифрового портрета потребителя», – заключает Константин Савчук. Безусловно, ритейл движется в сторону монетизации собственных данных. «Но важно понимать, что большая часть такой информации закрыта, поскольку составляет коммерческую тайну», – говорит Инна Караева.
Сервированные данные
Следующая ступень эволюции – сервисы на основе данных, а не их прямая продажа. Пионерами здесь, разумеется, выступили крупнейшие ритейлеры, такие как X5 Retail Group и «Магнит». X5 в ноябре 2019 года первой из ритейлеров запустила сервис по автоматизации предоставления сегментов данных для клиентов и партнеров. Решение позволяет использовать накопленные данные об истории покупок для таргетированной цифровой рекламы. Как сообщили в пресс-службе, «с помощью сервиса пользователи могут самостоятельно конструировать сегменты любой сложности в зависимости от частоты покупок бренда и ряда других параметров, запускать рекламные кампании на инвентаре Mail.ru, «ВКонтакте», «Яндекса», Facebook, Instagram и GPMD. По результатам проведенной кампании заказчикам становится доступна расширенная sales-lift-аналитика по каждому из сегментов. В основе методологии лежит оценка роста продаж через сравнение покупательской активности тестовых групп, которые взаимодействовали с рекламой продукта, и контрольной группы, которая рекламу не видела. Анализ позволяет с максимально возможной точностью исключить влияние таких факторов, как сезонность, промоакции, активность конкурентов. Разработанное решение позволяет получать статистически значимые выводы о влиянии креатива, частоты, предложения или формата рекламы. На данный момент продуктом уже пользуются крупнейшие рекламные агентства».
И это не единственный сервис, который запустила компания. Месяцем ранее они объявили о создании новой платформы для своих поставщиков. «Big Analytical Platform позволяет формировать отчеты с использованием базы данных истории покупок с товарами категорий поставщика в торговых сетях Х5. Таким образом, партнеры компании получают универсальный инструмент, позволяющий анализировать не только продажи, но и другие важные показатели, выявлять источники изменения спроса и переключений потребителей на конкурирующие торговые марки, определять ротацию покупателей бренда и изменение их привычек и потребностей. На основе истории покупок и потребительском поведении сформирована база аналитических модулей, которые позволяют использовать инсайты для улучшения показателей бизнеса». Сейчас партнерам Х5 доступен функционал для формирования трех отчетов (диагностика категории, источники продаж, миграция покупателей), а в 2020 году компания планирует реализовать еще восемь модулей для анализа промо, корзины, дерева принятия решений, профиля покупателя, а также тестирования, кластеризации магазинов, трекинга запуска новинок.
«Магнит» в свою очередь объединился с Aggregion (при технологической поддержке Microsoft) и выпустил свою платформу которая предоставляет желающим маркетологам доступ к обезличенным структурированным данным самой сети и ее партнеров.
ИТ-компании и ОФД не в восторге. «Я считаю, что «Магниту», как и другим крупным ритейлерам, не вполне логично заниматься продажей данных. По сути, таким образом они выполняют чужую работу. Это, скорее, прерогатива ИТ-компаний, которые специализируются на обработке данных», – говорит Дмитрий Зеленко.
Он уверен в том, что на рынке уже существуют решения, которые способны удовлетворить нужды ритейлеров в обработке данных и их торговле. Их общее название – Data Management Platform (DMP). Это программное обеспечение, которое позволяет собирать, обрабатывать и хранить любые типы данных, а также строить на их основе аудиторные сегменты. Оно работает по принципу агрегатора: унифицирует данные и дает компаниям аналитику уже в готовом виде, что важно для современных ритейлеров: большинство из них за время работы накопили огромные массивы разрозненных данных, которые нуждаются в структурировании.
С помощью DMP также можно монетизировать данные своих клиентов, предоставляя их для маркетинговых кампаний других брендов. При этом беспокоиться о безопасности данных не стоит: ни в одной из систем невозможно скачать идентификаторы аудиторных сегментов. На рынке представлены как коробочные варианты таких решений, так и облачные. «Например, «ЛАНИТ Омни» предлагает облачное решение RightWay DMP. Наша база данных содержит миллионы высококачественных профилей пользователей, что позволяет находить новую аудиторию по принципу look-a-like. Наши клиенты могут пользоваться высококачественными данными аудиторий других брендов, чтобы показывать им рекламу с учетом их интересов, демографии, намерений покупки и сотен других параметров, доступных в нашей таксономии», – отмечает Дмитрий Зеленко.
Но если смогли «Магнит» и Х5, со временем смогут и другие. Мы спросили у представителя ОФД, грядет ли, по его мнению, волна подобных сервисов от ритейлеров? «Случай «Магнита», скорее, уникален, – не верит в успех Антон Румянцев. – Это очень крупная розничная сеть, и мало кто из продавцов располагает таким же объемом данных. И все же каким бы крупным ни был «Магнит», он наблюдает тенденции только на собственном примере. Потребительское поведение других сегментов аудитории может значительно отличаться. Что касается появления подобных сервисов от других участников рынка, то оно весьма вероятно. Над созданием сервисов на основе данных работают множество крупных организаций в различных сферах бизнеса, и мы будем наблюдать вывод на рынок большого количества новых продуктов, большая часть из которых, по законам рынка, не будет востребована, а часть закрепится в своих нишах».
Более глубокая аналитика по поиску целевых «зерен» и отделения их от «плевел», как правило, делается компаниями-потребителями уже своими силами. Технологии, подходы и соответствующие алгоритмы вкупе с машинным обучением являются своеобразным ноу-хау этих компаний. Крупные игроки предпочитают собственные аналитические исследования, которым доверяют больше ввиду «подконтрольности и прозрачности» как данных, так и применяемого инструментария вкупе с «человеческим фактором». Однако вложенные в сбор, обработку и аналитику средства должны «работать», а инструмент и результаты его применения вполне могут быть монетизированы. Например, крупная торговая сеть, обладая своими данными и ресурсами, вполне может начать играть роль аналитического агентства и начать торговать как обезличенными данными, так и некой аналитикой, рассчитывая на различные сегменты их потребителей. Другой вопрос – будет ли эта торговая сеть торговать только своими данными, или же станет приобретать их для нужд потенциальных потребителей информации у ОФД или у других источников. Об этом говорит Дмитрий Смирнов: «Дело в том, что те данные, которыми обладает пусть даже и крупный ритейлер, мало кому интересны. Аналитика на основе этих данных будет однобока и вряд ли удовлетворит массовые потребности небольших ритейлеров. Другое дело – работа с ОФД и другими источниками информации».
Можно предположить, что развитие рынка клиентских данных пойдет в сторону покупки сервиса «доступа к озеру данных» с использованием своих инструментов анализа, а также сервиса готовой или предварительно подготовленной аналитики для дальнейшего использования или последующего анализа. Причем такой сценарий в нашей стране будет развиваться существенно быстрее, чем в среднем по миру. В этом убежден Дмитрий Смирнов: «Связано это с тем, что отечественный ритейл изначально стал развиваться на технологической базе более высокого уровня, чем мировой ритейл, и не был поставлен в рамки обязательной амортизации 20–30 лет назад внедренных решений. С учетом последних тенденций торговли и инициатив ФНС мы прочно закрепились в числе лидеров».
Купи-продай
Мы в самом начале говорили о рынке купли-продажи данных, но сосредоточились на продаже. Однако ритейлер вполне может выступить в качестве заинтересованного покупателя. С появлением инструментария онлайн-фискализации у любого ритейлера или участника рынка появляется возможность приобретения «сырых» чековых данных у операторов фискальных данных (ОФД).
Но если копнуть поглубже, то на деле такие данные не так уж и обезличены. При наличии безналичных платежей, системы лояльности, систем видеоконтроля и контроля кассовых операций не слишком сложно сопоставить конкретного покупателя и его историю потребления. При этом данных в виде ФИО и реквизитов паспорта даже не требуется. «Главное для ритейлера – определить профиль покупателя, чтобы затем использовать этот профиль, например, для прогнозов следующих покупок клиента, влиять на его покупательское поведение в виде участия в акциях или пробы новых брендов, тем или иным образом «привязывать» его к своей сети. Реальность такова, что практически любые обезличенные данные можно персонифицировать законными способами», – говорит Дмитрий Смирнов.
«Действующий закон дает операторам право на обработку фискальных данных в статистических целях, – комментирует Антон Румянцев. – Однако, как я отмечал выше, сейчас нет четкого определения понятия «обезличивание», поэтому каждый оператор фискальных данных формулирует его для себя сам. Это и приводит к тому, что существует риск продажи некоторыми ОФД данных с раскрытием или же данных, обезличенных лишь частично. Это оставляет возможность для деанонимизации».
[~DETAIL_TEXT] =>
Данные, как известно, новая нефть, а нефть можно выгодно продать. Но встает вопрос: «Продажа данных – это законно?» Если спросить у людей на улицах, все скажут: «Конечно, нет!» Но почему тогда в только что ушедшем году сразу несколько ритейлеров сообщили, что намерены извлечь прибыль из своих данных: они будут предоставлены всем желающим – тем, кто за них готов заплатить. Разберемся в ситуации с помощью специалистов.

Продажа данных – само это словосочетание настолько сомнительно для современного уха, что, даже договариваясь с экспертами об интервью, мы вынуждены были заверить их: говорить будем строго о бизнесе, никаких жареных фактов. У обывателя торговля данными напрямую ассоциируется с криминалом и мошенническими схемами. Наверное, уже не осталось такого человека, кто, имея мобильный телефон или компьютер, ни разу не столкнулся со злоумышленниками всех мастей. С мошенниками, которые активно использовали не только психологические приемы, но и те крохи персональных данных, которые им удалось выудить из баз данных, гуляющих по Интернету.
Компании, в свою очередь, уже не первый год находятся под дамокловым мечом Закона о защите персональных данных. Еще не так давно слова о 152-ФЗ звучали буквально на каждой конференции, касающейся информационных технологий, и слушатели подолгу не отпускали спикеров, которые объясняли им, как на практике исполнять эту новую для корпораций роль оператора данных. С плохо скрываемым беспокойством в глазах все пытались понять, что же такое персональные данные, утечки которых нельзя допускать. Между прочим, вопрос этот не так банален, как кажется. Даже ваше лицо – это вполне себе персональные данные в мире, где есть нейросети и распознавание лиц, камеры на каждом шагу и смартфоны в руках любого прохожего. Один-единственный снимок лица может привести к вашим соцсетям, друзьям, родственникам, адресу почты, номеру телефона и даже домашнему адресу, если вы долгое время живете на одном и том же месте. Старые базы адресов доступны любому школьнику. Кто ищет – тот найдет.
И вот на этом тревожном фоне возникает бизнес, даже рынок, купли и продажи данных. «Когда речь заходит о продаже данных в России, да и во всем мире, в первую очередь в голову приходит «теневой» сегмент: продажа данных в darknet, «сливы», взломы и хищения персональных данных, прослушка со стороны наших гаджетов и виртуальных помощников», – говорит Константин Савчук, управляющий партнер компании Constanta. По его словам, даже продажа легальных данных зачастую либо тщательно скрывается («данные в конверте»), либо прячется за NDA, когда источники и поставщики не раскрываются. Да и владельцы данных делятся ими довольно неохотно.
Однако рынок, причем не такой, о котором говорят шепотом, есть. «Вообще рынок клиентских данных в России формировался как минимум последние полтора десятка лет. Стихийная торговля персональными данными велась задолго до выхода соответствующего закона о персональных данных. Однако именно выход этого закона акцентировал внимание как покупателей, так и продавцов на необходимости рыночного регулирования в рамках закона, а также на формировании цивилизованного рынка торговли данными со своими спросом и предложением», – рассказывает Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле.
У компаний копятся данные о пользователях, их поведении и устройствах. У ритейла копятся данные о покупателях. Про Big Data и использование данных внутри компаний говорят не первый год. Если что-то можно на законных основаниях использовать у себя, почему бы не придумать дополнительный метод извлечения прибыли из этого массива информации?
Правда, сначала извлечение прибыли легальным назвать было нельзя. Но и подпольным – тоже. Вспомните: базы данных продавались просто так, в любой торговой точке, и лежали рядом с играми и самоучителями английского языка. Да что уж там, ворованные программы лежали там же – и никто не видел тут проблемы. Наоборот, многие радостно все это покупали.
«На первых порах формирование спроса и предложения проходило по тернистому и опасному пути «партизанщины». На таких торговых площадках, как «Горбушка» или, например, на рынках в Митино или Царицыно можно было встретить предложения о продаже банковских баз данных, сборников данных абонентов сотовых сетей и интернет-операторов, баз данных ГИБДД, миграционных и паспортных служб, реестра собственников жилья. В общем, предлагалось все то, что можно было «увести» с помощью человеческого фактора в виде нечистых на руку сисадминов или же просто скачать через Интернет с «честных» ресурсов, которые попросту недостаточно заботились о защите своих данных», – проводит экскурс в недавнее прошлое Дмитрий Смирнов.
Одними из первых торговать «обезличенными» данными стали телеком-операторы. По размаху и охвату им нет равных до сих пор, так как они могут гораздо лучше сегментировать человека. Параллельно формировался и свой, «нишевый», спрос на заказную добычу данных: как правило, речь шла о кредитных историях, авуарах сильных мира сего или некой подноготной бизнеса. Так как спрос на подобные данные изначально был целевой, то ввиду уникальности и предложения были достаточно дорогими.
Появление и бурный рост соцсетей вылил на просторы Интернета целый океан персональных данных, который резко уронил на них спрос. Многие данные стало возможно получить, просто покопавшись в лично выложенной информации на просторах, скажем, Facebook. В итоге сформировался не только рынок сырых данных, но и даже спрос и предложение подборок данных, очищенных от мусора. Цель – минимизация времени на поиск и извлечение неких инсайтов, получение большего выхода от вложенного в данные рубля. «Это и обусловило формирование современных инструментов по поиску и сбору / извлечению информации, их предварительной обработке-очистке, категоризации и компоновке, – объясняет Дмитрий Смирнов. – Так, например, сеть по продаже израильской косметики будет интересовать не просто база данных клиентов одного из лидеров отечественного фэшн-ритейлера, но, скорее всего, в привязке к продажам парфюмерии и косметики СТМ этого ритейлера».
На законных основаниях
Эволюция продолжалась. От свободного и криминального рынка мы перешли к анализу данных. Наиболее крупные агрегаторы данных пошли по пути продажи аналитики на основе имеющихся у них данных. Торговля шла не самими данными, а графиками и цифрами, то есть сведениями, почерпнутыми из океана информации. О других сценариях не думали: во-первых, был риск снова ступить на зыбкую почву разногласий с законом, во-вторых, никто не хотел делиться основным своим ресурсом – данными. А вот исследования – дело другое. По крайней мере в них все законно.
«Если мы говорим про исследовательские агентства и создание интегрированных дата-платформ, то сейчас рынок исследований (в первую очередь готовой аналитики) максимально развит, – считает Инна Караева, директор по развитию бизнеса исследовательского холдинга «Ромир». – Но если речь про «большие данные», то существенных кейсов в России нет».
По ее мнению, сложность состоит, во-первых, в неструктурированности данных, которые собирались в течение продолжительного времени без единого подхода к классификаторам, атрибутике, и, во-вторых, в отсутствии репрезентации. «Все данные должны быть репрезентативны, то есть откалиброваны, к примеру, потребительскими панелями, которые позволяют, понимая квоту и выборку людей, дать качественную аналитику, – поясняет Инна. – В России в этом направлении пока лишь предпринимаются первые шаги».
Рынок данных в России есть: и продавцы, и покупатели, и специализированные торговые площадки. В этом уверен Константин Савчук. Покупают и продают и «сырые» данные, и готовую аналитику. В России насчитывается с десяток (возможно, уже больше) так называемых Processed Data Suppliers (PDS), которые закупают ресурс у поставщиков сырых данных, обрабатывают его и представляют готовый аналитический продукт для одного или нескольких аудиторных сегментов. С точки зрения В2В-обмена данными этот рынок сейчас закономерно наиболее распространен в области интернет-рекламы, но есть все основания ожидать, что на подходе активное развитие продажи банковских, операторских или ритейлерских данных.
Несмотря на то что мы только начали смотреть в эту сторону, рынок Big Data в нашей стране уже называют очень перспективным. В 2018 году компания IDC предварительно оценила выручку от продажи решений BDA (Big Data Analytics) в $1,4 млрд. Это 40% всего объема инвестиций в технологии обработки больших данных и бизнес-аналитику в Центральной и Восточной Европе, что делает Россию крупнейшим игроком в регионе.
Однако говорить о том, что рынок окончательно сформировался, преждевременно. «Да, некоторые связки работают уже давно, – говорит Антон Румянцев, директор OFD.ru. – Например, онлайн- и офлайн-ритейлеры не первый год продают агрегированные данные диджитал-агентствам, которые занимаются таргетированной рекламой. Этот рынок можно считать устоявшимся. Но в России появились и другие игроки, которые обрабатывают большие данные, и они начинают постепенно занимать нишу на рынке. Это операторы фискальных данных. На основе информации из чеков они создают аналитические продукты, а обогащая эти данные данными других компаний, предлагают клиентам еще более полную аналитику».
С OFD.ru произошел интересный случай. Когда на недавно прошедшем форуме CNews-2019 Родион Горин показал слайд презентации, где было сказано, что пятеро из 21 оператора фискальных данных зарабатывают на продаже фискальных данных с раскрытием, в зале возникло нешуточное оживление. Людей волновал вопрос: если так можно, то почему торгуют только пятеро? А если так нельзя, то почему те пятеро вообще торгуют? Антон Румянцев, тоже из OFD.RU, с места добавил, что с законом вообще все не так просто, как хотелось бы. В октябре 2019 года компания читала первый черновик приказа от ФНС на тему анонимизации данных, и по нему неясно, что можно, а что нельзя, так как формулировки расплывчаты.
В этом мы сильно отстали от Запада. Там рынок данных уже сформирован и функционирует по собственным цивилизованным правилам. Об этом рассказывает Дмитрий Зеленко, коммерческий директор «ЛАНИТ Омни» (входит в группу компаний «ЛАНИТ»): «Например, 25 мая 2018 года в Европе вступил в силу регламент по защите персональных данных (General Data Protection Regulation, или GDPR), под действие которого попали и российские фирмы, обрабатывающие данные европейцев. И крупные международные компании открыто заявляют о своем участии в развитии рынка данных, в частности такие гиганты, как Visa и Mastercard. В европейских странах существуют биржи данных (Data Exchange), через которые ритейлеры могут продать накопленные данные».
Как пояснил Дмитрий Зеленко, в нашей стране практически отсутствует рынок купли / продажи информации в виде бирж данных в связи с Законом о защите персональных данных. В целом на территории РФ сейчас существует большая неопределенность в вопросах сбора внешних данных с точки зрения законодательства. Если в законах появится понятие «большие пользовательские данные» и данные об интересах пользователей перестанут быть персональными, это даст толчок для развития рынка продажи и покупки данных. «Хотелось бы подчеркнуть, что рекламной отрасли не нужна идентифицированная личность: им всего лишь требуется знание о том, чем в реальном времени интересуется устройство пользователя сети, – говорит Дмитрий Зеленко. – Сейчас мы знаем об инициативах Института развития Интернета (ИРИ) и Ассоциации больших данных (АБД) и надеемся, что они позволят избежать законодательных ограничений».
Вопрос легальности покупки и продажи данных в России стоит остро. «Предложений и ожиданий от изменения законодательства множество, но пока, по ощущениям, весы российского закона могут качнуться как в одну, так и в другую сторону», – добавляет Константин Савчук.
Ранние пташки
Наше отставание в этой области объясняется не только слабостью законодательной базы. Мы просто позже начали – сначала были слишком захвачены «свободным рынком» девяностых. «Технологии и культура сбора данных пришли к нам значительно позже и пока получили сравнительно меньшее развитие, – говорит Константин Савчук. – Не стоит забывать и про мощь, которая есть у зарубежных гигантов-первопроходцев, стоящих у истоков массового хайпа, посвященного сбору данных, про такие компании, как Google и Amazon».
По оценкам экспертов «Ромира», отечественный рынок продажи и покупки данных отстает на пять–семь лет. Запад давно и активно занялся BI с фокусом на аналитику внутри ритейла и госструктур. В России же крупнейшие ритейлеры только в последние два–три года в условиях стагнации роста задумались о кастомизации и таргетировании предложений, поэтому только сейчас возникла острая необходимость четко понимать покупателя, глубоко работать с данными, создавать свои BI-структуры. «Но, несмотря на то, что мы на начальных стадиях, у нас есть возможность использовать западный опыт, интегрируя его в собственные решения», – уверена Инна Караева.
В современном мире скорость проникновения технологий удивительно высокая: ничто не мешает внедрению технологий обработки и аналитики данных, алгоритмов и сервисов на российский рынок. По словам Константина Савчука, разработкой и разворачиванием таких технологий сейчас занимаются и системные интеграторы, и консультанты, и поставщики инфраструктуры. Крупные российские компании начинают взращивать in-house-компетенции. «Думаю, при отсутствии значимого внешнего влияния (например, законодательных ограничений) можно смело говорить о «выравнивании» нашего и западного рынков данных в обозримом будущем», – говорит он.
Сейчас развитие идет большими темпами. «Многие специалисты делают ставку на BDA как на основной драйвер развития информационных технологий в 2020 году, в том числе потому, что большие данные – основа для других технологий: машинного обучения, искусственного интеллекта», – комментирует Антон Румянцев.
Сам рынок Big Data в свою очередь не ограничивается теми компаниями, кто этими данными располагает: банками, сотовыми операторами, операторами фискальных данных. Он сложнее. Это и поставщики инфраструктуры для хранения и обработки данных, и разработчики алгоритмов для их извлечения, и системные интеграторы, и разработчики готовых сервисов на базе больших данных. В России представлены компании, которые предоставляют все перечисленные услуги.
Новая нефть
Мы начали поздно, законы зыбки, но золотые горы в виде данных не дадут бизнесу спать спокойно. «Есть два типа компаний: те, которые торгуют данными, и те, которые врут, что не торгуют данными», – смеется Константин Савчук. По его словам, данные с автономных касс ритейлеров приравнивают сейчас к «новой нефти» больших данных: рынок огромен, такие данные прозрачны и, что самое главное, легальны. Из аналитики этих данных вытекают и тот самый «цифровой портрет» потребителя, и предиктивная аналитика с управленческим учетом, и таргетированные кредитные предложения от банков. Ряд самих операторов фискальных данных (ОФД) ожидает, что аналитика и продажа данных может занять до трети всей выручки бизнеса. Более того, не столько ценна аналитика одного или нескольких ОФД, сколько общая, более точная аналитика всего пула данных с онлайн-касс, поскольку каждый игрок отхватывает только свой кусок пирога. «Можно смело ожидать, что в ближайшие годы операторы данных возьмут курс на объединение усилий и создание единого пула как компетенций, так и аналитики кассовых данных», – прогнозирует Константин Савчук.
Если это такой лакомый кусок, то почему, если вспомнить описанную выше историю со слайдом и пятью ОФД, до сих пор не все зарабатывают на продаже данных? Комментирует Инна Караева: «Мало торгующих, потому что это действительно очень сложно. Нет унифицированного описания (идентификатора) товара на чеке. С одного кассового или эквайрингового аппарата приходит масса неструктурированных и нерепрезентативных данных. Кроме того, пул торговых точек в рамках любой ОФД непостоянен: любой мерчант может поменять оператора ОФД за несколько минут, что вызовет флуктуацию в выборках, невозможность перевзвешивать данные, показывать стабильную аналитику и, как результат, делать качественные прогнозы».

Те, кто продают данные, делают это потому, что могут. Первая пятерка крупнейших операторов фискальных данных обслуживает более 80% рынка. Их данные интересны производителям, ритейлерам и другим участникам рынка Big Data. Остальные ОФД слишком маленькие, и данные, которыми они располагают, имеют гораздо меньшую ценность.
«Важно сразу отметить, что ОФД работают только с фискальными данными, Закон 152-ФЗ «О персональных данных» к ним неприменим, – объясняет детали Антон Румянцев. – При работе с данными операторы руководствуются законом 54-ФЗ. Согласно ему, ОФД может «осуществлять обработку фискальных данных в статистических или иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания таких фискальных данных». То есть операторы имеют право монетизировать фискальные данные при условии их обезличивания. Четкое определение понятия «обезличивание» будет дано в законопроекте, над которым сейчас работают федеральные органы исполнительной власти. Скорее всего, он установит более прозрачные правила игры, чем 54-ФЗ».
Текущее законодательство не ограничивает ОФД в области продажи аналитики. Единственное условие – обезличенность данных, и это тот термин, вокруг которого до сих пор активно ведутся споры: как его определить, что такое анонимизация и возможен ли обратный процесс – деанонимизации данных? Считается, что когда продают «сырье», то это анонимизированные данные. Однако многие эксперты говорят: сформулировать, что такое анонимизация, достаточно сложно.
О том, как на практике выглядит анонимизация, рассказывает Антон Румянцев: «Например, чтобы обезличить данные наших клиентов и защитить их, в наших аналитических отчетах мы не раскрываем названия собственных торговых марок сетей, а приводим их к единому справочнику. Так, SKU «Диски ватные «Собственной торговой марки», 120 шт.» в отчете будет выглядеть «Диски ватные, 120 шт.». Приведу еще один пример обезличивания. Допустим, клиент хочет открыть продуктовый магазин на улице Тельмана и просит проанализировать продажи на ней в аналогичных точках: узнать средний чек, самые популярные товары. Мы видим, что на этой улице расположены один продуктовый магазин, аптека и цветочная лавка. Таким образом, если мы предоставим клиенту данные только по этой улице, то раскроем данные по конкретной торговой точке – продуктовому магазину. Это недопустимо, поэтому мы будем расширять географическую зону до тех пор, пока в ней не окажется достаточное количество аналогичных торговых точек. Так мы достигаем обезличивания».
Правила торговли
Одним из примеров использования деперсонализированных данных в России является практика компании Segmento, контрольный пакет акций которой в 2015 году приобрел Сбербанк. Это был первый известный пример монетизации банковских данных в России и в Европе. «По информации из открытых источников, компания на конец 2016 года оперировала обезличенными данными 84 млн клиентов «Сбербанка» для размещения рекламы в четырех каналах: мобильных приложениях, социальных сетях, на баннерах и в видеороликах. Из анонимизированных данных аналитики «Сбербанка» могут создавать кастомные сегменты и продавать их рекламодателям. Это намного повышает адресность рекламы и ее эффективность», – рассказывает Дмитрий Зеленко:
Звучит заманчиво. Но если ритейлер решается на продажу данных, он должен торговать действительно анонимизированными данными. «Действительно, бывает «псевдоанонимизация». Она может быть ненамеренной и намеренной», – отмечает Антон Румянцев.
По его мнению, в первом случае операторы или ритейлеры не смогли реализовать алгоритм анонимизации, тогда как во втором они попросту идут на компромисс с заказчиком и соглашаются на продажу данных, которые возможно деанонимизировать. «Объясню, как это работает на примере ОФД, – рассказывает Антон. – Предположим, к оператору поступил запрос на анализ продаж в конкретном районе. Он выгрузил массив данных, скрыл из чека информацию об ИНН, месте расчетов и ФПД. В то же время он оставил возможность привязать SKU к торговой точке через название товара или геохарактеристики. Торговую сеть, где был продан SKU, вычислить несложно, если посмотреть на то, как товар записан в чеке. Обычно все товары сети одной категории написаны по одному образцу: используются одинаковые сокращения или название бренда-производителя всегда пишется строчными буквами. Определив, к какой сети принадлежит магазин, дальше нетрудно вычислить его расположение, ведь обычно в отчете задается ограничение по географии».
По понятиям
Продающей стороне важно соблюсти не только букву закона. Как сказал один из участников пресловутого форума CNews, «по закону продавать можно, а по понятиям – не нужно». Отчасти имелось в виду следующее: ОФД торгуют данными, которые получают от ритейла. Они их частично анонимизируют, но недостаточно с точки зрения ритейлера. Да ведь в конечном счете ритейл и сам не прочь торговать своими данными вместо (а не вместе) с ОФД.
«По закону продавать можно, а по понятиям – тем более, – перефразирует Евгения Рыбинская, директор по трейду и инновациям агентства Unite. – Согласно мировой истории, чем свободнее и чем в большем объеме распространяются данные, тем быстрее идет прогресс, который меняет жизнь человека и меняет к лучшему. Да, конечно, на пути прогресса кто-то теряет бизнесы и страдает, но, как показывает практика в целом, человечество от прогресса получает больше пользы, чем вреда. Поэтому продавать такие знания обязательно нужно и желательно на честной конкурентной основе».
Не понятия в данном случае будут являться двигателем развития рынка, а маячащие на горизонте прибыли. «Для ритейла агрегация данных у ОФД также может стать важным условием развития, ведь сами торговые сети ограничены только собственными данными, но могут значительно выиграть от приобретения данных других ритейлеров, – замечает Константин Савчук. – И чем полнее будет «пакет», то есть чем больше и точнее аналитика, тем больше будет выигрыш. В таких условиях концентрация усилий по обезличиванию, обработке и продаже данных на единой площадке (которой могут стать ОФД) выглядит, как ситуация win-win».
Вообще сравнивать данные ритейлера и ОФД не совсем корректно, потому что ритейлер видит только собственные продажи, а оператор – все торговые точки, которые к нему подключены. Последний находится в более выигрышном положении, потому что охватывает большую долю рынка.
Кто правит бал
Интересно, какое будущее ждет ритейл на этом глобальном рынке обмена данными? Смогут ли ритейлеры занять на этом рынке лидирующие позиции или будут оттеснены? У ритейла есть значительный потенциал в области использования больших данных и торговли данными в том числе за счет развития решений wifi-аналитики, видеоаналитики, мобильных приложений и программ лояльности, а также других цифровых сервисов. По мнению Константина Савчука, крупные торговые сети и сами максимально заинтересованы в развитии компетенций в этой сфере: ведь это бизнес, сильно зависимый от гибкого управления запасами, логистикой и скидочной политикой, то есть всех тех направлений, где предиктивная и таргетированная Big Data может «изменить правила игры». Дополнительным преимуществом крупного ритейла может стать не только готовность, но и финансовая возможность взрастить в себе компетенции по данным.
Однако пророчить ритейлу лидерство в области больших данных тоже сложно, ведь есть секторы, для которых сбор данных более органично вписывается в бизнес-модель – это и банки, и телеком-операторы, в которых все взаимодействие с потребителем практически полностью перешло в онлайн, и социальные сети. Ситуация с ОФД также показывает, что у ритейла может не быть монополии на его данные: сейчас и банки, и операторы знают состав продуктовой корзины своих клиентов.
«В целом можно сказать, что данные ритейла – это одна из многих значимых компонент цифрового портрета потребителя», – заключает Константин Савчук. Безусловно, ритейл движется в сторону монетизации собственных данных. «Но важно понимать, что большая часть такой информации закрыта, поскольку составляет коммерческую тайну», – говорит Инна Караева.
Сервированные данные
Следующая ступень эволюции – сервисы на основе данных, а не их прямая продажа. Пионерами здесь, разумеется, выступили крупнейшие ритейлеры, такие как X5 Retail Group и «Магнит». X5 в ноябре 2019 года первой из ритейлеров запустила сервис по автоматизации предоставления сегментов данных для клиентов и партнеров. Решение позволяет использовать накопленные данные об истории покупок для таргетированной цифровой рекламы. Как сообщили в пресс-службе, «с помощью сервиса пользователи могут самостоятельно конструировать сегменты любой сложности в зависимости от частоты покупок бренда и ряда других параметров, запускать рекламные кампании на инвентаре Mail.ru, «ВКонтакте», «Яндекса», Facebook, Instagram и GPMD. По результатам проведенной кампании заказчикам становится доступна расширенная sales-lift-аналитика по каждому из сегментов. В основе методологии лежит оценка роста продаж через сравнение покупательской активности тестовых групп, которые взаимодействовали с рекламой продукта, и контрольной группы, которая рекламу не видела. Анализ позволяет с максимально возможной точностью исключить влияние таких факторов, как сезонность, промоакции, активность конкурентов. Разработанное решение позволяет получать статистически значимые выводы о влиянии креатива, частоты, предложения или формата рекламы. На данный момент продуктом уже пользуются крупнейшие рекламные агентства».
И это не единственный сервис, который запустила компания. Месяцем ранее они объявили о создании новой платформы для своих поставщиков. «Big Analytical Platform позволяет формировать отчеты с использованием базы данных истории покупок с товарами категорий поставщика в торговых сетях Х5. Таким образом, партнеры компании получают универсальный инструмент, позволяющий анализировать не только продажи, но и другие важные показатели, выявлять источники изменения спроса и переключений потребителей на конкурирующие торговые марки, определять ротацию покупателей бренда и изменение их привычек и потребностей. На основе истории покупок и потребительском поведении сформирована база аналитических модулей, которые позволяют использовать инсайты для улучшения показателей бизнеса». Сейчас партнерам Х5 доступен функционал для формирования трех отчетов (диагностика категории, источники продаж, миграция покупателей), а в 2020 году компания планирует реализовать еще восемь модулей для анализа промо, корзины, дерева принятия решений, профиля покупателя, а также тестирования, кластеризации магазинов, трекинга запуска новинок.
«Магнит» в свою очередь объединился с Aggregion (при технологической поддержке Microsoft) и выпустил свою платформу которая предоставляет желающим маркетологам доступ к обезличенным структурированным данным самой сети и ее партнеров.
ИТ-компании и ОФД не в восторге. «Я считаю, что «Магниту», как и другим крупным ритейлерам, не вполне логично заниматься продажей данных. По сути, таким образом они выполняют чужую работу. Это, скорее, прерогатива ИТ-компаний, которые специализируются на обработке данных», – говорит Дмитрий Зеленко.
Он уверен в том, что на рынке уже существуют решения, которые способны удовлетворить нужды ритейлеров в обработке данных и их торговле. Их общее название – Data Management Platform (DMP). Это программное обеспечение, которое позволяет собирать, обрабатывать и хранить любые типы данных, а также строить на их основе аудиторные сегменты. Оно работает по принципу агрегатора: унифицирует данные и дает компаниям аналитику уже в готовом виде, что важно для современных ритейлеров: большинство из них за время работы накопили огромные массивы разрозненных данных, которые нуждаются в структурировании.
С помощью DMP также можно монетизировать данные своих клиентов, предоставляя их для маркетинговых кампаний других брендов. При этом беспокоиться о безопасности данных не стоит: ни в одной из систем невозможно скачать идентификаторы аудиторных сегментов. На рынке представлены как коробочные варианты таких решений, так и облачные. «Например, «ЛАНИТ Омни» предлагает облачное решение RightWay DMP. Наша база данных содержит миллионы высококачественных профилей пользователей, что позволяет находить новую аудиторию по принципу look-a-like. Наши клиенты могут пользоваться высококачественными данными аудиторий других брендов, чтобы показывать им рекламу с учетом их интересов, демографии, намерений покупки и сотен других параметров, доступных в нашей таксономии», – отмечает Дмитрий Зеленко.
Но если смогли «Магнит» и Х5, со временем смогут и другие. Мы спросили у представителя ОФД, грядет ли, по его мнению, волна подобных сервисов от ритейлеров? «Случай «Магнита», скорее, уникален, – не верит в успех Антон Румянцев. – Это очень крупная розничная сеть, и мало кто из продавцов располагает таким же объемом данных. И все же каким бы крупным ни был «Магнит», он наблюдает тенденции только на собственном примере. Потребительское поведение других сегментов аудитории может значительно отличаться. Что касается появления подобных сервисов от других участников рынка, то оно весьма вероятно. Над созданием сервисов на основе данных работают множество крупных организаций в различных сферах бизнеса, и мы будем наблюдать вывод на рынок большого количества новых продуктов, большая часть из которых, по законам рынка, не будет востребована, а часть закрепится в своих нишах».
Более глубокая аналитика по поиску целевых «зерен» и отделения их от «плевел», как правило, делается компаниями-потребителями уже своими силами. Технологии, подходы и соответствующие алгоритмы вкупе с машинным обучением являются своеобразным ноу-хау этих компаний. Крупные игроки предпочитают собственные аналитические исследования, которым доверяют больше ввиду «подконтрольности и прозрачности» как данных, так и применяемого инструментария вкупе с «человеческим фактором». Однако вложенные в сбор, обработку и аналитику средства должны «работать», а инструмент и результаты его применения вполне могут быть монетизированы. Например, крупная торговая сеть, обладая своими данными и ресурсами, вполне может начать играть роль аналитического агентства и начать торговать как обезличенными данными, так и некой аналитикой, рассчитывая на различные сегменты их потребителей. Другой вопрос – будет ли эта торговая сеть торговать только своими данными, или же станет приобретать их для нужд потенциальных потребителей информации у ОФД или у других источников. Об этом говорит Дмитрий Смирнов: «Дело в том, что те данные, которыми обладает пусть даже и крупный ритейлер, мало кому интересны. Аналитика на основе этих данных будет однобока и вряд ли удовлетворит массовые потребности небольших ритейлеров. Другое дело – работа с ОФД и другими источниками информации».
Можно предположить, что развитие рынка клиентских данных пойдет в сторону покупки сервиса «доступа к озеру данных» с использованием своих инструментов анализа, а также сервиса готовой или предварительно подготовленной аналитики для дальнейшего использования или последующего анализа. Причем такой сценарий в нашей стране будет развиваться существенно быстрее, чем в среднем по миру. В этом убежден Дмитрий Смирнов: «Связано это с тем, что отечественный ритейл изначально стал развиваться на технологической базе более высокого уровня, чем мировой ритейл, и не был поставлен в рамки обязательной амортизации 20–30 лет назад внедренных решений. С учетом последних тенденций торговли и инициатив ФНС мы прочно закрепились в числе лидеров».
Купи-продай
Мы в самом начале говорили о рынке купли-продажи данных, но сосредоточились на продаже. Однако ритейлер вполне может выступить в качестве заинтересованного покупателя. С появлением инструментария онлайн-фискализации у любого ритейлера или участника рынка появляется возможность приобретения «сырых» чековых данных у операторов фискальных данных (ОФД).
Но если копнуть поглубже, то на деле такие данные не так уж и обезличены. При наличии безналичных платежей, системы лояльности, систем видеоконтроля и контроля кассовых операций не слишком сложно сопоставить конкретного покупателя и его историю потребления. При этом данных в виде ФИО и реквизитов паспорта даже не требуется. «Главное для ритейлера – определить профиль покупателя, чтобы затем использовать этот профиль, например, для прогнозов следующих покупок клиента, влиять на его покупательское поведение в виде участия в акциях или пробы новых брендов, тем или иным образом «привязывать» его к своей сети. Реальность такова, что практически любые обезличенные данные можно персонифицировать законными способами», – говорит Дмитрий Смирнов.
«Действующий закон дает операторам право на обработку фискальных данных в статистических целях, – комментирует Антон Румянцев. – Однако, как я отмечал выше, сейчас нет четкого определения понятия «обезличивание», поэтому каждый оператор фискальных данных формулирует его для себя сам. Это и приводит к тому, что существует риск продажи некоторыми ОФД данных с раскрытием или же данных, обезличенных лишь частично. Это оставляет возможность для деанонимизации».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Данные, как известно, новая нефть, а нефть можно выгодно продать. Но встает вопрос: «Продажа данных – это законно?» Если спросить у людей на улицах, все скажут: «Конечно, нет!» Но почему тогда в только что ушедшем году сразу несколько ритейлеров сообщили, что намерены извлечь прибыль из своих данных. [~PREVIEW_TEXT] => Данные, как известно, новая нефть, а нефть можно выгодно продать. Но встает вопрос: «Продажа данных – это законно?» Если спросить у людей на улицах, все скажут: «Конечно, нет!» Но почему тогда в только что ушедшем году сразу несколько ритейлеров сообщили, что намерены извлечь прибыль из своих данных. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4857 [TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:37:49 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 682 [WIDTH] => 1024 [FILE_SIZE] => 171354 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/1b4 [FILE_NAME] => 1b4889a67c5180bca211d53f5175cf43.jpg [ORIGINAL_NAME] => 413728a6c72b0c2406ba7a60177e550e.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 86b4a3eef595b4af6041e076dd4a402c [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/1b4/1b4889a67c5180bca211d53f5175cf43.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/1b4/1b4889a67c5180bca211d53f5175cf43.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/1b4/1b4889a67c5180bca211d53f5175cf43.jpg [ALT] => Ритейл качает [TITLE] => Ритейл качает ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4857 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => riteyl-kachaet [~CODE] => riteyl-kachaet [EXTERNAL_ID] => 5668 [~EXTERNAL_ID] => 5668 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 29.04.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Ритейл качает [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Ритейл качает [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Данные, как известно, новая нефть, а нефть можно выгодно продать. Но встает вопрос: «Продажа данных – это законно?» Если спросить у людей на улицах, все скажут: «Конечно, нет!» Но почему тогда в только что ушедшем году сразу несколько ритейлеров сообщили, что намерены извлечь прибыль из своих данных. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Ритейл качает [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Ритейл качает | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [8] => Array ( [ID] => 5496 [~ID] => 5496 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => На первой космической [~NAME] => На первой космической [ACTIVE_FROM_X] => 2020-02-26 19:02:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2020-02-26 19:02:00 [ACTIVE_FROM] => 26.02.2020 19:02:00 [~ACTIVE_FROM] => 26.02.2020 19:02:00 [TIMESTAMP_X] => 26.02.2020 20:09:13 [~TIMESTAMP_X] => 26.02.2020 20:09:13 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/na-pervoy-kosmicheskoy/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/na-pervoy-kosmicheskoy/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Семь раз отмерь и один раз отрежь – этот подход в розничной торговле больше не популярен. Времени на раздумья нет, ведь по соседней дорожке бегут конкуренты. Увеличение скорости внедрения разработок стало для компаний жизненно важной задачей. Именно поэтому специалисты отмечают бум DevOps в индустрии ритейла. Рассмотрим поближе, что же это такое и как эта технология позволяет настроить все ИТ-процессы в компании максимально эффективно.

Что происходило в ИТ-департаментах совсем недавно, практически вчера? Отдел разработки постепенно создавал программный код и внедрял его не раньше, чем после долгих месяцев разработки и тестирования. На местах обслуживали одну-две системы и несколько серверов. Все было медленно и печально, никто никуда не торопился, и это было правильно. А главное – ничто из вышеперечисленного почти не касалось ритейла. Мы привыкли, что одни компании пишут программы, а другие – продают хлеб. Но изменения пришли, и они были слишком резкими.
«Вы думаете, что мы сейчас конкурируем с другими ритейлерами? Ничего подобного, – заявили на недавно прошедшем форуме CNews представители «М.видео». – Теперь мы конкурируем со всеми, даже с банками. Банк выпускает красивое мобильное приложение? Нам тоже надо, и не хуже, потому что пользователи привыкли пользоваться красивыми приложениями в своих смартфонах. И им на самом деле неважно, кто из нас и сколько потратил на разработку и что при этом пережил. Они хотят, как им кажется, простых вещей, которые им показали раньше и которые им понравились. Поэтому мы должны перестать просто торговать. Нам придется стать ИТ-компанией, которая занимается розницей».
Торговые сети становятся работодателями сотни разработчиков. Например, в одном Wildberries их работает около трехсот. «Крупным ритейлерам приходится конкурировать с цифровыми технологиями, в том числе и в офлайне. Они должны иметь возможность предлагать новые «плюшки», масштабироваться точно так же, как и те, кто занимается электронной коммерцией», – говорит Давид Аветиков, старший архитектор компании Bell Integrator.
Розничная компания сегодня – это организация, работающая в первую очередь с самой требовательной аудиторией, розничными покупателями. А это значит, что ей необходимо обеспечивать очень высокую скорость изменения сервисов и продуктов, к которым у них есть доступ. «Вы знаете, кто является крупнейшим потребителем ИТ-решений в мире? Давайте посмотрим, – предлагает Денис Реймер, вице-президент «ЛАНИТ» по цифровой трансформации, руководитель DTG. – К примеру, в 2019 году только за двое суток Дня холостяка такой гигант, как Alibaba, обработал более 1,3 млрд транзакций! Так что говорить о том, что ритейл не суперскоростной потребитель ИТ, было бы не очень правильно. Сегодня онлайн-торговля и сервисы вынуждены реагировать на изменения все быстрее и быстрее».
Ритейл как никакая другая сфера зависит от покупателя: чтобы выиграть в жесткой конкурентной борьбе за аудиторию, нужно обеспечить людям максимально комфортный сервис: быстрое обслуживание, различные варианты доставки, наиболее интересный ассортимент. «Правильные решения не лежат на поверхности, – замечает Марат Акжигитов, менеджер направления разработки сервисных приложений X5 Retail Group. – Ни один маркетолог просто так не определит, что будет интересно покупателю и какие изменения внутренних процессов помогут увеличить прибыль. Необходимо анализировать данные и тестировать гипотезы, в том числе при внедрении ИТ-продуктов».
Волшебная таблетка
Быстро, небольшими итерациями и без ошибок – все это обещает DevOps. Вещь, которую хочется назвать методологией, но это определение сразу вызовет много споров. Одни соглашаются считать так, другие говорят, что это нечто другое, например, способ работы, профессиональное движение или даже философия. «DevOps – это не методология, а культура разработки. Сейчас уже недостаточно просто написать код и передать его на USB-носителе. Решение необходимо протестировать в сложной гетерогенной среде и в интеграции с внешними системами, установить в окружение заказчика, а затем мониторить и поддерживать круглосуточно», – объясняет Максим Канев, заместитель технического директора WaveAccess.
Звучит непросто? Восхитительно прямолинейное и при этом самое короткое объяснение того, что такое DevOps, дает Василий Панкратов, архитектор программного обеспечения компании Tieto: «DevOps – это когда разработчикам надоело в очередной раз готовить инструкции для сисадминов, которые все равно поймут их неправильно и выстрелят себе (а заодно и разработчикам) в колено». Разбираясь, кто кому стреляет в колено, можно сломать немало копьев. В книге «Проект «Феникс». Роман о том, как DevOps меняет бизнес к лучшему», которая по форме действительно являет собой роман с приключениями, а по сути является одним из самых захватывающих руководств по DevOps, авторы так живописуют страдания группы ИТ-сопровождения: «Никто не знает, как нам вообще взаимодействовать с разработчиками. Раньше они просто высылали нам сетевую папку и говорили: «Запускайте». У новорожденного младенца, оставленного на ступенях церкви, больше инструкций, чем получаем мы». «Разработчики просто берут привычные им инструменты и автоматизируют всю ту рутину, которую обычно принято делегировать сисадминам, – развивает мысль Василий Панкратов. – Это очередной виток развития понимания инженерами того, как надо выстраивать эксплуатацию. Development of Operations, не более».
Мы не будем занимать ничью сторону и разбирать, кто виноват в этой парочке из системного администратора и разработчика, а подобно семейному психологу выясним, как нивелировать конфликт. «Важно понимать глобальную цель, к которой мы движемся, – подчеркивает Александр Садыков, заместитель руководителя отдела тестирования компании «Инфосистемы Джет». Он рекомендует идентифицировать все «узкие» места по пути к этой цели. Следует сфокусироваться на них и поступательно двигаться вперед. Сложные проблемы не решаются революционным путем. А начать надо с построения культуры разработки и межкомандных коммуникаций.
Новая игрушка
Сам подход DevOps относительно молод – ему около шести лет. «Первые контейнеры появились в 2013 году, а первая версия Kubernetes – в 2014-м», – рассказывает Сергей Зинкевич, продакт-менеджер компании «КРОК Облачные сервисы». «DevОps не новая история, – тут же не соглашается Виктор Глембицкий, product owner manager IT в компании ITGLOBAL.COM. – Ключевые принципы были сформированы еще в 1991 году. В основе лежит простая и понятная суть «конвейера», когда работающие принципы из физического мира тестируются в виртуальном».
При первом рассмотрении DevOps кажется просто еще одним подходом среди многих других. Под статьями о DevOps часто встречаются комментарии в духе «я так и не понял, в чем здесь отличие от Scrum». Действительно, как только что-то новое уходит «в народ», возникает множество домыслов, слухов и прямого непонимания темы. «Забавный случай был в треде реддита /r/devops, – вспоминает анекдотическую ситуацию Виктор Глембицкий. – Там человек пишет: «Только что прошел на вакансию DevОps, кстати, тут кто-нибудь может подсказать, что это такое?»
Можно подумать, что вчера все становились «бирюзовыми» компаниями, а сегодня это надоело и пора внедрить что-то поновее. Так зачем рознице DevOps? Ритейлерам мало других методологий? Дело в том, что DevOps – это набор лучших практик для развертывания и поддержки технологических стеков. «Многие люди путают это с Agile или Scrum, которые являются методами управления проектами. Это связано с типичной технологической шумихой, которая выдвигает странные утверждения и объединяет понятия. Хотя внедрение DevOps также было связано с определенной «модой» на технологию, я думаю, что скорость развития этой технологии оказала большое влияние на розничный рынок, поскольку DevOps предоставила им рекомендации и доступ к лучшим практикам, – говорит Давид Аветиков. – Что касается вопроса, можно ли совместить методологии в рамках одной компании? Разумеется, вы можете использовать Agile и DevOps в работе одновременно. Например, применять Agile для управления проектами DevOps». «Agile и Scrum прямого отношения к DevOps не имеют и живут несколько в разных плоскостях. Первые – это методы управления проектами», – добавляет Василий Панкратов.
От моды, процесс, конечно, зависит, главное – не терять суть и понимать, что происходит и какие процессы стоят за маркетинговой завесой. «За 15 лет разработки я видел множество имплементаций Agile и Scrum и могу точно сказать, что ни одна из них не работала так, как написано на бумаге и как обычно позиционируется евангелистами. Есть теория, а есть практика. Есть инженеры. Есть опыт, – рассуждает Виктор Глембицкий. – От того, что компания объявит себя «бирюзовой», внедрит Scrum, Agile и сверху приправит это все DevOps, чуда не произойдет, единорогом она не станет. Это примерно то же самое, когда разработчик берет последние технологии на слуху и ваяет стартап, ожидая от этих самых технологий чуда. Он забывает о том, что все это – лишь инструмент. И намного важнее осознавать, кто этим инструментом оперирует и каких целей стремится достичь».

С помощью Agile или Scrum компания может взять под контроль отдельный подпроцесс в общем множестве бизнес-процессов. Например, разработку программного обеспечения. Что касается DevOps, то Максим Канев сравнил его с этикетом. «У себя дома каждый может жить по своим законам и нормам, но в сообществе есть свод правил, которым беспрекословно должны следовать все его участники. Так же и в DevOps. Здесь есть, например, свои варианты дресс-кода: black tie – это docker со своими системами оркестрации контейнеров (например, Mesosphere, Rancher или Kubernetes), white tie – это Enterprise-решения от Microsoft, JBoss или IBM. Я хочу сказать, что сообществом ИТ-специалистов сформулированы общепринятые нормы разработки и поставки программных продуктов, при соответствии которым все процессы становятся простыми, понятными, а главное, измеримыми, что позволяет формировать прогнозы и на каждом этапе анализировать соответствие планам».
Agile и Scrum взаимосвязаны. Эти два понятия относятся к сфере разработки ПО. У DevOps применение иное. «Это практика доставки приложения до продуктива. Речь в данном случае идет о быстром и надежном для пользователей внедрении приложений, – объясняет Сергей Зинкевич. – Ключевое значение DevOps – исключение человеческого фактора как источника ошибок при развертывании, достигаемое с помощью автоматизации».
Главный фокус DevOps – минимальный Time-To-Market при максимально достижимой надежности. «Представьте: бизнес захотел новую технологию: «3D-примерку» в интернет-магазине или «умную полку» с видеоаналитикой и цифровыми ценниками в офлайне. В ритейле ускоренный вывод в жизнь – не блажь, не «плюшка», а вопрос выживания на конкурентном рынке, – уверен Евгений Овчаров, директор по инновационным решениям Oberon. – Теперь появилась не технология даже, а философия, а за ней методология и культура, которые позволяют решать такие задачи. Тем более на конференции «DevOps в России» мы видим все больше успешных проектов и гордых своими достижениями команд».
В вашей компании не было ситуации, когда бизнес-подразделение заводило себе «придворного» программиста, чтобы оперативно решить проблему с важным продуктом? Или иметь возможность быстро починить баг, от которого стонет куча клиентов? Чтобы не нужно было объяснять универсальному отделу ИТ, что же нужно сделать, найти бюджет, встать в очередь и получить, возможно, результат, похожий на ожидаемый. «Хорошо, если это было сделано по Scrum, а то ведь даже и по Waterfall! – замечает Евгений Овчаров. – Так вот тот «бизнесовый», или «продуктовый», разработчик и был началом пути организации в DevOps. А теперь есть методология, под которой вполне может лежать Scrum и которая использует все мыслимые современные технологии по автоматизации разработки, тестирования, разворачивания и поддержки. Все это с одной главной целью – быстро решать задачи вывода функций на рынок, причем так, чтобы не утонуть потом под стогом багов из-за приоритета скорости в ущерб качеству».
DevOps Team – это команда, которая ориентирована на продукт и отвечает за него во время всего цикла его жизни. Нет больше программиста, который спросит вас: «К пуговицам претензии есть?» Продукт либо работает и приносит бизнесу деньги, либо нет. И за эту работу отвечает DevOps-команда.
Пан или пропал
Интересно, что аналитики не могут договориться, какое же место DevOps, едва появившись, занимает в нашей жизни. Доходит до мнений диаметрально противоположных. Так, по версии Gartner Hype Cycle, эта методология (давайте будем все-таки называть это так) сейчас находится на уровне «канавы разочарования». В то же время исследовательская группа Forrester называла DevOps одним из главных трендов 2018 года.
«Я бы сказал, что оба экспертных сообщества правы, – говорит Давид Аветиков. – Бизнес понял, что DevOps – это не быстрое решение всех проблем. Тем не менее пришло осознание, что DevOps – очень ценная методология, если вы готовы работать над ней. На мой взгляд, в ближайшем будущем она станет более распространенной методологией с измеряемыми ожиданиями и целями».
В течение последнего десятилетия рынок DevOps стабильно растет, рост спроса на специалистов в этой области высок как никогда. «Мы склонны считать, что методология еще долго будет оставаться востребованной, – полагает Денис Реймер. – К примеру, сообщество DevOps в России можно оценить по масштабу мероприятий, которые проходят у нас в стране. Gartner Hype Cycle только подтверждает это, так как эта технология сейчас перешла в стадию, когда специалистам стало понятно, для чего она полезна, а для чего нет. От этапа экспериментов мы переходим к формированию зрелого рынка».
DevOps является краеугольным камнем в ИТ-менеджменте. Методология обеспечивает набор лучших практик и процессов, которые действительно необходимы для управления. DevOps станет еще важнее, когда такие вещи, как SDN (Software Defined Networking), станут более распространенными. «Информационные технологии переходят от управления несколькими приложениями на одном или двух огромных мэйнфреймах к управлению сотнями микросервисов на тысячах машин. Такие методологии, как DevOps, могут помочь укротить этот хаос», – обнадеживает Давид Аветиков.
CNews в обзоре «ИТ в ритейле 2019» в свою очередь написал, что DevOps в розничных компаниях востребован как нигде. Но ведь ритейл пока, несмотря на все громкие заявления и на желания, все еще не является суперскоростным ИТ-сектором. Зачем рознице может понадобиться увеличение числа релизов ПО, их ускоренный вывод в жизнь и прочие плюсы, которые обещает внедрение DevOps? Понятно, что в современном ритейле, особенно e-commerce, многие процессы завязаны на ИТ. Сегодня любая крупная компания использует онлайн-магазин и мобильное приложение, для чего нанимает десятки, а иногда и сотни ИТ-специалистов. «Все цифровые клиентские сервисы необходимо развивать и делать это регулярно. Как показывает практика наших клиентов, серьезные изменения, такие как кастомизация страниц в приложении, добавление нового функционала, вносятся один-два раза в месяц. А менее значительные, например, исправление ошибок – практически ежедневно. Чтобы подобные изменения осуществлять быстро, часть компаний уже используют DevOps-практики. Их основная особенность – это уменьшение человеческих ошибок и как можно большая автоматизация тестирования и развертывания ПО», – поясняет Сергей Зинкевич.
Так, в X5 Retail Group довольны результатами внедрения методологии. «Внедрение DevOps помогло нашему департаменту значительно улучшить процесс работы с внутренним бизнес-заказчиком. Ранее мы готовили каждый релиз долго, иногда до двух месяцев, и внутреннему заказчику не всегда было очевидно, как это решение будет способствовать достижению маркетинговых целей. Теперь мы показываем изменения в функционале каждый день, и бизнес-заказчик может вовремя скорректировать разработку в соответствии с маркетинговой стратегией», – поясняет Марат Акжигитов.
Чем быстрее, тем лучше
Во всем, что касается современных технологий в обслуживании клиентов, Россия традиционно находится на мировом уровне. «У нас уже много команд, и в первую очередь в B2C-сегментах бизнеса, которые используют методологию и культуру DevOps для повышения своей конкурентоспособности», – говорит Евгений Овчаров.
Разработка стоит дорого, поэтому новый функционал нужно выводить быстро и небольшими итерациями, чтобы минимизировать стоимость возможных ошибок. «Одна известная торговая сеть перед тем, как запустить мобильное приложение, сначала внедрила telegram-бот – его разработка в разы дешевле и быстрее, к тому же он доступен на всех устройствах. Это позволило компании быстро и без больших затрат проверить, будут ли покупатели пользоваться мобильным продуктом и поможет ли это увеличить продажи», – говорит Марат Акжигитов.
Ускорение доставки продукта до пользователя, а также получение обратной связи – это и есть задачи методологии DevOps, поэтому в ритейле она действительно востребована. Вообще DevOps востребован везде, где есть процессы по разработке кода и продукта. Количество тех людей, кто пользуется интернет-магазинами и другими онлайн-инструментами для принятия решения о той или иной покупке, растет, соответственно, растет и значимость этих инструментов для ритейла.
«Мы можем говорить не только об интернет-магазинах, но и о собственных программных разработках ритейла, например, приложениях, которые выполняют разные задачи, но, как правило, автоматизируют работу персонала и менеджмента. Например, сеть автозаправочных станций может разрабатывать приложение, с помощью которого персонал АЗС может чек-листами отмечать свою работу, сообщать о недостаточном количестве того или иного товара, а менеджмент получает возможность контролировать загрузку АЗС, взаимодействовать с поставщиками и получать отчетную информацию», – комментирует Виктор Глембицкий.
Каждый день в ритейле измеряется выручкой, поэтому наращивание числа релизов ПО просто необходимо. «Не стоит забывать, что обновления касаются не только того, что видно покупателю, но и огромного числа внутренних систем, обеспечивающих работу гигантов интернет-индустрии. Сегодня ритейл – это уже ИТ-компания, и выигрывать в конкурентной борьбе будет тот, кто окажется быстрее», – полагает Денис Реймер. А DevOps позволяет поддерживать высокую динамику внесения изменений, а также быстро тестировать различные бизнес-гипотезы и реагировать на нештатные ситуации.
У ритейла есть многочисленные системы учета, мониторинга и аналитики (отчетности). Все они должны работать 24/7 и отвечать на запросы за доли секунды, иначе компании понесут убытки. Кроме скорости обработки данных и стабильности работы в ритейле важна способность информационной системы обрабатывать большие объемы данных и формировать предложения по оптимизации различных издержек. Например, прогнозирование просрочки товаров, пика потребления, ошибок логистики, недостачи. «Все эти алгоритмы требуют большого количества серверных мощностей, то есть процессорного времени, памяти и дискового пространства. Внедрение DevOps-практик в бизнес-процессы ритейл-компании позволяет эффективно управлять серверными мощностями, а также эффективно распределять нагрузку между серверами, чтобы обеспечить бесперебойную работу круглосуточно», – рассказывает Максим Канев.
«Истина в том, что у тех, кто понимает, для чего эта методология нужна и какие проблемы решает, все хорошо, – уверяет Василий Панкратов. – У остальных, конечно, все печально: несоответствие ожиданий полученным результатам, потраченные деньги на ненужные продукты. Не думаю, что конкретно для России тут есть какая-то особая специфика. Что касается розницы, то предположу, что раз нынче в ритейле без анализа больших данных никак, то с DevOps куда проще и быстрее «выкатывать» новые аналитические сервисы».
Именно там, где клиент уже готов платить за предлагаемый товар, ему должно быть удобно, все должно происходить легко, комфортно, надежно. Любая технология, сокращающая путь от желания клиента купить до выданного ему чека, – выгодна, необходима и подлежит внедрению со сроком «вчера». А если эта технология появилась у крупного игрока или у вашего конкурента, то дедлайн меняется на «позавчера».
«Что же DevOps обещает ритейлу? – риторически вопрошает Евгений Овчаров. – Он обещает делать все еще быстрее и в то же время еще надежнее! Это высокая скорость и надежность в забеге за востребованным функционалом, а значит, за лояльным покупателем, который продолжит приобретать у нас. Разве после этого могут быть сомнения в востребованности технологии?»
Наиболее интересные решения демонстрируют сегодня лидеры рынка. И если такие компании, как Amazon, Netflix, Walmart, заявляют о том, что они применяют DevOps, то многие расценивают это как сигнал. «Мы живем в мире, который становится все сложнее. Большинство компаний, даже вне сферы ритейла, во многом поддерживают свою конкурентоспособность благодаря качественному ПО и умению работать с ним. Так что такие основные и известные понятия практик DevOps, как непрерывная интеграция, непрерывная доставка и непрерывное тестирование, несомненно, помогут в борьбе за рынок», – считает Денис Реймер.
Игра по-крупному
Крупные ритейлеры с широким присутствием в сети и собственным ИТ-персоналом внедряют DevOps, в то время как мелкая розница, похоже, все еще покупает программное обеспечение для POS/управления запасами у вендоров. «Гиганты рынка вынуждены осваивать электронную коммерцию в первую очередь для того, чтобы выжить, и поэтому внедряют практики DevOps в работу менеджмента», – считает Давид Аветиков. По его мнению, пока вообще нельзя точно сказать, насколько DevOps популярен в рознице в целом. Он, безусловно, пользуется спросом среди компаний с большими и сложными процессами управления, например, Target и Walmart, которые имеют обширные практики DevOps, применяемые и их конкурентами из области электронной коммерции.
Иногда возникает ощущение, что DevOps у нас – это вещь, которой интересуются только в Сбербанке и в X5 Retail Group. Если это так, то, выходит, нет смысла говорить о применимости этого подхода для продуктовой розницы, ведь если несколько гигантских корпораций что-то у себя внедряют – это еще не тенденция для рынка в целом. Однако Сбербанк и X5 не были пионерами внедрения DevOps в нашей стране. Еще раньше об использовании методологии говорили их коллеги по отрасли, к примеру, «Альфа-банк» в 2016 году заявлял о существенном ускорении процессов за счет использования DevOps. «Более того, лидеры рынка публиковали данные отчетности, в которых приводились конкретные цифры эффективности, снижения затрат. Применение этой методологии – не какая-то дань моде, это естественный эволюционный процесс повышения зрелости разработки и доставки результатов разработки до клиента. Это вопрос культуры», – замечает Денис Реймер.

Нельзя исключать влияние больших игроков рынка на индустрию в целом. Допустим, условный «Ашан» разработает под себя программный комплекс, который в полной мере закроет все потребности ритейлера. Даже 1% экономии в оборотах такой крупной компании – это уже много денег. То есть будут показатели, о которых узнают другие участники рынка, в результате чего возникнет спрос на подобные решения. «Создание информационной системы под себя – решение дорогое и долгосрочное, поэтому сформируется спрос на программный комплекс – такой же качественный, но подешевле. Потом уволится сотрудник некой компании, которая занималась созданием того кастомного решения, и запустит свой стартап «Ритейл-3000». Продукт этого стартапа и будет «такой же качественный, но подешевле». Может, отдельным компаниям будет интересно самим сделать или профинансировать что-то подобное», – поясняет Максим Канев. По его словам, внедрение DevOps крупными игроками – это в любом случае прецедент, который вызовет колебания рынка, изменения в мировоззрении и подходах к обслуживанию населения. Например, какая-нибудь региональная сеть приведет свои бизнес-процессы в соответствие требованиям «Ритейл-3000» – это улучшит качество сервиса, снизит издержки бизнеса, а может, полностью поменяет подход компании к взаимоотношениям с клиентами.
DevOps не обязательно подразумевает крупных игроков. «Там, где есть команда разработки, состоящая как минимум из трех человек, – там появляется DevOps либо в виде сотрудника, либо сервиса, – говорит Виктор Глембицкий – Где есть продукт, который начинает приносить прибыль или существенно влиять на ее объемы, где есть разработка этого продукта, значит, там есть так или иначе процессы DevOps».
Вполне возможно, что существует некая минимальная ценовая планка входа в разработку, внедрение и поддержку своих продуктов с использованием DevOps. «Можно согласиться, что команду DevOps в сегменте среднего и малого бизнеса можно встретить в усеченном виде с объединением ролей бизнес-заказчика и РМ-а в одном лице и одного-двух разработчиков. Но в целом DevOps – это не технология гигантских корпораций, а методология и культура быстрого получения качественного ИТ-продукта, призванного решать важные задачи бизнеса», – дополняет Евгений Овчаров.
DevOps – это целая философия, и она никак не зависит от масштаба компании и количества штатных разработчиков. «Ее можно совершенно спокойно применять в команде из 10, 110, 1010 специалистов, – говорит Сергей Зинкевич, – а мнение, будто DevOps дорог в применении, связано, вероятно, с тем, что именно сейчас об этой практике много говорят именно представители крупного бизнеса». По его словам, в России популярность DevOps растет, но многие компании только начинают вводить эти практики в свой бизнес.
Примечательно, что в нашей стране такой подход вначале стали использовать небольшие технологические стартапы. После к DevOps обратились крупные игроки на рынке. Теперь же мы видим растущий интерес у средних по размеру организаций, и этот тренд будет заметен на протяжении следующего года.
Из слона в муху
Большие или маленькие компании – неважно. Теоретически DevOps и вовсе способен сделать из большой компании маленькую в том смысле, что поможет слишком неповоротливым корпорациям избавиться от раздутого штата ИТ-специалистов. Эксперты компании 451 Research говорят: «Можно делать хорошие приложения и сервисы, не создавая армии из 1000 или даже 100 экспертов по ИТ-операциям». Но даже этот момент вызвал спор у наших экспертов.
«Я соглашусь, – говорит Виктор Глембицкий. – Но проблема раздутого штата – это, скорее, проблема стратегии менеджмента. DevOps в данном случае может давать обратную связь о качестве тех разработчиков, которые обслуживают какой-либо проект. Тем более хорошо, когда роль DevOps находится «вне» группы разработки, и ему необязательно поддерживать дружеские отношения с коллективом. DevOps как сервис позволяет объективно сравнивать в анонимном режиме различные команды разработки у разных клиентов и давать бизнесу обратную связь по качеству кадров. Конечно, это может влиять на количество сотрудников в штате».
DevOps – это история про стык разработчиков и администраторов. «Первых становится очень много из-за тренда на цифровизацию и роста количества digital-сервисов. Вторые не успевают обрабатывать запросы от разработчиков, – объясняет Сергей Зинкевич. – Отсюда и рост популярности DevOps, который позволяет отказаться от линейного наращивания задач в расчете на одного сотрудника. Иными словами, с помощью этой практики можно, условно говоря, выполнять в три раза больше задач, увеличив штат всего на 30%».
Но вы помните, что есть и те, кто не согласен с такой постановкой вопроса в целом. «DevOps – это не метод сокращения персонала. DevOps предоставляет сотрудникам набор лучших практик и процессов для эффективного управления технологиями. Как только вы создали рабочие процессы, вы можете начать автоматизировать их. Эта автоматизация может привести к снижению количества людей. Однако, чтобы это произошло, вы должны иметь определенные политики/процедуры, и вам следует приложить усилия для их автоматизации», – предлагает спуститься с небес на землю Давид Аветиков.
В плюс
Хорошо, допустим, мы понимаем, что получат крупные игроки от внедрения новых практик. Ведь крупная компания всегда испытывает сложности с коммуникацией между отделами, сталкивается с тем, что сотрудники думают, отфутболивая проблемы: «Ура, мяч не на моей стороне». Наконец, чем больше компания, тем больше у нее софта, который надо разрабатывать, тестировать, внедрять и поддерживать. Но какие плюсы может найти для себя мелкая торговая сеть в том, чтобы начать жить так, как завещает философия DevOps?
Во-первых, все сильно зависит от размаха ИТ-ландшафта этой условной маленькой торговой сети и общего желания развивать свое ИТ. Подробностями делится Василий Панкратов: «Если весь ИТ-ландшафт состоит из одной 1C, одного монолитного приложения, которое никто не трогает, и одной базы данных, то вряд ли DevOps как-то упростит жизнь. Но, опять же, если у этой сети есть свои специалисты, которые реально что-то разрабатывают и вообще подают признаки жизни, то DevOps в таком случае просто автоматизирует значительную часть их рутины, а значит, они смогут выполнять больше полезной работы».
DevOps – это решение задач командами, ориентированными на продукт. Они делают все – от анализа потребностей заказчика до ежедневной поддержки. «Маленькая сеть, возможно, не станет разрабатывать собственный уникальный продукт, но вполне может вести проект по внедрению и адаптации необходимых и доступных на рынке технологий по DevOps. И это позволит выигрывать от скорости и надежности внедрения», – считает Евгений Овчаров.
Мелкие торговые сети получат то, что дает DevOps любым командам независимо от их места в рейтинге топ-100. «Разработчики будут больше погружены в продуктовые цели их продуктов, стремления к автоматизации и ликвидации рутинного труда будут общими, а пользователи будут получать продукт без ошибок», – перечисляет Денис Реймер.
Деньги любят счет
Когда адепты нового мышления описывают прелести своего подхода, это всегда звучит заманчиво. Давайте же примерно представим, насколько затратен для ритейлера DevOps. Параметров для оценки процесса довольно много. Если мы говорим о DevOps как о сервисе, то его стоимость сравнима со стоимостью качественного специалиста. «Оправдывать внедрение в глазах финансового отдела нет необходимости, – успокаивает Виктор Глембицкий. – Да и принимает решения не всегда финансовый отдел. Необходимо выявить ключевые показатели, которые влияют на прибыль, и планомерно их достигнуть. Как бы вы объяснили конкурентам господина Форда, что конвейер в общем-то неплохое изобретение?»
Если у вас уже есть отдел ИТ, если вы уже разрабатываете или внедряете ИТ-продукты и сервисы для бизнеса, то очень даже может оказаться, что переход на DevOps (после подсчетов общих результатов) даст заметный финансовый выигрыш. Но вот что делать руководителю бизнес-подразделения, который хочет собрать свою первую DevOps-команду для внедрения и поддержки нового ИТ-сервиса? Взять в бизнес-подразделение аналитика, проектного менеджера, нескольких разработчиков-тестеров? Как на старте доказать, что внедрение новой системы прайс-сканирования в зале по DevOps увеличит продажи, а эффект покроет издержки? Это трудно. Рассказывает Евгений Овчаров: «Вполне может оказаться, что прямой подсчет не даст нужного эффекта, и один проект, один продукт или сервис не покроют вложений в команду DevOps. Но после первого продукта будет второй, за ним третий. И покупатели, пользующиеся вашими современными сервисами, купят у вашей компании и второй, и третий раз. Умеете считать увеличение выручки от возвращающихся покупателей? Теперь научите этому и ваш финансовый отдел».
При грамотном подходе, скорее всего, затраты будут ниже, уверен Василий Панкратов. По его мнению, основная затрата тут на найм одного-двух грамотных DevOps-инженеров, которые смогут внедрить нужные решения и процессы, а также обучить штат. Привычные инженеры эксплуатации в данном случае практически не нужны: в их обязанностях останется разве что дежурство, а кто-то вообще обходится без них.
С помощью DevOps удается найти новый баланс ресурсов. Так считает Сергей Зинкевич: «С одной стороны, необходимо оплачивать поддержку вычислительного кластера, на котором работает микросервисная архитектура. С другой – затраты на персонал в целом уменьшаются: на одного разработчика приходится меньше администраторов».
Чтобы внедрить DevOps, может потребоваться много времени и ресурсов: это обновление собственной инфраструктуры или переезд в ЦОД, доработка бизнес-процессов, внедрение новых подходов и обучение кадров. Но стратегическим результатом будет относительное снижение издержек, то есть увеличение прибыли. «Один наш проект потребовал два года работы большой команды специалистов, что обошлось заказчику в $5 млн, – приводит реальные цифры Максим Канев. – В результате бизнес снизил расходы на инфраструктуру и разработку на 60%, или на $6,5 млн в год».
Еще одним кейсом делится Давид Аветиков: «Могу сказать, что в одной ритейл-компании, которая приносила доход более $150 млн в год и управляла от 20 000 до 50 000 рабочих мест в более чем 80 странах мира, DevOps стал огромной победой. Компании понадобилось три–пять лет, чтобы добиться успеха в работе с данной методологией. DevOps позволил бизнесу более плавно развертывать новые сервисы, быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и повышать производительность для конечных пользователей».
Только вперед
От чего зависит успех внедрения DevOps, сказать сложно, ведь хорошее завершение дел всегда является результатом сочетания самых разных обстоятельств. Однако мы все-таки заставили экспертов поразмышлять над этим вопросом. Как считают в компании «КРОК», успех DevOps зависит от двух факторов. Во-первых, нужно понять, на базе какой инфраструктуры он будет работать. Если это монолит с унаследованными системами, то предварительно нужно полностью перестроить все ИТ. Если подобное невозможно, лучше оставить как есть.
Во-вторых, надо найти внутри или вовне компании экспертов, которые разбираются в том, как DevOps должен работать на практике. Наиболее частая ошибка, когда компания поручает специалисту без должных компетенций разобраться в теме. В результате это приводит к разочарованию и лишним тратам. Также иногда компании без предварительного анализа инфраструктуры и проектирования внедряют контейнеры, а потом среда разрастается, становится очень сложно ей управлять.
Что касается техник DevOps, то тут начинать стоит с простых вещей, например, с автоматизации создания тестовых данных. «Это уже даст большой прирост в скорости доставки изменений. Далее поэтапно внедрять автоматизированную сборку приложения, выкладку на тестовую среду. Автоматизированное тестирование – ключевая составляющая процесса. Важно соблюсти все технические принципы DevOps для тестовых и продуктивных сред – это также позволит минимизировать новые проблемы», – говорит Александр Садыков. Кроме этого, важным моментом является сохранение экспертизы по наработанным материалам и детальное документирование всех процессов.
Для успешного внедрения DevOps нужно несколько факторов. Прежде всего эта методология не должна внедряться «сверху», по приказу, сначала ее должны оценить сами разработчики. Для этого необходимо разговаривать с командой, выяснять потребности и постепенно менять ее мировоззрение. Как и любую другую методологию, DevOps не стоит пытаться реализовать целиком, по всем пунктам, потому как в каждой компании свои особенности бизнес-процессов и ИТ-продуктов. Еще одно важное условие – бизнес должен быть готов постоянно давать разработчикам обратную связь. «Например, мы в дирекции больших данных X5 Retail Group часто общаемся с категорийными менеджерами, которые знают свой товар и историю продаж. Они всегда могут рассказать, что важно для покупателя», – поясняет Марат Акжигитов. С ним согласен Александр Садыков. «Команду нужно заинтересовать преимуществами, которые она получит от внедрения нового подхода, и объяснить, что кроется за увеличением накладных расходов на начальном этапе, – считает он.
Предельно прагматичный совет ритейлеру, который хочет перейти на новую методологию, но не знает, с чего начать, дает Василий Панкратов: «Прежде всего надо просто собрать старших программистов и спросить их, а надо ли оно им. В большинстве случаев они уже сами хотя бы интуитивно понимают, нужно ли им, а если нужно, то зачем и как именно».
Хрустальный шар
Ждет ли DevOps светлое будущее или он все же утонет в гартнеровской канаве, покажет время. А пока мы можем дать небольшой прогноз относительно развития и внедрений DevOps в целом и в ритейле в частности. Так, по мнению представителей X5 Retail Group, DevOps в ритейле только начинает развиваться и, скорее всего, получит большое распространение, так как эта методология напрямую связана с конкурентным преимуществом и увеличением прибыли.
«Мы в нашем департаменте больших данных начали использовать методологию DevOps чуть больше года назад, – рассказывает Марат Акжигитов, – и если тогда даже небольшие обновления готовились довольно долго (некоторые до двух месяцев), то в настоящий момент мы можем получать обратную связь по запущенным функциям ежедневно».
Но для распространения DevOps потребуется некоторое время: далеко не все разработчики сейчас готовы к тому, что функция, которая была сделана ими сегодня, завтра уже может работать в магазине, собирая обратную связь от покупателей. Они хотят больше тестирования и проверок, но DevOps предполагает противоположный подход: пробовать быстро, выбирать лучшее. Если что-то пойдет не так, последний релиз всегда можно «откатить» назад. Есть такой подход для безопасного выпуска нового кода – «канареечное развертывание», когда сервис выпускается в продакшн по частям, результаты работы этих частей отслеживаются, и при неудовлетворительных показателях можно выполнить откат к предыдущему состоянию.
«Все идет к тому, что это просто станет само собой разумеющимся индустриальным стандартом. Умные ребята уже давно используют DevOps, остальные потихоньку подтягиваются. В общем-то в этой методологии нет ничего принципиально нового. Continuous Integration и Continuous Delivery существуют уже давно, Zabbix и подобные системы мониторинга использует каждый серьезный бизнес, решения по управлению кластером в том или ином виде существуют тоже очень давно, от средств управления Application-серверами до инструментов по типу VMWare vSphere. Про Git я вообще молчу. Просто сейчас у нас есть понимание того, как это все склеить вместе и, главное, открытые инструменты, чтобы все это безболезненно реализовывать (gitlab, docker, Kubernetes)», – углубляется в детали Василий Панкратов.
DevOps постепенно разовьется в DigitalOps (и Gartner уже ввел этот термин), что позволит к процессу разработки и поставки изменений добавить и уровень бизнес-сервиса. «Фактически цель всех этих перемен в том, чтобы «хотелки» бизнеса появлялись в промышленном решении с минимальными временными затратами и трудностями», – заключает Денис Реймер.
Что такое DevOps
DevOps – это акроним от английских слов development («разработка») и operations («функционирование»). Термин означает сочетание разработки и эксплуатации программного обеспечения, в результате которого люди, технологии и процессы объединяются, а разрозненные ранее отделы координируют свои действия и создают более качественные продукты.
Основные ошибки DevOps-инициатив по версии компании Tieto
• Непонимание, какие конкретно задачи должны решаться.
• Принятие таких решений на уровне менеджмента, а не на уровне ИТ.
• Попытка сделать из рядовых сисадминов DevOps-инженеров.
• Покупка сомнительных программных продуктов. Кто-то до сих пор считает, что внедрить DevOps означает просто купить XLDeploy.
[~DETAIL_TEXT] =>
Семь раз отмерь и один раз отрежь – этот подход в розничной торговле больше не популярен. Времени на раздумья нет, ведь по соседней дорожке бегут конкуренты. Увеличение скорости внедрения разработок стало для компаний жизненно важной задачей. Именно поэтому специалисты отмечают бум DevOps в индустрии ритейла. Рассмотрим поближе, что же это такое и как эта технология позволяет настроить все ИТ-процессы в компании максимально эффективно.

Что происходило в ИТ-департаментах совсем недавно, практически вчера? Отдел разработки постепенно создавал программный код и внедрял его не раньше, чем после долгих месяцев разработки и тестирования. На местах обслуживали одну-две системы и несколько серверов. Все было медленно и печально, никто никуда не торопился, и это было правильно. А главное – ничто из вышеперечисленного почти не касалось ритейла. Мы привыкли, что одни компании пишут программы, а другие – продают хлеб. Но изменения пришли, и они были слишком резкими.
«Вы думаете, что мы сейчас конкурируем с другими ритейлерами? Ничего подобного, – заявили на недавно прошедшем форуме CNews представители «М.видео». – Теперь мы конкурируем со всеми, даже с банками. Банк выпускает красивое мобильное приложение? Нам тоже надо, и не хуже, потому что пользователи привыкли пользоваться красивыми приложениями в своих смартфонах. И им на самом деле неважно, кто из нас и сколько потратил на разработку и что при этом пережил. Они хотят, как им кажется, простых вещей, которые им показали раньше и которые им понравились. Поэтому мы должны перестать просто торговать. Нам придется стать ИТ-компанией, которая занимается розницей».
Торговые сети становятся работодателями сотни разработчиков. Например, в одном Wildberries их работает около трехсот. «Крупным ритейлерам приходится конкурировать с цифровыми технологиями, в том числе и в офлайне. Они должны иметь возможность предлагать новые «плюшки», масштабироваться точно так же, как и те, кто занимается электронной коммерцией», – говорит Давид Аветиков, старший архитектор компании Bell Integrator.
Розничная компания сегодня – это организация, работающая в первую очередь с самой требовательной аудиторией, розничными покупателями. А это значит, что ей необходимо обеспечивать очень высокую скорость изменения сервисов и продуктов, к которым у них есть доступ. «Вы знаете, кто является крупнейшим потребителем ИТ-решений в мире? Давайте посмотрим, – предлагает Денис Реймер, вице-президент «ЛАНИТ» по цифровой трансформации, руководитель DTG. – К примеру, в 2019 году только за двое суток Дня холостяка такой гигант, как Alibaba, обработал более 1,3 млрд транзакций! Так что говорить о том, что ритейл не суперскоростной потребитель ИТ, было бы не очень правильно. Сегодня онлайн-торговля и сервисы вынуждены реагировать на изменения все быстрее и быстрее».
Ритейл как никакая другая сфера зависит от покупателя: чтобы выиграть в жесткой конкурентной борьбе за аудиторию, нужно обеспечить людям максимально комфортный сервис: быстрое обслуживание, различные варианты доставки, наиболее интересный ассортимент. «Правильные решения не лежат на поверхности, – замечает Марат Акжигитов, менеджер направления разработки сервисных приложений X5 Retail Group. – Ни один маркетолог просто так не определит, что будет интересно покупателю и какие изменения внутренних процессов помогут увеличить прибыль. Необходимо анализировать данные и тестировать гипотезы, в том числе при внедрении ИТ-продуктов».
Волшебная таблетка
Быстро, небольшими итерациями и без ошибок – все это обещает DevOps. Вещь, которую хочется назвать методологией, но это определение сразу вызовет много споров. Одни соглашаются считать так, другие говорят, что это нечто другое, например, способ работы, профессиональное движение или даже философия. «DevOps – это не методология, а культура разработки. Сейчас уже недостаточно просто написать код и передать его на USB-носителе. Решение необходимо протестировать в сложной гетерогенной среде и в интеграции с внешними системами, установить в окружение заказчика, а затем мониторить и поддерживать круглосуточно», – объясняет Максим Канев, заместитель технического директора WaveAccess.
Звучит непросто? Восхитительно прямолинейное и при этом самое короткое объяснение того, что такое DevOps, дает Василий Панкратов, архитектор программного обеспечения компании Tieto: «DevOps – это когда разработчикам надоело в очередной раз готовить инструкции для сисадминов, которые все равно поймут их неправильно и выстрелят себе (а заодно и разработчикам) в колено». Разбираясь, кто кому стреляет в колено, можно сломать немало копьев. В книге «Проект «Феникс». Роман о том, как DevOps меняет бизнес к лучшему», которая по форме действительно являет собой роман с приключениями, а по сути является одним из самых захватывающих руководств по DevOps, авторы так живописуют страдания группы ИТ-сопровождения: «Никто не знает, как нам вообще взаимодействовать с разработчиками. Раньше они просто высылали нам сетевую папку и говорили: «Запускайте». У новорожденного младенца, оставленного на ступенях церкви, больше инструкций, чем получаем мы». «Разработчики просто берут привычные им инструменты и автоматизируют всю ту рутину, которую обычно принято делегировать сисадминам, – развивает мысль Василий Панкратов. – Это очередной виток развития понимания инженерами того, как надо выстраивать эксплуатацию. Development of Operations, не более».
Мы не будем занимать ничью сторону и разбирать, кто виноват в этой парочке из системного администратора и разработчика, а подобно семейному психологу выясним, как нивелировать конфликт. «Важно понимать глобальную цель, к которой мы движемся, – подчеркивает Александр Садыков, заместитель руководителя отдела тестирования компании «Инфосистемы Джет». Он рекомендует идентифицировать все «узкие» места по пути к этой цели. Следует сфокусироваться на них и поступательно двигаться вперед. Сложные проблемы не решаются революционным путем. А начать надо с построения культуры разработки и межкомандных коммуникаций.
Новая игрушка
Сам подход DevOps относительно молод – ему около шести лет. «Первые контейнеры появились в 2013 году, а первая версия Kubernetes – в 2014-м», – рассказывает Сергей Зинкевич, продакт-менеджер компании «КРОК Облачные сервисы». «DevОps не новая история, – тут же не соглашается Виктор Глембицкий, product owner manager IT в компании ITGLOBAL.COM. – Ключевые принципы были сформированы еще в 1991 году. В основе лежит простая и понятная суть «конвейера», когда работающие принципы из физического мира тестируются в виртуальном».
При первом рассмотрении DevOps кажется просто еще одним подходом среди многих других. Под статьями о DevOps часто встречаются комментарии в духе «я так и не понял, в чем здесь отличие от Scrum». Действительно, как только что-то новое уходит «в народ», возникает множество домыслов, слухов и прямого непонимания темы. «Забавный случай был в треде реддита /r/devops, – вспоминает анекдотическую ситуацию Виктор Глембицкий. – Там человек пишет: «Только что прошел на вакансию DevОps, кстати, тут кто-нибудь может подсказать, что это такое?»
Можно подумать, что вчера все становились «бирюзовыми» компаниями, а сегодня это надоело и пора внедрить что-то поновее. Так зачем рознице DevOps? Ритейлерам мало других методологий? Дело в том, что DevOps – это набор лучших практик для развертывания и поддержки технологических стеков. «Многие люди путают это с Agile или Scrum, которые являются методами управления проектами. Это связано с типичной технологической шумихой, которая выдвигает странные утверждения и объединяет понятия. Хотя внедрение DevOps также было связано с определенной «модой» на технологию, я думаю, что скорость развития этой технологии оказала большое влияние на розничный рынок, поскольку DevOps предоставила им рекомендации и доступ к лучшим практикам, – говорит Давид Аветиков. – Что касается вопроса, можно ли совместить методологии в рамках одной компании? Разумеется, вы можете использовать Agile и DevOps в работе одновременно. Например, применять Agile для управления проектами DevOps». «Agile и Scrum прямого отношения к DevOps не имеют и живут несколько в разных плоскостях. Первые – это методы управления проектами», – добавляет Василий Панкратов.
От моды, процесс, конечно, зависит, главное – не терять суть и понимать, что происходит и какие процессы стоят за маркетинговой завесой. «За 15 лет разработки я видел множество имплементаций Agile и Scrum и могу точно сказать, что ни одна из них не работала так, как написано на бумаге и как обычно позиционируется евангелистами. Есть теория, а есть практика. Есть инженеры. Есть опыт, – рассуждает Виктор Глембицкий. – От того, что компания объявит себя «бирюзовой», внедрит Scrum, Agile и сверху приправит это все DevOps, чуда не произойдет, единорогом она не станет. Это примерно то же самое, когда разработчик берет последние технологии на слуху и ваяет стартап, ожидая от этих самых технологий чуда. Он забывает о том, что все это – лишь инструмент. И намного важнее осознавать, кто этим инструментом оперирует и каких целей стремится достичь».

С помощью Agile или Scrum компания может взять под контроль отдельный подпроцесс в общем множестве бизнес-процессов. Например, разработку программного обеспечения. Что касается DevOps, то Максим Канев сравнил его с этикетом. «У себя дома каждый может жить по своим законам и нормам, но в сообществе есть свод правил, которым беспрекословно должны следовать все его участники. Так же и в DevOps. Здесь есть, например, свои варианты дресс-кода: black tie – это docker со своими системами оркестрации контейнеров (например, Mesosphere, Rancher или Kubernetes), white tie – это Enterprise-решения от Microsoft, JBoss или IBM. Я хочу сказать, что сообществом ИТ-специалистов сформулированы общепринятые нормы разработки и поставки программных продуктов, при соответствии которым все процессы становятся простыми, понятными, а главное, измеримыми, что позволяет формировать прогнозы и на каждом этапе анализировать соответствие планам».
Agile и Scrum взаимосвязаны. Эти два понятия относятся к сфере разработки ПО. У DevOps применение иное. «Это практика доставки приложения до продуктива. Речь в данном случае идет о быстром и надежном для пользователей внедрении приложений, – объясняет Сергей Зинкевич. – Ключевое значение DevOps – исключение человеческого фактора как источника ошибок при развертывании, достигаемое с помощью автоматизации».
Главный фокус DevOps – минимальный Time-To-Market при максимально достижимой надежности. «Представьте: бизнес захотел новую технологию: «3D-примерку» в интернет-магазине или «умную полку» с видеоаналитикой и цифровыми ценниками в офлайне. В ритейле ускоренный вывод в жизнь – не блажь, не «плюшка», а вопрос выживания на конкурентном рынке, – уверен Евгений Овчаров, директор по инновационным решениям Oberon. – Теперь появилась не технология даже, а философия, а за ней методология и культура, которые позволяют решать такие задачи. Тем более на конференции «DevOps в России» мы видим все больше успешных проектов и гордых своими достижениями команд».
В вашей компании не было ситуации, когда бизнес-подразделение заводило себе «придворного» программиста, чтобы оперативно решить проблему с важным продуктом? Или иметь возможность быстро починить баг, от которого стонет куча клиентов? Чтобы не нужно было объяснять универсальному отделу ИТ, что же нужно сделать, найти бюджет, встать в очередь и получить, возможно, результат, похожий на ожидаемый. «Хорошо, если это было сделано по Scrum, а то ведь даже и по Waterfall! – замечает Евгений Овчаров. – Так вот тот «бизнесовый», или «продуктовый», разработчик и был началом пути организации в DevOps. А теперь есть методология, под которой вполне может лежать Scrum и которая использует все мыслимые современные технологии по автоматизации разработки, тестирования, разворачивания и поддержки. Все это с одной главной целью – быстро решать задачи вывода функций на рынок, причем так, чтобы не утонуть потом под стогом багов из-за приоритета скорости в ущерб качеству».
DevOps Team – это команда, которая ориентирована на продукт и отвечает за него во время всего цикла его жизни. Нет больше программиста, который спросит вас: «К пуговицам претензии есть?» Продукт либо работает и приносит бизнесу деньги, либо нет. И за эту работу отвечает DevOps-команда.
Пан или пропал
Интересно, что аналитики не могут договориться, какое же место DevOps, едва появившись, занимает в нашей жизни. Доходит до мнений диаметрально противоположных. Так, по версии Gartner Hype Cycle, эта методология (давайте будем все-таки называть это так) сейчас находится на уровне «канавы разочарования». В то же время исследовательская группа Forrester называла DevOps одним из главных трендов 2018 года.
«Я бы сказал, что оба экспертных сообщества правы, – говорит Давид Аветиков. – Бизнес понял, что DevOps – это не быстрое решение всех проблем. Тем не менее пришло осознание, что DevOps – очень ценная методология, если вы готовы работать над ней. На мой взгляд, в ближайшем будущем она станет более распространенной методологией с измеряемыми ожиданиями и целями».
В течение последнего десятилетия рынок DevOps стабильно растет, рост спроса на специалистов в этой области высок как никогда. «Мы склонны считать, что методология еще долго будет оставаться востребованной, – полагает Денис Реймер. – К примеру, сообщество DevOps в России можно оценить по масштабу мероприятий, которые проходят у нас в стране. Gartner Hype Cycle только подтверждает это, так как эта технология сейчас перешла в стадию, когда специалистам стало понятно, для чего она полезна, а для чего нет. От этапа экспериментов мы переходим к формированию зрелого рынка».
DevOps является краеугольным камнем в ИТ-менеджменте. Методология обеспечивает набор лучших практик и процессов, которые действительно необходимы для управления. DevOps станет еще важнее, когда такие вещи, как SDN (Software Defined Networking), станут более распространенными. «Информационные технологии переходят от управления несколькими приложениями на одном или двух огромных мэйнфреймах к управлению сотнями микросервисов на тысячах машин. Такие методологии, как DevOps, могут помочь укротить этот хаос», – обнадеживает Давид Аветиков.
CNews в обзоре «ИТ в ритейле 2019» в свою очередь написал, что DevOps в розничных компаниях востребован как нигде. Но ведь ритейл пока, несмотря на все громкие заявления и на желания, все еще не является суперскоростным ИТ-сектором. Зачем рознице может понадобиться увеличение числа релизов ПО, их ускоренный вывод в жизнь и прочие плюсы, которые обещает внедрение DevOps? Понятно, что в современном ритейле, особенно e-commerce, многие процессы завязаны на ИТ. Сегодня любая крупная компания использует онлайн-магазин и мобильное приложение, для чего нанимает десятки, а иногда и сотни ИТ-специалистов. «Все цифровые клиентские сервисы необходимо развивать и делать это регулярно. Как показывает практика наших клиентов, серьезные изменения, такие как кастомизация страниц в приложении, добавление нового функционала, вносятся один-два раза в месяц. А менее значительные, например, исправление ошибок – практически ежедневно. Чтобы подобные изменения осуществлять быстро, часть компаний уже используют DevOps-практики. Их основная особенность – это уменьшение человеческих ошибок и как можно большая автоматизация тестирования и развертывания ПО», – поясняет Сергей Зинкевич.
Так, в X5 Retail Group довольны результатами внедрения методологии. «Внедрение DevOps помогло нашему департаменту значительно улучшить процесс работы с внутренним бизнес-заказчиком. Ранее мы готовили каждый релиз долго, иногда до двух месяцев, и внутреннему заказчику не всегда было очевидно, как это решение будет способствовать достижению маркетинговых целей. Теперь мы показываем изменения в функционале каждый день, и бизнес-заказчик может вовремя скорректировать разработку в соответствии с маркетинговой стратегией», – поясняет Марат Акжигитов.
Чем быстрее, тем лучше
Во всем, что касается современных технологий в обслуживании клиентов, Россия традиционно находится на мировом уровне. «У нас уже много команд, и в первую очередь в B2C-сегментах бизнеса, которые используют методологию и культуру DevOps для повышения своей конкурентоспособности», – говорит Евгений Овчаров.
Разработка стоит дорого, поэтому новый функционал нужно выводить быстро и небольшими итерациями, чтобы минимизировать стоимость возможных ошибок. «Одна известная торговая сеть перед тем, как запустить мобильное приложение, сначала внедрила telegram-бот – его разработка в разы дешевле и быстрее, к тому же он доступен на всех устройствах. Это позволило компании быстро и без больших затрат проверить, будут ли покупатели пользоваться мобильным продуктом и поможет ли это увеличить продажи», – говорит Марат Акжигитов.
Ускорение доставки продукта до пользователя, а также получение обратной связи – это и есть задачи методологии DevOps, поэтому в ритейле она действительно востребована. Вообще DevOps востребован везде, где есть процессы по разработке кода и продукта. Количество тех людей, кто пользуется интернет-магазинами и другими онлайн-инструментами для принятия решения о той или иной покупке, растет, соответственно, растет и значимость этих инструментов для ритейла.
«Мы можем говорить не только об интернет-магазинах, но и о собственных программных разработках ритейла, например, приложениях, которые выполняют разные задачи, но, как правило, автоматизируют работу персонала и менеджмента. Например, сеть автозаправочных станций может разрабатывать приложение, с помощью которого персонал АЗС может чек-листами отмечать свою работу, сообщать о недостаточном количестве того или иного товара, а менеджмент получает возможность контролировать загрузку АЗС, взаимодействовать с поставщиками и получать отчетную информацию», – комментирует Виктор Глембицкий.
Каждый день в ритейле измеряется выручкой, поэтому наращивание числа релизов ПО просто необходимо. «Не стоит забывать, что обновления касаются не только того, что видно покупателю, но и огромного числа внутренних систем, обеспечивающих работу гигантов интернет-индустрии. Сегодня ритейл – это уже ИТ-компания, и выигрывать в конкурентной борьбе будет тот, кто окажется быстрее», – полагает Денис Реймер. А DevOps позволяет поддерживать высокую динамику внесения изменений, а также быстро тестировать различные бизнес-гипотезы и реагировать на нештатные ситуации.
У ритейла есть многочисленные системы учета, мониторинга и аналитики (отчетности). Все они должны работать 24/7 и отвечать на запросы за доли секунды, иначе компании понесут убытки. Кроме скорости обработки данных и стабильности работы в ритейле важна способность информационной системы обрабатывать большие объемы данных и формировать предложения по оптимизации различных издержек. Например, прогнозирование просрочки товаров, пика потребления, ошибок логистики, недостачи. «Все эти алгоритмы требуют большого количества серверных мощностей, то есть процессорного времени, памяти и дискового пространства. Внедрение DevOps-практик в бизнес-процессы ритейл-компании позволяет эффективно управлять серверными мощностями, а также эффективно распределять нагрузку между серверами, чтобы обеспечить бесперебойную работу круглосуточно», – рассказывает Максим Канев.
«Истина в том, что у тех, кто понимает, для чего эта методология нужна и какие проблемы решает, все хорошо, – уверяет Василий Панкратов. – У остальных, конечно, все печально: несоответствие ожиданий полученным результатам, потраченные деньги на ненужные продукты. Не думаю, что конкретно для России тут есть какая-то особая специфика. Что касается розницы, то предположу, что раз нынче в ритейле без анализа больших данных никак, то с DevOps куда проще и быстрее «выкатывать» новые аналитические сервисы».
Именно там, где клиент уже готов платить за предлагаемый товар, ему должно быть удобно, все должно происходить легко, комфортно, надежно. Любая технология, сокращающая путь от желания клиента купить до выданного ему чека, – выгодна, необходима и подлежит внедрению со сроком «вчера». А если эта технология появилась у крупного игрока или у вашего конкурента, то дедлайн меняется на «позавчера».
«Что же DevOps обещает ритейлу? – риторически вопрошает Евгений Овчаров. – Он обещает делать все еще быстрее и в то же время еще надежнее! Это высокая скорость и надежность в забеге за востребованным функционалом, а значит, за лояльным покупателем, который продолжит приобретать у нас. Разве после этого могут быть сомнения в востребованности технологии?»
Наиболее интересные решения демонстрируют сегодня лидеры рынка. И если такие компании, как Amazon, Netflix, Walmart, заявляют о том, что они применяют DevOps, то многие расценивают это как сигнал. «Мы живем в мире, который становится все сложнее. Большинство компаний, даже вне сферы ритейла, во многом поддерживают свою конкурентоспособность благодаря качественному ПО и умению работать с ним. Так что такие основные и известные понятия практик DevOps, как непрерывная интеграция, непрерывная доставка и непрерывное тестирование, несомненно, помогут в борьбе за рынок», – считает Денис Реймер.
Игра по-крупному
Крупные ритейлеры с широким присутствием в сети и собственным ИТ-персоналом внедряют DevOps, в то время как мелкая розница, похоже, все еще покупает программное обеспечение для POS/управления запасами у вендоров. «Гиганты рынка вынуждены осваивать электронную коммерцию в первую очередь для того, чтобы выжить, и поэтому внедряют практики DevOps в работу менеджмента», – считает Давид Аветиков. По его мнению, пока вообще нельзя точно сказать, насколько DevOps популярен в рознице в целом. Он, безусловно, пользуется спросом среди компаний с большими и сложными процессами управления, например, Target и Walmart, которые имеют обширные практики DevOps, применяемые и их конкурентами из области электронной коммерции.
Иногда возникает ощущение, что DevOps у нас – это вещь, которой интересуются только в Сбербанке и в X5 Retail Group. Если это так, то, выходит, нет смысла говорить о применимости этого подхода для продуктовой розницы, ведь если несколько гигантских корпораций что-то у себя внедряют – это еще не тенденция для рынка в целом. Однако Сбербанк и X5 не были пионерами внедрения DevOps в нашей стране. Еще раньше об использовании методологии говорили их коллеги по отрасли, к примеру, «Альфа-банк» в 2016 году заявлял о существенном ускорении процессов за счет использования DevOps. «Более того, лидеры рынка публиковали данные отчетности, в которых приводились конкретные цифры эффективности, снижения затрат. Применение этой методологии – не какая-то дань моде, это естественный эволюционный процесс повышения зрелости разработки и доставки результатов разработки до клиента. Это вопрос культуры», – замечает Денис Реймер.

Нельзя исключать влияние больших игроков рынка на индустрию в целом. Допустим, условный «Ашан» разработает под себя программный комплекс, который в полной мере закроет все потребности ритейлера. Даже 1% экономии в оборотах такой крупной компании – это уже много денег. То есть будут показатели, о которых узнают другие участники рынка, в результате чего возникнет спрос на подобные решения. «Создание информационной системы под себя – решение дорогое и долгосрочное, поэтому сформируется спрос на программный комплекс – такой же качественный, но подешевле. Потом уволится сотрудник некой компании, которая занималась созданием того кастомного решения, и запустит свой стартап «Ритейл-3000». Продукт этого стартапа и будет «такой же качественный, но подешевле». Может, отдельным компаниям будет интересно самим сделать или профинансировать что-то подобное», – поясняет Максим Канев. По его словам, внедрение DevOps крупными игроками – это в любом случае прецедент, который вызовет колебания рынка, изменения в мировоззрении и подходах к обслуживанию населения. Например, какая-нибудь региональная сеть приведет свои бизнес-процессы в соответствие требованиям «Ритейл-3000» – это улучшит качество сервиса, снизит издержки бизнеса, а может, полностью поменяет подход компании к взаимоотношениям с клиентами.
DevOps не обязательно подразумевает крупных игроков. «Там, где есть команда разработки, состоящая как минимум из трех человек, – там появляется DevOps либо в виде сотрудника, либо сервиса, – говорит Виктор Глембицкий – Где есть продукт, который начинает приносить прибыль или существенно влиять на ее объемы, где есть разработка этого продукта, значит, там есть так или иначе процессы DevOps».
Вполне возможно, что существует некая минимальная ценовая планка входа в разработку, внедрение и поддержку своих продуктов с использованием DevOps. «Можно согласиться, что команду DevOps в сегменте среднего и малого бизнеса можно встретить в усеченном виде с объединением ролей бизнес-заказчика и РМ-а в одном лице и одного-двух разработчиков. Но в целом DevOps – это не технология гигантских корпораций, а методология и культура быстрого получения качественного ИТ-продукта, призванного решать важные задачи бизнеса», – дополняет Евгений Овчаров.
DevOps – это целая философия, и она никак не зависит от масштаба компании и количества штатных разработчиков. «Ее можно совершенно спокойно применять в команде из 10, 110, 1010 специалистов, – говорит Сергей Зинкевич, – а мнение, будто DevOps дорог в применении, связано, вероятно, с тем, что именно сейчас об этой практике много говорят именно представители крупного бизнеса». По его словам, в России популярность DevOps растет, но многие компании только начинают вводить эти практики в свой бизнес.
Примечательно, что в нашей стране такой подход вначале стали использовать небольшие технологические стартапы. После к DevOps обратились крупные игроки на рынке. Теперь же мы видим растущий интерес у средних по размеру организаций, и этот тренд будет заметен на протяжении следующего года.
Из слона в муху
Большие или маленькие компании – неважно. Теоретически DevOps и вовсе способен сделать из большой компании маленькую в том смысле, что поможет слишком неповоротливым корпорациям избавиться от раздутого штата ИТ-специалистов. Эксперты компании 451 Research говорят: «Можно делать хорошие приложения и сервисы, не создавая армии из 1000 или даже 100 экспертов по ИТ-операциям». Но даже этот момент вызвал спор у наших экспертов.
«Я соглашусь, – говорит Виктор Глембицкий. – Но проблема раздутого штата – это, скорее, проблема стратегии менеджмента. DevOps в данном случае может давать обратную связь о качестве тех разработчиков, которые обслуживают какой-либо проект. Тем более хорошо, когда роль DevOps находится «вне» группы разработки, и ему необязательно поддерживать дружеские отношения с коллективом. DevOps как сервис позволяет объективно сравнивать в анонимном режиме различные команды разработки у разных клиентов и давать бизнесу обратную связь по качеству кадров. Конечно, это может влиять на количество сотрудников в штате».
DevOps – это история про стык разработчиков и администраторов. «Первых становится очень много из-за тренда на цифровизацию и роста количества digital-сервисов. Вторые не успевают обрабатывать запросы от разработчиков, – объясняет Сергей Зинкевич. – Отсюда и рост популярности DevOps, который позволяет отказаться от линейного наращивания задач в расчете на одного сотрудника. Иными словами, с помощью этой практики можно, условно говоря, выполнять в три раза больше задач, увеличив штат всего на 30%».
Но вы помните, что есть и те, кто не согласен с такой постановкой вопроса в целом. «DevOps – это не метод сокращения персонала. DevOps предоставляет сотрудникам набор лучших практик и процессов для эффективного управления технологиями. Как только вы создали рабочие процессы, вы можете начать автоматизировать их. Эта автоматизация может привести к снижению количества людей. Однако, чтобы это произошло, вы должны иметь определенные политики/процедуры, и вам следует приложить усилия для их автоматизации», – предлагает спуститься с небес на землю Давид Аветиков.
В плюс
Хорошо, допустим, мы понимаем, что получат крупные игроки от внедрения новых практик. Ведь крупная компания всегда испытывает сложности с коммуникацией между отделами, сталкивается с тем, что сотрудники думают, отфутболивая проблемы: «Ура, мяч не на моей стороне». Наконец, чем больше компания, тем больше у нее софта, который надо разрабатывать, тестировать, внедрять и поддерживать. Но какие плюсы может найти для себя мелкая торговая сеть в том, чтобы начать жить так, как завещает философия DevOps?
Во-первых, все сильно зависит от размаха ИТ-ландшафта этой условной маленькой торговой сети и общего желания развивать свое ИТ. Подробностями делится Василий Панкратов: «Если весь ИТ-ландшафт состоит из одной 1C, одного монолитного приложения, которое никто не трогает, и одной базы данных, то вряд ли DevOps как-то упростит жизнь. Но, опять же, если у этой сети есть свои специалисты, которые реально что-то разрабатывают и вообще подают признаки жизни, то DevOps в таком случае просто автоматизирует значительную часть их рутины, а значит, они смогут выполнять больше полезной работы».
DevOps – это решение задач командами, ориентированными на продукт. Они делают все – от анализа потребностей заказчика до ежедневной поддержки. «Маленькая сеть, возможно, не станет разрабатывать собственный уникальный продукт, но вполне может вести проект по внедрению и адаптации необходимых и доступных на рынке технологий по DevOps. И это позволит выигрывать от скорости и надежности внедрения», – считает Евгений Овчаров.
Мелкие торговые сети получат то, что дает DevOps любым командам независимо от их места в рейтинге топ-100. «Разработчики будут больше погружены в продуктовые цели их продуктов, стремления к автоматизации и ликвидации рутинного труда будут общими, а пользователи будут получать продукт без ошибок», – перечисляет Денис Реймер.
Деньги любят счет
Когда адепты нового мышления описывают прелести своего подхода, это всегда звучит заманчиво. Давайте же примерно представим, насколько затратен для ритейлера DevOps. Параметров для оценки процесса довольно много. Если мы говорим о DevOps как о сервисе, то его стоимость сравнима со стоимостью качественного специалиста. «Оправдывать внедрение в глазах финансового отдела нет необходимости, – успокаивает Виктор Глембицкий. – Да и принимает решения не всегда финансовый отдел. Необходимо выявить ключевые показатели, которые влияют на прибыль, и планомерно их достигнуть. Как бы вы объяснили конкурентам господина Форда, что конвейер в общем-то неплохое изобретение?»
Если у вас уже есть отдел ИТ, если вы уже разрабатываете или внедряете ИТ-продукты и сервисы для бизнеса, то очень даже может оказаться, что переход на DevOps (после подсчетов общих результатов) даст заметный финансовый выигрыш. Но вот что делать руководителю бизнес-подразделения, который хочет собрать свою первую DevOps-команду для внедрения и поддержки нового ИТ-сервиса? Взять в бизнес-подразделение аналитика, проектного менеджера, нескольких разработчиков-тестеров? Как на старте доказать, что внедрение новой системы прайс-сканирования в зале по DevOps увеличит продажи, а эффект покроет издержки? Это трудно. Рассказывает Евгений Овчаров: «Вполне может оказаться, что прямой подсчет не даст нужного эффекта, и один проект, один продукт или сервис не покроют вложений в команду DevOps. Но после первого продукта будет второй, за ним третий. И покупатели, пользующиеся вашими современными сервисами, купят у вашей компании и второй, и третий раз. Умеете считать увеличение выручки от возвращающихся покупателей? Теперь научите этому и ваш финансовый отдел».
При грамотном подходе, скорее всего, затраты будут ниже, уверен Василий Панкратов. По его мнению, основная затрата тут на найм одного-двух грамотных DevOps-инженеров, которые смогут внедрить нужные решения и процессы, а также обучить штат. Привычные инженеры эксплуатации в данном случае практически не нужны: в их обязанностях останется разве что дежурство, а кто-то вообще обходится без них.
С помощью DevOps удается найти новый баланс ресурсов. Так считает Сергей Зинкевич: «С одной стороны, необходимо оплачивать поддержку вычислительного кластера, на котором работает микросервисная архитектура. С другой – затраты на персонал в целом уменьшаются: на одного разработчика приходится меньше администраторов».
Чтобы внедрить DevOps, может потребоваться много времени и ресурсов: это обновление собственной инфраструктуры или переезд в ЦОД, доработка бизнес-процессов, внедрение новых подходов и обучение кадров. Но стратегическим результатом будет относительное снижение издержек, то есть увеличение прибыли. «Один наш проект потребовал два года работы большой команды специалистов, что обошлось заказчику в $5 млн, – приводит реальные цифры Максим Канев. – В результате бизнес снизил расходы на инфраструктуру и разработку на 60%, или на $6,5 млн в год».
Еще одним кейсом делится Давид Аветиков: «Могу сказать, что в одной ритейл-компании, которая приносила доход более $150 млн в год и управляла от 20 000 до 50 000 рабочих мест в более чем 80 странах мира, DevOps стал огромной победой. Компании понадобилось три–пять лет, чтобы добиться успеха в работе с данной методологией. DevOps позволил бизнесу более плавно развертывать новые сервисы, быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и повышать производительность для конечных пользователей».
Только вперед
От чего зависит успех внедрения DevOps, сказать сложно, ведь хорошее завершение дел всегда является результатом сочетания самых разных обстоятельств. Однако мы все-таки заставили экспертов поразмышлять над этим вопросом. Как считают в компании «КРОК», успех DevOps зависит от двух факторов. Во-первых, нужно понять, на базе какой инфраструктуры он будет работать. Если это монолит с унаследованными системами, то предварительно нужно полностью перестроить все ИТ. Если подобное невозможно, лучше оставить как есть.
Во-вторых, надо найти внутри или вовне компании экспертов, которые разбираются в том, как DevOps должен работать на практике. Наиболее частая ошибка, когда компания поручает специалисту без должных компетенций разобраться в теме. В результате это приводит к разочарованию и лишним тратам. Также иногда компании без предварительного анализа инфраструктуры и проектирования внедряют контейнеры, а потом среда разрастается, становится очень сложно ей управлять.
Что касается техник DevOps, то тут начинать стоит с простых вещей, например, с автоматизации создания тестовых данных. «Это уже даст большой прирост в скорости доставки изменений. Далее поэтапно внедрять автоматизированную сборку приложения, выкладку на тестовую среду. Автоматизированное тестирование – ключевая составляющая процесса. Важно соблюсти все технические принципы DevOps для тестовых и продуктивных сред – это также позволит минимизировать новые проблемы», – говорит Александр Садыков. Кроме этого, важным моментом является сохранение экспертизы по наработанным материалам и детальное документирование всех процессов.
Для успешного внедрения DevOps нужно несколько факторов. Прежде всего эта методология не должна внедряться «сверху», по приказу, сначала ее должны оценить сами разработчики. Для этого необходимо разговаривать с командой, выяснять потребности и постепенно менять ее мировоззрение. Как и любую другую методологию, DevOps не стоит пытаться реализовать целиком, по всем пунктам, потому как в каждой компании свои особенности бизнес-процессов и ИТ-продуктов. Еще одно важное условие – бизнес должен быть готов постоянно давать разработчикам обратную связь. «Например, мы в дирекции больших данных X5 Retail Group часто общаемся с категорийными менеджерами, которые знают свой товар и историю продаж. Они всегда могут рассказать, что важно для покупателя», – поясняет Марат Акжигитов. С ним согласен Александр Садыков. «Команду нужно заинтересовать преимуществами, которые она получит от внедрения нового подхода, и объяснить, что кроется за увеличением накладных расходов на начальном этапе, – считает он.
Предельно прагматичный совет ритейлеру, который хочет перейти на новую методологию, но не знает, с чего начать, дает Василий Панкратов: «Прежде всего надо просто собрать старших программистов и спросить их, а надо ли оно им. В большинстве случаев они уже сами хотя бы интуитивно понимают, нужно ли им, а если нужно, то зачем и как именно».
Хрустальный шар
Ждет ли DevOps светлое будущее или он все же утонет в гартнеровской канаве, покажет время. А пока мы можем дать небольшой прогноз относительно развития и внедрений DevOps в целом и в ритейле в частности. Так, по мнению представителей X5 Retail Group, DevOps в ритейле только начинает развиваться и, скорее всего, получит большое распространение, так как эта методология напрямую связана с конкурентным преимуществом и увеличением прибыли.
«Мы в нашем департаменте больших данных начали использовать методологию DevOps чуть больше года назад, – рассказывает Марат Акжигитов, – и если тогда даже небольшие обновления готовились довольно долго (некоторые до двух месяцев), то в настоящий момент мы можем получать обратную связь по запущенным функциям ежедневно».
Но для распространения DevOps потребуется некоторое время: далеко не все разработчики сейчас готовы к тому, что функция, которая была сделана ими сегодня, завтра уже может работать в магазине, собирая обратную связь от покупателей. Они хотят больше тестирования и проверок, но DevOps предполагает противоположный подход: пробовать быстро, выбирать лучшее. Если что-то пойдет не так, последний релиз всегда можно «откатить» назад. Есть такой подход для безопасного выпуска нового кода – «канареечное развертывание», когда сервис выпускается в продакшн по частям, результаты работы этих частей отслеживаются, и при неудовлетворительных показателях можно выполнить откат к предыдущему состоянию.
«Все идет к тому, что это просто станет само собой разумеющимся индустриальным стандартом. Умные ребята уже давно используют DevOps, остальные потихоньку подтягиваются. В общем-то в этой методологии нет ничего принципиально нового. Continuous Integration и Continuous Delivery существуют уже давно, Zabbix и подобные системы мониторинга использует каждый серьезный бизнес, решения по управлению кластером в том или ином виде существуют тоже очень давно, от средств управления Application-серверами до инструментов по типу VMWare vSphere. Про Git я вообще молчу. Просто сейчас у нас есть понимание того, как это все склеить вместе и, главное, открытые инструменты, чтобы все это безболезненно реализовывать (gitlab, docker, Kubernetes)», – углубляется в детали Василий Панкратов.
DevOps постепенно разовьется в DigitalOps (и Gartner уже ввел этот термин), что позволит к процессу разработки и поставки изменений добавить и уровень бизнес-сервиса. «Фактически цель всех этих перемен в том, чтобы «хотелки» бизнеса появлялись в промышленном решении с минимальными временными затратами и трудностями», – заключает Денис Реймер.
Что такое DevOps
DevOps – это акроним от английских слов development («разработка») и operations («функционирование»). Термин означает сочетание разработки и эксплуатации программного обеспечения, в результате которого люди, технологии и процессы объединяются, а разрозненные ранее отделы координируют свои действия и создают более качественные продукты.
Основные ошибки DevOps-инициатив по версии компании Tieto
• Непонимание, какие конкретно задачи должны решаться.
• Принятие таких решений на уровне менеджмента, а не на уровне ИТ.
• Попытка сделать из рядовых сисадминов DevOps-инженеров.
• Покупка сомнительных программных продуктов. Кто-то до сих пор считает, что внедрить DevOps означает просто купить XLDeploy.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Семь раз отмерь и один раз отрежь – этот подход в розничной торговле больше не популярен. Увеличение скорости внедрения разработок стало для компаний жизненно важной задачей. Именно поэтому специалисты отмечают бум DevOps в индустрии ритейла. [~PREVIEW_TEXT] => Семь раз отмерь и один раз отрежь – этот подход в розничной торговле больше не популярен. Увеличение скорости внедрения разработок стало для компаний жизненно важной задачей. Именно поэтому специалисты отмечают бум DevOps в индустрии ритейла. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4530 [TIMESTAMP_X] => 26.02.2020 20:09:13 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 576 [WIDTH] => 960 [FILE_SIZE] => 415325 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/5e1 [FILE_NAME] => 5e1af90d56fad5c4a8a655457f0d4d7f.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1418438333.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 4740d869cd9792f610aff958b7113e73 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/5e1/5e1af90d56fad5c4a8a655457f0d4d7f.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/5e1/5e1af90d56fad5c4a8a655457f0d4d7f.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/5e1/5e1af90d56fad5c4a8a655457f0d4d7f.jpg [ALT] => На первой космической [TITLE] => На первой космической ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4530 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => na-pervoy-kosmicheskoy [~CODE] => na-pervoy-kosmicheskoy [EXTERNAL_ID] => 5496 [~EXTERNAL_ID] => 5496 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 26.02.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => На первой космической [ELEMENT_PAGE_TITLE] => На первой космической [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Семь раз отмерь и один раз отрежь – этот подход в розничной торговле больше не популярен. Увеличение скорости внедрения разработок стало для компаний жизненно важной задачей. Именно поэтому специалисты отмечают бум DevOps в индустрии ритейла. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => На первой космической [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => На первой космической | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [9] => Array ( [ID] => 5448 [~ID] => 5448 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Модели на подиуме [~NAME] => Модели на подиуме [ACTIVE_FROM_X] => 2020-02-04 20:30:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2020-02-04 20:30:00 [ACTIVE_FROM] => 04.02.2020 20:30:00 [~ACTIVE_FROM] => 04.02.2020 20:30:00 [TIMESTAMP_X] => 05.02.2020 21:42:29 [~TIMESTAMP_X] => 05.02.2020 21:42:29 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/modeli-na-podiume/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/modeli-na-podiume/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Знать, что день грядущий нам готовит, хочет не только обычный человек, но и любой, даже самый крупный бизнес. Гадание тут не поможет, придется заняться прогнозированием. А чтобы прогнозы сбывались, нужно иметь модели, наблюдение за которыми позволит яснее увидеть настоящее и даже заглянуть в будущее. На этот раз мы обсудили с экспертами анализ процессов в ритейле с помощью Process Mining.

Моделирование и продуктовая розница – казалось бы, нет более далеких друг от друга понятий, чем эти. Первое – это наука, промышленность, дизайн в конце концов, но никак не торговля хлебом и молоком. Раньше так и было. Но мы живем в очень быстрое время: на наших глазах происходит множество трансформаций, бизнес становится технологичным, а то, что было сферой науки, проникает в практику компаний самых далеких от теоретических построений.
Сейчас в ритейле моделируют практически все: создаются 3D-модели складов, виртуальные и полуреальные магазины. Полуреальные – это с использованием технологий дополненной реальности, AR. Напомним, что именно так недавно строили новую торговую точку «Ашана» – применяя интерактивные голограммы. С их помощью создали модель магазина в реальную величину, походили между призрачными полками, сделали выводы и исправились еще до начала строительства. Заманчиво. Но мы поговорим о других моделях. О тех, что выглядят максимально абстрактно, как будто бы далеко от жизни, математично. О тех, что стали возможны благодаря современным технологиям.
На каждой профильной конференции твердят: собирайте данные, накапливайте, сливайте в одно место все, что можно, из всех систем компании. Big Data – это золотой прииск в умелых руках. И одно из применений, которые находят себе данные, как раз лежит в области моделирования. Назовем такое моделирование цифровым, чтобы противопоставить его моделированию мира физического с помощью моделей, похожих на свой объект визуально, таких как виртуальный магазин, который похож на свой «каменный» аналог.
У ритейлеров много данных, которые можно анализировать и использовать для построения цифровых моделей: это и видео, и данные из соцсетей, из мобильных приложений, программ лояльности, наконец, от вещей, подключенных к Интернету (IoT). И здесь перечислена только часть источников. Данных много, типов и видов моделирования – тоже. Как известно, слишком большой выбор – зло похуже выбора узкого.
Очевидно, что взять и построить одну глобальную модель «всего» и работать с ней – это утопия. Вернее, не утопия, но модель получится слишком уж примерной: узкие места скроются. «Существуют разные подходы к процессу моделирования. Например, универсализация, когда все потребности можно покрыть одной универсальной моделью. У этого подхода есть преимущества: простота и отсутствие необходимости строить множество моделей. С другой стороны, универсальная модель подразумевает упрощение и сглаживание результатов, – говорит Максим Захир, генеральный директор «Ланит Омни» (группа «Ланит»). – С моей точки зрения, вместо универсальных решений для каждой задачи стоит попытаться разработать собственные методы анализа данных и продумать свои способы достижения результата».
«Я не верю в общую универсальную модель. Проектный опыт показывает, что эффективнее делить деятельность на «слои», – уверяет Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA.
Уровень торговой точки – один из таких слоев. Например, на этом уровне компания по RFID-меткам в корзинах анализирует среднее время, которое покупатель проводит на кассе, и, основываясь на этом, предпринимает меры по улучшению клиентского опыта.
Уровень бизнес-процессов – еще один такой слой, на котором можно выстраивать, к примеру, персональные программы Up-sell. В BPMS (Business Process Management System) ритейлер проектирует правила, по которым клиенту, купившему определенный продукт, предлагаются дополнительные товары. В зависимости от ситуации и бизнес-задачи ритейлер рассматривает тот или иной слой и использует соответствующие модели.
Клюем по зернышку
Первый шаг к моделированию – сбор данных и никак иначе. «Нужно составить список внешних и внутренних источников, которые могут повлиять на формирование моделей», – объясняет Максим Захир. По его словам, к внешним источникам относятся, к примеру, данные о погоде. Типов внутренних данных великое множество: транзакционные данные, данные из программы лояльности, сведения о продажах, данные из справочника магазинов (размер торговой точки, число представленных товарных категорий, количество касс, трафик и его конверсия в покупателей). Не последнее место занимает сайт, в котором с помощью метрик и специальных сервисов отслеживаются трафик и его источники, потребительское поведение, заказы, их исполнение.
Big Data изменила не сами модели, а результаты, которые можно получить. «Принципиальный подход к моделированию не меняется, – утверждает Алексей Николаев, директор центра компетенций по системам управления ИТ и мониторинга компании «Техносерв». – Выбор метода, как и раньше, зависит от той задачи, которую решает компания. Например, сокращение затрат и анализ исследования customer journey потребуют использования разных инструментов и подходов. Позитивные изменения заключаются в том, что большой объем накапливаемых данных позволил в разы увеличить точность моделей и сократить время на их построение и проверку».
Сбор данных – это большой и сложный этап. Ведь данные могут быть какие угодно: от сведений обо всех действиях сотрудников, которые заносятся в информационные системы предприятия, до банального наблюдения. Кстати, если сам факт наблюдения банален, то вот интересные сведения, которые можно почерпнуть, могут быть весьма оригинальны. Интересным кейсом несколько дней назад поделилась компания Ozon, рассказывая в ходе CNews Forum 2019 о своем опыте построения моделей.
Организация доставки в компании с восемью фулфилмент-фабриками и 31 распределительным центром – процесс весьма захватывающий. Поэтому в Ozon все считают и на основе посчитанного пытаются делать прогнозы.: сколько будет собираться посылка, сколько должен работать над каждым заказом распределительный центр, как быстро курьер возьмет свою ношу и сколько будет добираться до конечной точки. Все ходы записаны, прогнозы сбываются, но вдруг – сбой. В одном из центров курьеры постоянно задерживаются на полчаса дольше обычного. Что такое? Кто-то плохо работает? Но все посылки доставляются вовремя, а курьеры по-прежнему сидят в центре сверх рассчитанного. Причины необъяснимы.
Для того чтобы выяснить, какие такие обстоятельства держат сотрудников, на место нужно ехать лично. Поехали. Расследование выявило: именно эта сортировочная точка завела у себя слишком хорошую столовую, и курьеры старались все успеть, чтобы потом с чистой совестью подольше посидеть в приятном месте и отлично поесть.
Ту часть процессов, которую можно назвать «нерегламентированной», тоже стоит учитывать, а данные, подобные описанным выше, – сохранять и записывать. Для построения точных моделей необходимо взять как можно больше информации.
Жадность погубит
Данные накопили, можно моделировать. Что и как? «К сожалению, нет универсального метода моделирования, под каждую задачу требуются свои методики, алгоритмы и инструменты», – говорит Андрей Коптелов, вице-президент ABPMP Russia, бизнес-тренер компании Luxoft.
Если бы можно было внедрить одну цифровую модель на все случаи жизни, то все бы давно это сделали. «Организация логистики – это один процесс со своими переменными и прогнозами, а персонализация предложения покупателю – совсем другой. Никакой универсальности при моделировании нет, – подчеркивает Вадим Каиров, руководитель направления цифровой трансформации бизнеса компании «Рексофт». – В этом-то и заключается сложность его внедрения».
Чем больше гора информации, тем больше искушений. Хочется строить модели всего и сразу: бизнес-процессов, покупательского спроса, поставок. «Набрасываться на все сразу было бы неправильным: в первую очередь необходимо сконцентрировать усилия на одной или нескольких инициативах, призванных решить конкретные, наиболее критические для бизнеса проблемы, – рекомендует Андрей Железняк, эксперт компании «Витте Консалтинг». – Это позволит минимизировать первоначальные инвестиции, не распылять доступные ресурсы и оперативно корректировать стратегию, а в случае подтверждения эффективности предпринятых усилий постепенно расширять круг решаемых задач, используя как уже отлаженные, так и новые технологические подходы».
Анализ больших данных позволяет выполнять широкий спектр задач. «Это может быть работа с оттоком покупателей, повышение эффективности продаж в магазине, подбор персональных предложений. Ритейлеру требуется составить список задач, ранжировать их, понять, с какой начинать и в какой последовательности они будут выполняться», – делится опытом Максим Захир.
Далее возникают вопросы: какие данные у розничной сети есть прямо сейчас, какие она может накапливать для анализа, а какие нужны для достижения результата и решения конкретной задачи? Так, данные в виде аналитики, полученные из магазинов, могут повысить эффективность работы розничных точек, на их основе подбираются персональные предложения. При этом они не принесут пользы в работе с оттоком покупателей. В то же время данные для работы с оттоком не сильно влияют на повышение эффективности магазина. «Отмечу, что крайне важно правильно собирать, структурировать и связывать друг с другом данные, а также использовать именно тот набор данных, который необходим для решения конкретной задачи», – советует Максим Захир.
Неповторимые модели
Некоторые данные без моделирования ритейлер может не получить никогда. Зарубежные игроки вроде Walmart, Amazon и профессиональные ассоциации так или иначе делятся с рынком моделями бизнес-процессов, составляя «эталонные» модели. «В качестве примера можно упомянуть ARTS Retail Model. Российские ритейлеры могут использовать эту и подобные модели для бенчмаркинга, сопоставляя свою процессную архитектуру с эталонной и выявляя участки, которым сейчас не уделяется должного внимания», – говорит Андрей Чепакин.
Не имея четкой имитационной модели (хотя мы и договорились обсуждать более абстрактное моделирование, но все же), крайне сложно получить знания на основе так называемых сценариев «что, если?», в которых учитываются все известные и подробно описываемые факторы взаимного влияния. «Классические BI-системы, конечно, давно позиционируются в качестве пригодного для этого инструмента, однако обилие сущностей и связей в современных бизнес-процессах таково, что получаемая в результате аналитика чаще всего неприменима и не вполне достоверна, даже если на нее затрачиваются значительные средства», – рассуждает Андрей Железняк.
Без моделей сложно делать персонализированные предложения. Их и не делают. Почти не делают. «Исходных данных об истории покупок и их комбинаций так много, что простой аналитики недостаточно. Многие из читателей наверняка совершают покупки в «Перекрестке» и «Пятерочке» и являются участниками программ лояльности. Думаю, что многие могут сделать личные выводы о формировании персонализированных сообщений для вас. Чаще всего мы видим все-таки пока общие товарные предложения либо скидку, которая варьируется от среднего чека конкретного покупателя. Пока здесь нет какого-то глубокого моделирования», – сетует Вадим Каиров.
Творим
Можно выделить три вида моделей. По крайней мере именно столько насчитывают в компании ELMA. По словам Андрея Чепакина, первый вид моделей и самый простой – операционная модель торговой точки. Различными автоматическими способами – от видеонаблюдения в торговых залах до встраивания RFID-меток в корзины – ритейлеры определяют поведение покупателя, «холодные» и «горячие» зоны магазина, оптимальную выкладку товара.
Второй вид моделей возникает, когда мы говорим уже о сети в целом. Это модель бизнес-процессов, ее также принято называть «архитектурой (структурой) бизнес-процессов». Аналитики начинают разбираться, какие сквозные процессы существуют у ритейлера: как компания взаимодействует с поставщиками, как происходит управление ассортиментом, заявочной кампанией, претензиями покупателей, что представляют собой процессы бюджетирования и цепи поставок. В результате получается связанная модель регламентов описания бизнес-процессов.
Операционная модель магазина предполагает серию достаточно быстрых изменений. «Грубо говоря, мы анализируем маршруты посетителей магазина и меняем стеллажи местами. Модель бизнес-процессов, наоборот, статичная, мы договорились, как будет работать вся компания на процессном уровне», – говорит Андрей Чепакин.
Третий вид – модель Customer Journey – основана на изучении больших объемов клиентских данных для взаимодействия с аудиторией в режиме реального времени. Используя эту модель, мы пытаемся понять, как воспринимает магазин покупатель, расписываем его поведение на разных стадиях и выстраиваем гипотезы воздействия.
Археологические раскопки
Интересный вид моделей можно построить в ходе Process Mining, или, если по-русски, в ходе процессной аналитики. Сама технология возникла в 2001 году, через девять лет ее попытались внедрить в России, но тогда эта тема не смогла захватить умы отечественных корпораций. И совершенно зря. В чем суть? У ритейлера уже внедрено множество информационных систем, куда сами собой по факту совершения записываются различные действия сотрудников, тем самым формируя так называемый журнал логов. На самом деле на бытовом уровне с этим процессом сталкиваются все, кто включил компьютер. Вы пошли на сайт? Это записалось в историю браузера. Открыли текстовый редактор и напечатали пару фраз? Действие можно отменить именно потому, что программа его запомнила и записала, иначе и отменять было бы нечего: что не записано, то не существует, по крайней мере в цифровом мире дела обстоят именно так.
Раз системы уже полны такими сведениями, отчего бы их не применить на практике? Например, для того, чтобы посмотреть: а точно ли наши бизнес-процессы в реальности соответствуют тому, что мы придумали себе в ходе теоретизирования. Компании, заглянувшие в логи и построившие модели бизнес-процессов на их основе, бывали поражены открывшимися взору истинами. Сотрудники отфутболивают неугодные задачи, в ходе скитаний по отделам заявки не исполняются месяцами, а после и вовсе теряются, то, что должно занимать минуты, занимает часы – и наоборот. Копеечные действия на деле обходятся дорого. И это только часть инсайтов.
«В ритейле Process Mining обычно применяется для анализа поведения покупателей. В корейском ритейле, например, есть проекты по анализу прохождения покупателя по магазину. Специальные датчики отслеживают по WiFi позиционирование смартфонов покупателей, чтобы составить карту их перемещений от товара к товару», – говорит Александр Черкавский, эксперт по цифровой экономике РАНХиГС при Президенте РФ, преподаватель кафедры «Управление бизнес-процессами» экономического факультета РАНХиГС.
Технология Process mining коренным образом меняет подход к созданию моделей бизнес-процессов. Вместо традиционных методов сбора информации (интервьюирование, наблюдение), требующих больших временных затрат от консультантов и поэтому дорогостоящих, Process Mining требует времени только на выгрузку и обработку данных из информационных систем (а в случаях, если используется корпоративная система типа SAP, и этого не требуется, система Process Mining получит данные через специальную программу-коннектор). «Тем не менее совсем без консультантов не обойтись: необходимо правильно определить процессы для анализа, исследование которых может привести к решению именно проблемы, интересующей заказчика», – отмечает Александр Гончаров, старший бизнес-аналитик компании ICL Services.
По его мнению, Process mining имеет и ограничения: технология неприменима при проектировании новых процессов, нужно использовать классические методы. Также есть требование к автоматизации бизнес-процессов: если некоторые операции процессов выполняются вручную или не вся информация попадает в логи информационных систем, есть риск не получить достоверную модель процессов.
Поднимите мне веки
Когда говорят о BPM, то часто упоминают, что бизнес-моделирование – процесс дорогой, поэтому сначала надо выстроить бизнес-модель, а потом уже действовать (сначала теория, а потом практика). Однако в случае с Process Mining процесс обратный: сначала мы исследуем логи реальных процессов, потом строим модель, затем – выводы. Process mining является автоматизированным систематическим подходом по определению фазы «как есть» улучшения бизнес-процессов (BPI) и измерению воздействия сопутствующих изменений в ходе этого улучшения. Process mining помогает находить точки роста или улучшения. «Вы либо начинаете применять этот подход, либо нет. Моделирование бизнес-процессов от этого не меняется», – комментирует Александр Черкавский.
«Здесь нет противоречия, – подтверждает Андрей Чепакин. – Да, бизнес-моделирование производится по канонам BPM: создается модель, в рамках единой архитектуры которой все бизнес-процессы предприятия связываются между собой. Чтобы разобраться в логике работы отдельного процесса в этой модели, как раз и используется Process Mining. Условно, у нас есть небольшой процесс «Обработка рекламаций к поставщику», и мы с помощью Process Mining изучаем, как этот процесс проходит. Интересно, что этот инструмент не гарантирует правильности построения модели, он лишь позволяет зафиксировать текущее состояние процессов. То есть эту же задачу на проекте может выполнить и аналитик».
Однако, как отметил Андрей Чепакин, у Process Mining есть одно серьезное преимущество: полученные данные могут служить важным аргументом в разговоре с топ-менеджментом. По сути, инструментарий Process Mining дает исчерпывающую объективную картину того, как работает компания. «Мы вдруг выясняем, что в 2019 году лишь малая часть экземпляров процесса проходит так, как мы рассчитывали, а большинство задач зациклились и требуют больших операционных расходов. Process Mining позволяет собрать некую доказательную базу, для того чтобы у топ-менеджмента «открылись глаза», – говорит он.
Process Mining дополняет подходы к моделированию новым инструментарием и новыми возможностями. «Применение этой технологии позволяет сократить затраты на сбор первичной информации о том, как устроен процесс сейчас. Причем речь идет не только о финансовых, но и о временных затратах на привлечение консультантов и выполнение обследования», – рассуждает Алексей Николаев.
По его словам, понимание того, как устроен бизнес-процесс, может быть получено за одну-две недели после нескольких итераций автоматического восстановления карты процесса и ее верификации с его владельцами и участниками. При этом точность получаемого результата будет существенно выше. Кроме того, Process Mining позволяет сократить время на получение обратной связи: информации о том, как повлияли внесенные изменения на реализацию процесса.
«Преимущество Process Mining заключается в поиске исключительных ситуаций, которые негативно влияют на показатели процесса, ведь эксперты часто не скажут о негативных сценариях бизнес-процесса. Применение Process Mining дает более подробный анализ бизнес-процесса с опорой на фактические данные из информационных систем», – считает Андрей Коптелов.
Process Mining как технология, без сомнения, представляет иной подход к бизнес-моделированию по сравнению с BPM. При этом на уровне конкретных программных продуктов мы наблюдаем взаимопроникновение и взаимодополнение этих технологий. Об этом говорят эксперты компании «Витте Консалтинг». «Тут одно должно дополнять другое. Мы не можем приступить к Process Mining, не имея тех самых логов или других информационных артефактов существующих процессов. Более того, построенная в результате модель во многих случаях будет требовать доказательства эффективности посредством проведения A/B тестирования, для которого необходимо наличие контрольного варианта процесса, не затронутого трансформацией. Так что, на мой взгляд, необходимо в любом случае начинать с выстраивания базовой бизнес-модели и в дальнейшем совершенствовать ее при помощи Process Mining», – заключает Андрей Железняк.
Развлечения для взрослых
Звучит все это здорово, но если посмотреть на внедрения, особенно именно этой технологии – Process Mining, их практически нет. Часто ли вообще продуктовые ритейлеры строят цифровые модели для моделирования процессов в организации, для изучения customer journey, иных целей? «Построение модели бизнес-процессов – первоочередной по важности шаг, без которого ритейлеру невозможно добиться операционной эффективности. Только после того, как модель выстроена и компания понимает, как она работает, появляется относительное спокойствие, необходимое для дальнейшего совершенствования, – другими словами, сложно улучшить то, что непонятно как работает. Следующий шаг – использование модели Customer Journey для улучшения работы с покупателями», – говорит Андрей Чепакин.
Но если торговые сети из списка топ-5 крупнейших ритейлеров могут позволить себе все что угодно, то это еще не значит, что обращение к моделированию – это обычная практика ритейла. «В нашей стране действительно моделированием занимаются пока не так часто, если речь не идет, как вы заметили, о лидерах рынка», – соглашается Андрей Железняк. По его словам, у нас есть лишь отдельные примеры того, как ориентированные на инновации руководители начинают делать осторожные шаги в этом направлении в стремлении обеспечить себе конкурентные преимущества. Другие, оглядываясь на лидеров и зарубежные кейсы, пытаются, конечно, что-то перенимать, но подходят к этому довольно бессистемно, и очень часто их усилия толком ни к чему не приводят. При этом многие по-прежнему считают подобные инициативы слишком затратными, а в обозримом будущем даже малоперспективными для компаний, в которых уже укоренились определенные бизнес-подходы, выработанные за годы проб и ошибок. Однако даже для небольших сетей подобные инициативы были бы полезны, и это понимают глобальные технологические вендоры, такие как SAS и Informatica, выпуская специальные пакеты решений в области продвинутой ритейл-аналитики для среднего и малого бизнеса.
В обозначенной группе (секторе СМБ) моделирование – зверь редкий. «Единственное, надо уточнить, что составление бюджета P & L и моделирование процессов – это две разные задачи. Бюджеты делают все. А вот построение цифровой модели для моделирования процессов является достаточно сложным процессом. Необходимо использовать специализированное ПО, привлекать отдельные ресурсы. Цифровая модель как одна из задач создания цифрового двойника в последнее время стала применяться на новых современных производствах, когда цена ошибки или издержек слишком велика. В ритейле же моделирование применяется только в самых больших сетях в области логистики и закупок», – поясняет Вадим Каиров.
«Мы чувствуем, что на рынке есть спрос на построение цифровых моделей. Но в действительности это формирующийся процесс, и ритейлеры, которые не входят в топ-5, находятся в самом начале пути», – добавляет Максим Захир.
Большинству небольших розничных компаний пока вполне достаточно «классического» моделирования бизнес-процессов для регламентации операционной деятельности магазинов и автоматизации логистических цепочек. «Применение более серьезных инструментов, боюсь, в ближайшее время не окупится», – подчеркивает Андрей Коптелов.
Достаем калькуляторы
В попытках понять, насколько затратным для ритейлера будет это развлечение – построение цифровых моделей, мы спросили наших экспертов, как быстро окупаются затраты на разработку и построение модели в продуктовом ритейле? «Традиционно стоит ориентироваться на срок до одного года, – отвечает Андрей Чепакин.
По его мнению, источников окупаемости в построении модели бизнес-процессов несколько. Главный – снижение операционных расходов. Выстраивая процессы, компания наводит порядок внутри себя. Теперь сотрудники четко и слаженно выполняют задачи по процессу, вместе с задачей приходят все данные для исполнения, не возникает вопросов, кто ее должен делать. За счет того, что в ритейле много транзакций – компания каждый день принимает товар и продлевает договоры с поставщиками, – окупаемость достигается быстро.
Второй источник окупаемости – создание уникальных бизнес-моделей. Когда компания осознанно перестраивает процессы логистики или коммуникации с клиентами, чтобы получить конкурентное преимущество.
Ритейл характеризуется интенсивностью и однотипностью операций: продажи, закупка товаров, доставка, возвраты. Поэтому даже незначительное улучшение процесса приводит к быстрой финансовой отдаче. «Опираясь на нашу практику, могу отметить, что анализ новогодних продаж в одном из магазинов показал, что потенциальная выгода от оптимизации процесса и соответствующего сокращения объема отказов от покупки на примере всего лишь одной популярной товарной позиции окупала проект за три-четыре месяца», – делится Алексей Николаев.
Со сроками определиться трудно, считает Александр Черкавский: «По сути, моделирование – это часть функции «Разработка и исследования» (R & D). Поэтому затраты на моделирование зависят от того, сколько денег организация тратит на R & D. Без уточнения конкретики по решаемым в ходе моделирования задачам оценить затратность не получится. Но скажу, что, например, исследователи по данным (Data Scientists) могут собирать и анализировать данные, а потом строить только одну модель для проверки какой-то гипотезы от одного до трех месяцев».
Цифровой Доппельгангер
Если строить модели – дорого, то, может быть, тут поможет технология, о которой тоже заговорили не так давно? Цифровой двойник организации. Технология, которая проникла в бизнес из промышленности. С последней все понятно: если у тебя есть турбина и есть все данные о ее работе, может быть, она сама поставляет все данные о том, что происходит с ней прямо сейчас, то построение цифрового двойника, который можно покрутить, обследовать удаленно и сделать прогнозы о его дальнейшем жизненном цикле, – это то, что нужно.
Но сейчас заняться цифровыми доппельгангерами предлагают компаниям самого разного профиля – это один из трендов. Может ли ЦДО – цифровой двойник организации – стать одной всеобъемлющей моделью? Тогда ритейлер оставит в прошлом всю возню с построением моделей на каждый отдельный процесс или каждую область в своей компании.
«Существующие информационные системы не позволяют выстроить цифрового двойника, в полной мере удовлетворяющего пожеланиям бизнеса, – сомневается в успехе этой затеи Андрей Чепакин. – Они дают возможность взглянуть на организацию только с одной стороны. Например, цифровой двойник логистических операций показывает организацию с точки зрения движения ТМЦ. Я бы рассматривал ЦДО как еще одного поставщика данных для принятия стратегических решений при реализации корпоративных преобразований. Искать новые ниши и модели бизнеса, управлять переходом из традиционной розницы в онлайн – эти задачи с руководителей никто не снимет».
Цифровой двойник – это сложная и затратная вещь. «Внедрение ее в ритейле во всех процессах неочевидно. ЦДО оправдан там, где процессы меняются редко, данных, получаемых в результате работы процессов, много, и цена ошибки из-за неверного процесса слишком высока, так как процесс нельзя быстро и дешево изменить», – считает Вадим Каиров.
В ритейле же процессы меняются часто. Как только процесс «начал давать сбой», это быстро выясняется, и его сразу оптимизируют, поэтому цена ошибки довольно низка. Постоянная адаптация ЦДО под изменения рынка может не окупаться у большинства ритейлеров. Получается, что технология без понятного экономического эффекта не нужна. Ведь кто-то должен оплатить ее внедрение.
«Все продуктовые ритейлеры в России находятся на разном уровне зрелости, – говорит Александр Черкавский. – Виртуальные модели или представления в понимании концепции цифровых двойников они практически не строят, поскольку на их уровне зрелости им хватает работы над традиционными операционными моделями: логистика, ценообразование, производственный цикл». По его убеждению, процессы создания виртуальных моделей в концепции цифровых двойников, моделей бизнес-процессов, моделей в рамках обработки Big Data подразумевают постоянное выполнение экспериментов. Большая часть этих экспериментов вообще не окупается. А то, что сработало, дает эффект улучшения операционных показателей от 1 до 4%. Обычно этого достаточно, чтобы обосновать продолжение таких занятий.
«А я соглашусь с утверждением, что цифровой двойник организации необходим всем», – говорит Сергей Половников, заместитель генерального директора компании «СевенПро». – Но здесь другой вопрос очень важен. Вопрос цены данной задачи для конкретного ритейлера. Ведь ЦДО решает совершенно конкретный круг задач. И чтобы создать ЦДО, тоже необходимо потратить ресурсы, время. Но ведь вполне справедливо, когда ритейлер сам себя спрашивает и тут же отвечает: а нужен ли мне ЦДО? Что он сделает такого, чего я сам не смогу? Возможно, что конкретно взятый ритейлер и без всякого ЦДО настолько хорошо понимает своего клиента и свой рынок, настолько хорошо понимает своих контрагентов и свои продукты, что никакой двойник не принесет ему добавленной стоимости. Таких компаний-ритейлеров очень и очень мало… Не будем называть их имени».
Но все-таки для многих ритейлеров создание ЦДО – это действительно конкурентное преимущество. Ритейл сейчас переживает не лучшие времена, рынок потребления очень сильно трансформируется по причине того, что меняется поведенческая модель покупателя, и тот, кто будет успевать за трансформацией этой модели, кто сможет предвидеть ее будущие изменения, будет иметь максимально высокую возможную рентабельность бизнеса.
Построение цифрового двойника организации – еще одна глобальная технологическая тенденция. Однако для ее полноценной реализации потребуется решить множество аспектов, связанных с формализацией всех процессов организации, унификацией стратегий, внедрением единых метрик, обеспечением соблюдения регуляторных требований, корпоративных и отраслевых норм и правил, которые в сфере ритейла, да и в любых других сферах еще не выработаны окончательно или вовсе отсутствуют. «Одним из первых шагов в эту сторону как раз и видится построение моделей, которые в дальнейшем не будут заменены цифровым двойником, а станут одной из его полноценных функциональных составляющих», – говорит Андрей Железняк.
Помимо прочего административный опыт организации, наличие квалифицированного персонала и организационных ролей в области информации, а также внедренные технологические платформы и наработки, связанные с моделированием бизнес-процессов, станут серьезным подспорьем в процессе цифровой трансформации ритейлера, в частности при создании его цифрового двойника.
Как игра
Строить только одну модель несколько месяцев – это то, чем славится настоящая наука, которой нет дела до сроков и суеты коммерческого мира. Месяцы для науки – это секунды, потому что тут для подтверждения гипотез могут понадобиться годы и столетия. Бизнес такие сроки не устраивают. Современное ПО позволяет вести разработку моделей с помощью развитых графических средств и не требует от специалистов обязательного знания языков программирования.
Можно ли ожидать того, что в будущем процесс бизнес-моделирования настолько упростится, что его можно будет сравнить с игрой в компьютерную стратегию, которая доступна рядовому пользователю? Или такого не будет никогда, и ритейл по-прежнему будет нуждаться в высококвалифицированных специалистах и бизнес-консультантах?
Как считают многие исследователи, в ближайшем будущем появится целый класс «гражданских» специалистов по данным, не обладающих глубокими знаниями в области data engineering и data science, но способных решать различные задачи с использованием именно визуальных средств моделирования и диагностики. «Дело в том, что технологии машинного обучения (точнее, нейронных сетей) динамичны по своей природе и позволяют адаптироваться к изменяющимся или новым данным, и, несмотря на то, что подобные решения напоминают многим руководителям «черный ящик», именно они позволят автоматизировать многие задачи, связанные с наукой о данных. Это не значит, что высококвалифицированные специалисты более не будут нужны, однако они, скорее всего, сконцентрируются на обучении и контроле этих простых в применении, но сложных по своему устройству решений, порождающих целый комплекс совершенно новых задач», – объясняет Андрей Железняк.
С развитием Low-Code работа аналитика трансформировалась. BPMS позволяет без программирования переводить бизнес-процессы в исполняемый вид. «От специалиста уже не требуется долгой отрисовки блок-схем и написания кода. Вместо этого аналитик превращается в человека, который отвечает за логику процессов и предлагает улучшения. От него требуются в первую очередь компетенции понимания бизнеса, потому что аналитик, работая над процессами, должен разговаривать с бизнесом на одном языке», – делится своей точкой зрения Андрей Чепакин.
Уже сейчас появились решения, которые на основании видеопотока работающих сотрудников предлагают оптимизацию отдельных операций. «Есть примеры применения инструментов Process Discovery, которые анализируют экраны рабочих станций сотрудников, что позволяет найти рутинные операции для дальнейшей автоматизации», – рассказывает Андрей Коптелов.
Но несмотря на это, успешное моделирование случается только при наличии сложившейся пары: бизнес-аналитика, который глубоко понимает предметную область и обладает навыками анализа, и эксперта по моделированию, способного сформировать саму модель и необходимые для ее анализа инструменты. Об этом рассказывает Илья Хает, эксперт компании «Витте Консалтинг». По его мнению, развитие инструментов моделирования действительно упрощает жизнь и первому, и второму.
Отказ от бизнес-аналитика приведет к невозможности правильной трактовки результатов моделирования. Избавиться от экспертов по моделированию в ближайшее время тоже не получится: стремительно растет состав данных, состав доступных к применению методов и инструментов, потребность в интеграции разных моделей. «Да, процесс бизнес-моделирования может превратиться в подобие компьютерной игры, но только для очень типизированных задач (тогда что в них оптимизировать и на чем конкурировать?) или для простых задач (а число таких нерешенных задач стремительно падает), – говорит Илья Хает.
На самом деле будущее ближе, чем кажется. В этом уверен Александр Гончаров. Как он рассказал, системы документооборота и некоторые современные системы BPMS для настройки бизнес-процессов уже давно не требуют программирования, бизнес-процессы можно собирать из блоков-операций, как конструктор. Но более интересные возможности появляются с развитием искусственного интеллекта и систем машинного обучения. «Например, ведущие производители систем Process Mining уже начинают подключать ИИ к анализу эффективности бизнес-процессов, выявлению отклонений и их причин, по сути, выполняя одну из задач бизнес-консультанта. Потребность в бизнес-консультантах не исчезнет совсем, для них всегда останется работа по решению многоаспектных проблем по управлению организацией, но повышать эффективность рутинных бизнес-процессов пользователи смогут сами», – с уверенностью смотрит в будущее Александр Гончаров.
Две головы – лучше?
Мы уже несколько раз упоминали в тексте консультантов. Но все ИТ-компании, которые внедряют системы по выстраиванию моделей, обещают, что клиент «вычислит узкие места», «получит инсайты», «узнает все, что скрыто» и так далее. Каким образом ритейлер должен понять, какая модель подойдет его ситуации лучше всего? Скажем, клиентов долго обслуживают. Что делать? Обратиться к логам ИС и посмотреть, правильно ли выстроен бизнес-процесс по данному направлению? Сделать имитационную модель? Анализировать видеопотоки? Какую модель строить и строить ли вообще? Ведь на этом месте у собственника бизнеса есть большое желание не строить модели, а обратиться к консалтингу, чтобы тот пришел, быстренько решил проблему и не важно, каким способом. «Как представитель консалтинга, конечно, скажу: обращение к профессионалам – правильный шаг, – подхватывает Илья Хает. – Сторонний консалтинг обладает «незамыленным» взглядом и может посмотреть на задачу под непривычным для клиента углом зрения. Другая причина привлечения консалтинга – возможность сравнения (бенчмаркинга) организации с другими аналогичными в отрасли и мире. Это может стать хорошей отправной точкой для поиска сферы приложения усилий».
Но если мы говорим о самостоятельном решении задач, то есть простой и действенный подход: необходимо решать задачи теми способами и инструментами, которыми вы уже обладаете (а это 80% усилий). Их выбор под конкретную задачу в этом случае достаточно прост. Оставшиеся 20% усилий нужно тратить на изучение новых методов и программных продуктов, аналогичных проектов, общение в профессиональных сообществах, подбор и наем новых сотрудников – иными словами, расширять ваш арсенал.
«Кроме того, важно помнить, что не все задачи могут быть решены через моделирование. Скажем, никакие каналы общения (в том числе программы лояльности и мобильные приложения) не способны выявить «честной» мотивации различных групп клиентов – тут необходимы глубинные интервью, дизайн-мышление и другие методы «получения инсайтов», – уверен Илья Хает.
«В нашей компании вообще используется другой подход, – рассказывает Александр Гончаров. – Мы не предлагаем внедрять системы, а начинаем с анализа проблем, стоящих перед заказчиком, находим причины проблем и подбираем конкретные инструменты для их решения, это совсем не обязательно должны быть «системы по выстраиванию моделей». Модели сами по себе не нужны, более того, если они не решают проблему, это затраты и вред для бизнеса. Однако не во всех случаях».
Возьмем проблему «клиентов долго обслуживают». Причин у нее может быть множество: необученный персонал, его нехватка, низкая степень автоматизации процессов, неправильно организованные рабочие места, лишние операции. Здесь моделирование помогает, но далеко не всегда. Консалтинг же помогает понять, какую именно проблему нужно решать. «Возможно, ситуация «клиентов долго обслуживают» вообще не является проблемой, например, если ускорение обслуживания не принесет клиенту такой ценности, как решение других проблем», – замечает Александр Гончаров.
Бизнес-процессы каждой компании уникальны. И любому внешнему консалтингу требуются месяцы на погружение в жизнь компании, сбор необходимой информации и формулирование выводов. «В случае построения новых процессов или глобальной трансформации бизнеса эти затраты оправданны. Однако в случае их оптимизации компании обычно справляются своими силами: владельцы и менеджеры самостоятельно исследуют процессы и находят области, требующие улучшений», – полагает Алексей Николаев.
Необходимо лишь понимание существующих методологий и инструментария. При этом их выбор зависит от конкретной задачи. Если рассматривать пример с длительным временем обслуживания клиента, то первым шагом обычно является восстановление карты бизнес-процесса с помощью Process Mining и выявление типовых проблем: самых медленных участков, лишних шагов, множественных циклов. По итогам анализа формируется перечень мероприятий первой очереди. Затем, после их реализации, речь может пойти о применении средств анализа «что, если». И далее процесс можно продолжать до тех пор, пока мероприятия по оптимизации имеют экономический смысл.
Что такое Process Mining
Process mining, или, в переводе, извлечение сведений о процессах, основанное прежде всего на изучении журнала логов информационных систем компании. На основе полученных данных можно построить модели реальных бизнес-процессов и сравнить, похожи они на реальные или нет. Голландский профессор Уил ван дер Аалст, написавший книгу о Process Mining, также инициировал разработку одного из инструментов для анализа процессов – ProM. Инструмент можно бесплатно скачать и пробовать работать, а если не получается, на том же сайте есть бесплатные обучающие онлайн-курсы. http://promtools.org/
Типы Process Mining
-
Воспроизведение (play out) – у вас есть готовая модель и вы на ней пробуете разные сценарии выполнения процессов.
-
Проигрывание (play in) – у вас есть логи из журнала событий, на их основе строится модель процессов.
-
Переигрывание – у вас есть и информация из журнала событий, и готовая модель процессов. Вы воспроизводите реальную последовательность событий и смотрите, как она соотносится с моделью.
Знать, что день грядущий нам готовит, хочет не только обычный человек, но и любой, даже самый крупный бизнес. Гадание тут не поможет, придется заняться прогнозированием. А чтобы прогнозы сбывались, нужно иметь модели, наблюдение за которыми позволит яснее увидеть настоящее и даже заглянуть в будущее. На этот раз мы обсудили с экспертами анализ процессов в ритейле с помощью Process Mining.

Моделирование и продуктовая розница – казалось бы, нет более далеких друг от друга понятий, чем эти. Первое – это наука, промышленность, дизайн в конце концов, но никак не торговля хлебом и молоком. Раньше так и было. Но мы живем в очень быстрое время: на наших глазах происходит множество трансформаций, бизнес становится технологичным, а то, что было сферой науки, проникает в практику компаний самых далеких от теоретических построений.
Сейчас в ритейле моделируют практически все: создаются 3D-модели складов, виртуальные и полуреальные магазины. Полуреальные – это с использованием технологий дополненной реальности, AR. Напомним, что именно так недавно строили новую торговую точку «Ашана» – применяя интерактивные голограммы. С их помощью создали модель магазина в реальную величину, походили между призрачными полками, сделали выводы и исправились еще до начала строительства. Заманчиво. Но мы поговорим о других моделях. О тех, что выглядят максимально абстрактно, как будто бы далеко от жизни, математично. О тех, что стали возможны благодаря современным технологиям.
На каждой профильной конференции твердят: собирайте данные, накапливайте, сливайте в одно место все, что можно, из всех систем компании. Big Data – это золотой прииск в умелых руках. И одно из применений, которые находят себе данные, как раз лежит в области моделирования. Назовем такое моделирование цифровым, чтобы противопоставить его моделированию мира физического с помощью моделей, похожих на свой объект визуально, таких как виртуальный магазин, который похож на свой «каменный» аналог.
У ритейлеров много данных, которые можно анализировать и использовать для построения цифровых моделей: это и видео, и данные из соцсетей, из мобильных приложений, программ лояльности, наконец, от вещей, подключенных к Интернету (IoT). И здесь перечислена только часть источников. Данных много, типов и видов моделирования – тоже. Как известно, слишком большой выбор – зло похуже выбора узкого.
Очевидно, что взять и построить одну глобальную модель «всего» и работать с ней – это утопия. Вернее, не утопия, но модель получится слишком уж примерной: узкие места скроются. «Существуют разные подходы к процессу моделирования. Например, универсализация, когда все потребности можно покрыть одной универсальной моделью. У этого подхода есть преимущества: простота и отсутствие необходимости строить множество моделей. С другой стороны, универсальная модель подразумевает упрощение и сглаживание результатов, – говорит Максим Захир, генеральный директор «Ланит Омни» (группа «Ланит»). – С моей точки зрения, вместо универсальных решений для каждой задачи стоит попытаться разработать собственные методы анализа данных и продумать свои способы достижения результата».
«Я не верю в общую универсальную модель. Проектный опыт показывает, что эффективнее делить деятельность на «слои», – уверяет Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA.
Уровень торговой точки – один из таких слоев. Например, на этом уровне компания по RFID-меткам в корзинах анализирует среднее время, которое покупатель проводит на кассе, и, основываясь на этом, предпринимает меры по улучшению клиентского опыта.
Уровень бизнес-процессов – еще один такой слой, на котором можно выстраивать, к примеру, персональные программы Up-sell. В BPMS (Business Process Management System) ритейлер проектирует правила, по которым клиенту, купившему определенный продукт, предлагаются дополнительные товары. В зависимости от ситуации и бизнес-задачи ритейлер рассматривает тот или иной слой и использует соответствующие модели.
Клюем по зернышку
Первый шаг к моделированию – сбор данных и никак иначе. «Нужно составить список внешних и внутренних источников, которые могут повлиять на формирование моделей», – объясняет Максим Захир. По его словам, к внешним источникам относятся, к примеру, данные о погоде. Типов внутренних данных великое множество: транзакционные данные, данные из программы лояльности, сведения о продажах, данные из справочника магазинов (размер торговой точки, число представленных товарных категорий, количество касс, трафик и его конверсия в покупателей). Не последнее место занимает сайт, в котором с помощью метрик и специальных сервисов отслеживаются трафик и его источники, потребительское поведение, заказы, их исполнение.
Big Data изменила не сами модели, а результаты, которые можно получить. «Принципиальный подход к моделированию не меняется, – утверждает Алексей Николаев, директор центра компетенций по системам управления ИТ и мониторинга компании «Техносерв». – Выбор метода, как и раньше, зависит от той задачи, которую решает компания. Например, сокращение затрат и анализ исследования customer journey потребуют использования разных инструментов и подходов. Позитивные изменения заключаются в том, что большой объем накапливаемых данных позволил в разы увеличить точность моделей и сократить время на их построение и проверку».
Сбор данных – это большой и сложный этап. Ведь данные могут быть какие угодно: от сведений обо всех действиях сотрудников, которые заносятся в информационные системы предприятия, до банального наблюдения. Кстати, если сам факт наблюдения банален, то вот интересные сведения, которые можно почерпнуть, могут быть весьма оригинальны. Интересным кейсом несколько дней назад поделилась компания Ozon, рассказывая в ходе CNews Forum 2019 о своем опыте построения моделей.
Организация доставки в компании с восемью фулфилмент-фабриками и 31 распределительным центром – процесс весьма захватывающий. Поэтому в Ozon все считают и на основе посчитанного пытаются делать прогнозы.: сколько будет собираться посылка, сколько должен работать над каждым заказом распределительный центр, как быстро курьер возьмет свою ношу и сколько будет добираться до конечной точки. Все ходы записаны, прогнозы сбываются, но вдруг – сбой. В одном из центров курьеры постоянно задерживаются на полчаса дольше обычного. Что такое? Кто-то плохо работает? Но все посылки доставляются вовремя, а курьеры по-прежнему сидят в центре сверх рассчитанного. Причины необъяснимы.
Для того чтобы выяснить, какие такие обстоятельства держат сотрудников, на место нужно ехать лично. Поехали. Расследование выявило: именно эта сортировочная точка завела у себя слишком хорошую столовую, и курьеры старались все успеть, чтобы потом с чистой совестью подольше посидеть в приятном месте и отлично поесть.
Ту часть процессов, которую можно назвать «нерегламентированной», тоже стоит учитывать, а данные, подобные описанным выше, – сохранять и записывать. Для построения точных моделей необходимо взять как можно больше информации.
Жадность погубит
Данные накопили, можно моделировать. Что и как? «К сожалению, нет универсального метода моделирования, под каждую задачу требуются свои методики, алгоритмы и инструменты», – говорит Андрей Коптелов, вице-президент ABPMP Russia, бизнес-тренер компании Luxoft.
Если бы можно было внедрить одну цифровую модель на все случаи жизни, то все бы давно это сделали. «Организация логистики – это один процесс со своими переменными и прогнозами, а персонализация предложения покупателю – совсем другой. Никакой универсальности при моделировании нет, – подчеркивает Вадим Каиров, руководитель направления цифровой трансформации бизнеса компании «Рексофт». – В этом-то и заключается сложность его внедрения».
Чем больше гора информации, тем больше искушений. Хочется строить модели всего и сразу: бизнес-процессов, покупательского спроса, поставок. «Набрасываться на все сразу было бы неправильным: в первую очередь необходимо сконцентрировать усилия на одной или нескольких инициативах, призванных решить конкретные, наиболее критические для бизнеса проблемы, – рекомендует Андрей Железняк, эксперт компании «Витте Консалтинг». – Это позволит минимизировать первоначальные инвестиции, не распылять доступные ресурсы и оперативно корректировать стратегию, а в случае подтверждения эффективности предпринятых усилий постепенно расширять круг решаемых задач, используя как уже отлаженные, так и новые технологические подходы».
Анализ больших данных позволяет выполнять широкий спектр задач. «Это может быть работа с оттоком покупателей, повышение эффективности продаж в магазине, подбор персональных предложений. Ритейлеру требуется составить список задач, ранжировать их, понять, с какой начинать и в какой последовательности они будут выполняться», – делится опытом Максим Захир.
Далее возникают вопросы: какие данные у розничной сети есть прямо сейчас, какие она может накапливать для анализа, а какие нужны для достижения результата и решения конкретной задачи? Так, данные в виде аналитики, полученные из магазинов, могут повысить эффективность работы розничных точек, на их основе подбираются персональные предложения. При этом они не принесут пользы в работе с оттоком покупателей. В то же время данные для работы с оттоком не сильно влияют на повышение эффективности магазина. «Отмечу, что крайне важно правильно собирать, структурировать и связывать друг с другом данные, а также использовать именно тот набор данных, который необходим для решения конкретной задачи», – советует Максим Захир.
Неповторимые модели
Некоторые данные без моделирования ритейлер может не получить никогда. Зарубежные игроки вроде Walmart, Amazon и профессиональные ассоциации так или иначе делятся с рынком моделями бизнес-процессов, составляя «эталонные» модели. «В качестве примера можно упомянуть ARTS Retail Model. Российские ритейлеры могут использовать эту и подобные модели для бенчмаркинга, сопоставляя свою процессную архитектуру с эталонной и выявляя участки, которым сейчас не уделяется должного внимания», – говорит Андрей Чепакин.
Не имея четкой имитационной модели (хотя мы и договорились обсуждать более абстрактное моделирование, но все же), крайне сложно получить знания на основе так называемых сценариев «что, если?», в которых учитываются все известные и подробно описываемые факторы взаимного влияния. «Классические BI-системы, конечно, давно позиционируются в качестве пригодного для этого инструмента, однако обилие сущностей и связей в современных бизнес-процессах таково, что получаемая в результате аналитика чаще всего неприменима и не вполне достоверна, даже если на нее затрачиваются значительные средства», – рассуждает Андрей Железняк.
Без моделей сложно делать персонализированные предложения. Их и не делают. Почти не делают. «Исходных данных об истории покупок и их комбинаций так много, что простой аналитики недостаточно. Многие из читателей наверняка совершают покупки в «Перекрестке» и «Пятерочке» и являются участниками программ лояльности. Думаю, что многие могут сделать личные выводы о формировании персонализированных сообщений для вас. Чаще всего мы видим все-таки пока общие товарные предложения либо скидку, которая варьируется от среднего чека конкретного покупателя. Пока здесь нет какого-то глубокого моделирования», – сетует Вадим Каиров.
Творим
Можно выделить три вида моделей. По крайней мере именно столько насчитывают в компании ELMA. По словам Андрея Чепакина, первый вид моделей и самый простой – операционная модель торговой точки. Различными автоматическими способами – от видеонаблюдения в торговых залах до встраивания RFID-меток в корзины – ритейлеры определяют поведение покупателя, «холодные» и «горячие» зоны магазина, оптимальную выкладку товара.
Второй вид моделей возникает, когда мы говорим уже о сети в целом. Это модель бизнес-процессов, ее также принято называть «архитектурой (структурой) бизнес-процессов». Аналитики начинают разбираться, какие сквозные процессы существуют у ритейлера: как компания взаимодействует с поставщиками, как происходит управление ассортиментом, заявочной кампанией, претензиями покупателей, что представляют собой процессы бюджетирования и цепи поставок. В результате получается связанная модель регламентов описания бизнес-процессов.
Операционная модель магазина предполагает серию достаточно быстрых изменений. «Грубо говоря, мы анализируем маршруты посетителей магазина и меняем стеллажи местами. Модель бизнес-процессов, наоборот, статичная, мы договорились, как будет работать вся компания на процессном уровне», – говорит Андрей Чепакин.
Третий вид – модель Customer Journey – основана на изучении больших объемов клиентских данных для взаимодействия с аудиторией в режиме реального времени. Используя эту модель, мы пытаемся понять, как воспринимает магазин покупатель, расписываем его поведение на разных стадиях и выстраиваем гипотезы воздействия.
Археологические раскопки
Интересный вид моделей можно построить в ходе Process Mining, или, если по-русски, в ходе процессной аналитики. Сама технология возникла в 2001 году, через девять лет ее попытались внедрить в России, но тогда эта тема не смогла захватить умы отечественных корпораций. И совершенно зря. В чем суть? У ритейлера уже внедрено множество информационных систем, куда сами собой по факту совершения записываются различные действия сотрудников, тем самым формируя так называемый журнал логов. На самом деле на бытовом уровне с этим процессом сталкиваются все, кто включил компьютер. Вы пошли на сайт? Это записалось в историю браузера. Открыли текстовый редактор и напечатали пару фраз? Действие можно отменить именно потому, что программа его запомнила и записала, иначе и отменять было бы нечего: что не записано, то не существует, по крайней мере в цифровом мире дела обстоят именно так.
Раз системы уже полны такими сведениями, отчего бы их не применить на практике? Например, для того, чтобы посмотреть: а точно ли наши бизнес-процессы в реальности соответствуют тому, что мы придумали себе в ходе теоретизирования. Компании, заглянувшие в логи и построившие модели бизнес-процессов на их основе, бывали поражены открывшимися взору истинами. Сотрудники отфутболивают неугодные задачи, в ходе скитаний по отделам заявки не исполняются месяцами, а после и вовсе теряются, то, что должно занимать минуты, занимает часы – и наоборот. Копеечные действия на деле обходятся дорого. И это только часть инсайтов.
«В ритейле Process Mining обычно применяется для анализа поведения покупателей. В корейском ритейле, например, есть проекты по анализу прохождения покупателя по магазину. Специальные датчики отслеживают по WiFi позиционирование смартфонов покупателей, чтобы составить карту их перемещений от товара к товару», – говорит Александр Черкавский, эксперт по цифровой экономике РАНХиГС при Президенте РФ, преподаватель кафедры «Управление бизнес-процессами» экономического факультета РАНХиГС.
Технология Process mining коренным образом меняет подход к созданию моделей бизнес-процессов. Вместо традиционных методов сбора информации (интервьюирование, наблюдение), требующих больших временных затрат от консультантов и поэтому дорогостоящих, Process Mining требует времени только на выгрузку и обработку данных из информационных систем (а в случаях, если используется корпоративная система типа SAP, и этого не требуется, система Process Mining получит данные через специальную программу-коннектор). «Тем не менее совсем без консультантов не обойтись: необходимо правильно определить процессы для анализа, исследование которых может привести к решению именно проблемы, интересующей заказчика», – отмечает Александр Гончаров, старший бизнес-аналитик компании ICL Services.
По его мнению, Process mining имеет и ограничения: технология неприменима при проектировании новых процессов, нужно использовать классические методы. Также есть требование к автоматизации бизнес-процессов: если некоторые операции процессов выполняются вручную или не вся информация попадает в логи информационных систем, есть риск не получить достоверную модель процессов.
Поднимите мне веки
Когда говорят о BPM, то часто упоминают, что бизнес-моделирование – процесс дорогой, поэтому сначала надо выстроить бизнес-модель, а потом уже действовать (сначала теория, а потом практика). Однако в случае с Process Mining процесс обратный: сначала мы исследуем логи реальных процессов, потом строим модель, затем – выводы. Process mining является автоматизированным систематическим подходом по определению фазы «как есть» улучшения бизнес-процессов (BPI) и измерению воздействия сопутствующих изменений в ходе этого улучшения. Process mining помогает находить точки роста или улучшения. «Вы либо начинаете применять этот подход, либо нет. Моделирование бизнес-процессов от этого не меняется», – комментирует Александр Черкавский.
«Здесь нет противоречия, – подтверждает Андрей Чепакин. – Да, бизнес-моделирование производится по канонам BPM: создается модель, в рамках единой архитектуры которой все бизнес-процессы предприятия связываются между собой. Чтобы разобраться в логике работы отдельного процесса в этой модели, как раз и используется Process Mining. Условно, у нас есть небольшой процесс «Обработка рекламаций к поставщику», и мы с помощью Process Mining изучаем, как этот процесс проходит. Интересно, что этот инструмент не гарантирует правильности построения модели, он лишь позволяет зафиксировать текущее состояние процессов. То есть эту же задачу на проекте может выполнить и аналитик».
Однако, как отметил Андрей Чепакин, у Process Mining есть одно серьезное преимущество: полученные данные могут служить важным аргументом в разговоре с топ-менеджментом. По сути, инструментарий Process Mining дает исчерпывающую объективную картину того, как работает компания. «Мы вдруг выясняем, что в 2019 году лишь малая часть экземпляров процесса проходит так, как мы рассчитывали, а большинство задач зациклились и требуют больших операционных расходов. Process Mining позволяет собрать некую доказательную базу, для того чтобы у топ-менеджмента «открылись глаза», – говорит он.
Process Mining дополняет подходы к моделированию новым инструментарием и новыми возможностями. «Применение этой технологии позволяет сократить затраты на сбор первичной информации о том, как устроен процесс сейчас. Причем речь идет не только о финансовых, но и о временных затратах на привлечение консультантов и выполнение обследования», – рассуждает Алексей Николаев.
По его словам, понимание того, как устроен бизнес-процесс, может быть получено за одну-две недели после нескольких итераций автоматического восстановления карты процесса и ее верификации с его владельцами и участниками. При этом точность получаемого результата будет существенно выше. Кроме того, Process Mining позволяет сократить время на получение обратной связи: информации о том, как повлияли внесенные изменения на реализацию процесса.
«Преимущество Process Mining заключается в поиске исключительных ситуаций, которые негативно влияют на показатели процесса, ведь эксперты часто не скажут о негативных сценариях бизнес-процесса. Применение Process Mining дает более подробный анализ бизнес-процесса с опорой на фактические данные из информационных систем», – считает Андрей Коптелов.
Process Mining как технология, без сомнения, представляет иной подход к бизнес-моделированию по сравнению с BPM. При этом на уровне конкретных программных продуктов мы наблюдаем взаимопроникновение и взаимодополнение этих технологий. Об этом говорят эксперты компании «Витте Консалтинг». «Тут одно должно дополнять другое. Мы не можем приступить к Process Mining, не имея тех самых логов или других информационных артефактов существующих процессов. Более того, построенная в результате модель во многих случаях будет требовать доказательства эффективности посредством проведения A/B тестирования, для которого необходимо наличие контрольного варианта процесса, не затронутого трансформацией. Так что, на мой взгляд, необходимо в любом случае начинать с выстраивания базовой бизнес-модели и в дальнейшем совершенствовать ее при помощи Process Mining», – заключает Андрей Железняк.
Развлечения для взрослых
Звучит все это здорово, но если посмотреть на внедрения, особенно именно этой технологии – Process Mining, их практически нет. Часто ли вообще продуктовые ритейлеры строят цифровые модели для моделирования процессов в организации, для изучения customer journey, иных целей? «Построение модели бизнес-процессов – первоочередной по важности шаг, без которого ритейлеру невозможно добиться операционной эффективности. Только после того, как модель выстроена и компания понимает, как она работает, появляется относительное спокойствие, необходимое для дальнейшего совершенствования, – другими словами, сложно улучшить то, что непонятно как работает. Следующий шаг – использование модели Customer Journey для улучшения работы с покупателями», – говорит Андрей Чепакин.
Но если торговые сети из списка топ-5 крупнейших ритейлеров могут позволить себе все что угодно, то это еще не значит, что обращение к моделированию – это обычная практика ритейла. «В нашей стране действительно моделированием занимаются пока не так часто, если речь не идет, как вы заметили, о лидерах рынка», – соглашается Андрей Железняк. По его словам, у нас есть лишь отдельные примеры того, как ориентированные на инновации руководители начинают делать осторожные шаги в этом направлении в стремлении обеспечить себе конкурентные преимущества. Другие, оглядываясь на лидеров и зарубежные кейсы, пытаются, конечно, что-то перенимать, но подходят к этому довольно бессистемно, и очень часто их усилия толком ни к чему не приводят. При этом многие по-прежнему считают подобные инициативы слишком затратными, а в обозримом будущем даже малоперспективными для компаний, в которых уже укоренились определенные бизнес-подходы, выработанные за годы проб и ошибок. Однако даже для небольших сетей подобные инициативы были бы полезны, и это понимают глобальные технологические вендоры, такие как SAS и Informatica, выпуская специальные пакеты решений в области продвинутой ритейл-аналитики для среднего и малого бизнеса.
В обозначенной группе (секторе СМБ) моделирование – зверь редкий. «Единственное, надо уточнить, что составление бюджета P & L и моделирование процессов – это две разные задачи. Бюджеты делают все. А вот построение цифровой модели для моделирования процессов является достаточно сложным процессом. Необходимо использовать специализированное ПО, привлекать отдельные ресурсы. Цифровая модель как одна из задач создания цифрового двойника в последнее время стала применяться на новых современных производствах, когда цена ошибки или издержек слишком велика. В ритейле же моделирование применяется только в самых больших сетях в области логистики и закупок», – поясняет Вадим Каиров.
«Мы чувствуем, что на рынке есть спрос на построение цифровых моделей. Но в действительности это формирующийся процесс, и ритейлеры, которые не входят в топ-5, находятся в самом начале пути», – добавляет Максим Захир.
Большинству небольших розничных компаний пока вполне достаточно «классического» моделирования бизнес-процессов для регламентации операционной деятельности магазинов и автоматизации логистических цепочек. «Применение более серьезных инструментов, боюсь, в ближайшее время не окупится», – подчеркивает Андрей Коптелов.
Достаем калькуляторы
В попытках понять, насколько затратным для ритейлера будет это развлечение – построение цифровых моделей, мы спросили наших экспертов, как быстро окупаются затраты на разработку и построение модели в продуктовом ритейле? «Традиционно стоит ориентироваться на срок до одного года, – отвечает Андрей Чепакин.
По его мнению, источников окупаемости в построении модели бизнес-процессов несколько. Главный – снижение операционных расходов. Выстраивая процессы, компания наводит порядок внутри себя. Теперь сотрудники четко и слаженно выполняют задачи по процессу, вместе с задачей приходят все данные для исполнения, не возникает вопросов, кто ее должен делать. За счет того, что в ритейле много транзакций – компания каждый день принимает товар и продлевает договоры с поставщиками, – окупаемость достигается быстро.
Второй источник окупаемости – создание уникальных бизнес-моделей. Когда компания осознанно перестраивает процессы логистики или коммуникации с клиентами, чтобы получить конкурентное преимущество.
Ритейл характеризуется интенсивностью и однотипностью операций: продажи, закупка товаров, доставка, возвраты. Поэтому даже незначительное улучшение процесса приводит к быстрой финансовой отдаче. «Опираясь на нашу практику, могу отметить, что анализ новогодних продаж в одном из магазинов показал, что потенциальная выгода от оптимизации процесса и соответствующего сокращения объема отказов от покупки на примере всего лишь одной популярной товарной позиции окупала проект за три-четыре месяца», – делится Алексей Николаев.
Со сроками определиться трудно, считает Александр Черкавский: «По сути, моделирование – это часть функции «Разработка и исследования» (R & D). Поэтому затраты на моделирование зависят от того, сколько денег организация тратит на R & D. Без уточнения конкретики по решаемым в ходе моделирования задачам оценить затратность не получится. Но скажу, что, например, исследователи по данным (Data Scientists) могут собирать и анализировать данные, а потом строить только одну модель для проверки какой-то гипотезы от одного до трех месяцев».
Цифровой Доппельгангер
Если строить модели – дорого, то, может быть, тут поможет технология, о которой тоже заговорили не так давно? Цифровой двойник организации. Технология, которая проникла в бизнес из промышленности. С последней все понятно: если у тебя есть турбина и есть все данные о ее работе, может быть, она сама поставляет все данные о том, что происходит с ней прямо сейчас, то построение цифрового двойника, который можно покрутить, обследовать удаленно и сделать прогнозы о его дальнейшем жизненном цикле, – это то, что нужно.
Но сейчас заняться цифровыми доппельгангерами предлагают компаниям самого разного профиля – это один из трендов. Может ли ЦДО – цифровой двойник организации – стать одной всеобъемлющей моделью? Тогда ритейлер оставит в прошлом всю возню с построением моделей на каждый отдельный процесс или каждую область в своей компании.
«Существующие информационные системы не позволяют выстроить цифрового двойника, в полной мере удовлетворяющего пожеланиям бизнеса, – сомневается в успехе этой затеи Андрей Чепакин. – Они дают возможность взглянуть на организацию только с одной стороны. Например, цифровой двойник логистических операций показывает организацию с точки зрения движения ТМЦ. Я бы рассматривал ЦДО как еще одного поставщика данных для принятия стратегических решений при реализации корпоративных преобразований. Искать новые ниши и модели бизнеса, управлять переходом из традиционной розницы в онлайн – эти задачи с руководителей никто не снимет».
Цифровой двойник – это сложная и затратная вещь. «Внедрение ее в ритейле во всех процессах неочевидно. ЦДО оправдан там, где процессы меняются редко, данных, получаемых в результате работы процессов, много, и цена ошибки из-за неверного процесса слишком высока, так как процесс нельзя быстро и дешево изменить», – считает Вадим Каиров.
В ритейле же процессы меняются часто. Как только процесс «начал давать сбой», это быстро выясняется, и его сразу оптимизируют, поэтому цена ошибки довольно низка. Постоянная адаптация ЦДО под изменения рынка может не окупаться у большинства ритейлеров. Получается, что технология без понятного экономического эффекта не нужна. Ведь кто-то должен оплатить ее внедрение.
«Все продуктовые ритейлеры в России находятся на разном уровне зрелости, – говорит Александр Черкавский. – Виртуальные модели или представления в понимании концепции цифровых двойников они практически не строят, поскольку на их уровне зрелости им хватает работы над традиционными операционными моделями: логистика, ценообразование, производственный цикл». По его убеждению, процессы создания виртуальных моделей в концепции цифровых двойников, моделей бизнес-процессов, моделей в рамках обработки Big Data подразумевают постоянное выполнение экспериментов. Большая часть этих экспериментов вообще не окупается. А то, что сработало, дает эффект улучшения операционных показателей от 1 до 4%. Обычно этого достаточно, чтобы обосновать продолжение таких занятий.
«А я соглашусь с утверждением, что цифровой двойник организации необходим всем», – говорит Сергей Половников, заместитель генерального директора компании «СевенПро». – Но здесь другой вопрос очень важен. Вопрос цены данной задачи для конкретного ритейлера. Ведь ЦДО решает совершенно конкретный круг задач. И чтобы создать ЦДО, тоже необходимо потратить ресурсы, время. Но ведь вполне справедливо, когда ритейлер сам себя спрашивает и тут же отвечает: а нужен ли мне ЦДО? Что он сделает такого, чего я сам не смогу? Возможно, что конкретно взятый ритейлер и без всякого ЦДО настолько хорошо понимает своего клиента и свой рынок, настолько хорошо понимает своих контрагентов и свои продукты, что никакой двойник не принесет ему добавленной стоимости. Таких компаний-ритейлеров очень и очень мало… Не будем называть их имени».
Но все-таки для многих ритейлеров создание ЦДО – это действительно конкурентное преимущество. Ритейл сейчас переживает не лучшие времена, рынок потребления очень сильно трансформируется по причине того, что меняется поведенческая модель покупателя, и тот, кто будет успевать за трансформацией этой модели, кто сможет предвидеть ее будущие изменения, будет иметь максимально высокую возможную рентабельность бизнеса.
Построение цифрового двойника организации – еще одна глобальная технологическая тенденция. Однако для ее полноценной реализации потребуется решить множество аспектов, связанных с формализацией всех процессов организации, унификацией стратегий, внедрением единых метрик, обеспечением соблюдения регуляторных требований, корпоративных и отраслевых норм и правил, которые в сфере ритейла, да и в любых других сферах еще не выработаны окончательно или вовсе отсутствуют. «Одним из первых шагов в эту сторону как раз и видится построение моделей, которые в дальнейшем не будут заменены цифровым двойником, а станут одной из его полноценных функциональных составляющих», – говорит Андрей Железняк.
Помимо прочего административный опыт организации, наличие квалифицированного персонала и организационных ролей в области информации, а также внедренные технологические платформы и наработки, связанные с моделированием бизнес-процессов, станут серьезным подспорьем в процессе цифровой трансформации ритейлера, в частности при создании его цифрового двойника.
Как игра
Строить только одну модель несколько месяцев – это то, чем славится настоящая наука, которой нет дела до сроков и суеты коммерческого мира. Месяцы для науки – это секунды, потому что тут для подтверждения гипотез могут понадобиться годы и столетия. Бизнес такие сроки не устраивают. Современное ПО позволяет вести разработку моделей с помощью развитых графических средств и не требует от специалистов обязательного знания языков программирования.
Можно ли ожидать того, что в будущем процесс бизнес-моделирования настолько упростится, что его можно будет сравнить с игрой в компьютерную стратегию, которая доступна рядовому пользователю? Или такого не будет никогда, и ритейл по-прежнему будет нуждаться в высококвалифицированных специалистах и бизнес-консультантах?
Как считают многие исследователи, в ближайшем будущем появится целый класс «гражданских» специалистов по данным, не обладающих глубокими знаниями в области data engineering и data science, но способных решать различные задачи с использованием именно визуальных средств моделирования и диагностики. «Дело в том, что технологии машинного обучения (точнее, нейронных сетей) динамичны по своей природе и позволяют адаптироваться к изменяющимся или новым данным, и, несмотря на то, что подобные решения напоминают многим руководителям «черный ящик», именно они позволят автоматизировать многие задачи, связанные с наукой о данных. Это не значит, что высококвалифицированные специалисты более не будут нужны, однако они, скорее всего, сконцентрируются на обучении и контроле этих простых в применении, но сложных по своему устройству решений, порождающих целый комплекс совершенно новых задач», – объясняет Андрей Железняк.
С развитием Low-Code работа аналитика трансформировалась. BPMS позволяет без программирования переводить бизнес-процессы в исполняемый вид. «От специалиста уже не требуется долгой отрисовки блок-схем и написания кода. Вместо этого аналитик превращается в человека, который отвечает за логику процессов и предлагает улучшения. От него требуются в первую очередь компетенции понимания бизнеса, потому что аналитик, работая над процессами, должен разговаривать с бизнесом на одном языке», – делится своей точкой зрения Андрей Чепакин.
Уже сейчас появились решения, которые на основании видеопотока работающих сотрудников предлагают оптимизацию отдельных операций. «Есть примеры применения инструментов Process Discovery, которые анализируют экраны рабочих станций сотрудников, что позволяет найти рутинные операции для дальнейшей автоматизации», – рассказывает Андрей Коптелов.
Но несмотря на это, успешное моделирование случается только при наличии сложившейся пары: бизнес-аналитика, который глубоко понимает предметную область и обладает навыками анализа, и эксперта по моделированию, способного сформировать саму модель и необходимые для ее анализа инструменты. Об этом рассказывает Илья Хает, эксперт компании «Витте Консалтинг». По его мнению, развитие инструментов моделирования действительно упрощает жизнь и первому, и второму.
Отказ от бизнес-аналитика приведет к невозможности правильной трактовки результатов моделирования. Избавиться от экспертов по моделированию в ближайшее время тоже не получится: стремительно растет состав данных, состав доступных к применению методов и инструментов, потребность в интеграции разных моделей. «Да, процесс бизнес-моделирования может превратиться в подобие компьютерной игры, но только для очень типизированных задач (тогда что в них оптимизировать и на чем конкурировать?) или для простых задач (а число таких нерешенных задач стремительно падает), – говорит Илья Хает.
На самом деле будущее ближе, чем кажется. В этом уверен Александр Гончаров. Как он рассказал, системы документооборота и некоторые современные системы BPMS для настройки бизнес-процессов уже давно не требуют программирования, бизнес-процессы можно собирать из блоков-операций, как конструктор. Но более интересные возможности появляются с развитием искусственного интеллекта и систем машинного обучения. «Например, ведущие производители систем Process Mining уже начинают подключать ИИ к анализу эффективности бизнес-процессов, выявлению отклонений и их причин, по сути, выполняя одну из задач бизнес-консультанта. Потребность в бизнес-консультантах не исчезнет совсем, для них всегда останется работа по решению многоаспектных проблем по управлению организацией, но повышать эффективность рутинных бизнес-процессов пользователи смогут сами», – с уверенностью смотрит в будущее Александр Гончаров.
Две головы – лучше?
Мы уже несколько раз упоминали в тексте консультантов. Но все ИТ-компании, которые внедряют системы по выстраиванию моделей, обещают, что клиент «вычислит узкие места», «получит инсайты», «узнает все, что скрыто» и так далее. Каким образом ритейлер должен понять, какая модель подойдет его ситуации лучше всего? Скажем, клиентов долго обслуживают. Что делать? Обратиться к логам ИС и посмотреть, правильно ли выстроен бизнес-процесс по данному направлению? Сделать имитационную модель? Анализировать видеопотоки? Какую модель строить и строить ли вообще? Ведь на этом месте у собственника бизнеса есть большое желание не строить модели, а обратиться к консалтингу, чтобы тот пришел, быстренько решил проблему и не важно, каким способом. «Как представитель консалтинга, конечно, скажу: обращение к профессионалам – правильный шаг, – подхватывает Илья Хает. – Сторонний консалтинг обладает «незамыленным» взглядом и может посмотреть на задачу под непривычным для клиента углом зрения. Другая причина привлечения консалтинга – возможность сравнения (бенчмаркинга) организации с другими аналогичными в отрасли и мире. Это может стать хорошей отправной точкой для поиска сферы приложения усилий».
Но если мы говорим о самостоятельном решении задач, то есть простой и действенный подход: необходимо решать задачи теми способами и инструментами, которыми вы уже обладаете (а это 80% усилий). Их выбор под конкретную задачу в этом случае достаточно прост. Оставшиеся 20% усилий нужно тратить на изучение новых методов и программных продуктов, аналогичных проектов, общение в профессиональных сообществах, подбор и наем новых сотрудников – иными словами, расширять ваш арсенал.
«Кроме того, важно помнить, что не все задачи могут быть решены через моделирование. Скажем, никакие каналы общения (в том числе программы лояльности и мобильные приложения) не способны выявить «честной» мотивации различных групп клиентов – тут необходимы глубинные интервью, дизайн-мышление и другие методы «получения инсайтов», – уверен Илья Хает.
«В нашей компании вообще используется другой подход, – рассказывает Александр Гончаров. – Мы не предлагаем внедрять системы, а начинаем с анализа проблем, стоящих перед заказчиком, находим причины проблем и подбираем конкретные инструменты для их решения, это совсем не обязательно должны быть «системы по выстраиванию моделей». Модели сами по себе не нужны, более того, если они не решают проблему, это затраты и вред для бизнеса. Однако не во всех случаях».
Возьмем проблему «клиентов долго обслуживают». Причин у нее может быть множество: необученный персонал, его нехватка, низкая степень автоматизации процессов, неправильно организованные рабочие места, лишние операции. Здесь моделирование помогает, но далеко не всегда. Консалтинг же помогает понять, какую именно проблему нужно решать. «Возможно, ситуация «клиентов долго обслуживают» вообще не является проблемой, например, если ускорение обслуживания не принесет клиенту такой ценности, как решение других проблем», – замечает Александр Гончаров.
Бизнес-процессы каждой компании уникальны. И любому внешнему консалтингу требуются месяцы на погружение в жизнь компании, сбор необходимой информации и формулирование выводов. «В случае построения новых процессов или глобальной трансформации бизнеса эти затраты оправданны. Однако в случае их оптимизации компании обычно справляются своими силами: владельцы и менеджеры самостоятельно исследуют процессы и находят области, требующие улучшений», – полагает Алексей Николаев.
Необходимо лишь понимание существующих методологий и инструментария. При этом их выбор зависит от конкретной задачи. Если рассматривать пример с длительным временем обслуживания клиента, то первым шагом обычно является восстановление карты бизнес-процесса с помощью Process Mining и выявление типовых проблем: самых медленных участков, лишних шагов, множественных циклов. По итогам анализа формируется перечень мероприятий первой очереди. Затем, после их реализации, речь может пойти о применении средств анализа «что, если». И далее процесс можно продолжать до тех пор, пока мероприятия по оптимизации имеют экономический смысл.
Что такое Process Mining
Process mining, или, в переводе, извлечение сведений о процессах, основанное прежде всего на изучении журнала логов информационных систем компании. На основе полученных данных можно построить модели реальных бизнес-процессов и сравнить, похожи они на реальные или нет. Голландский профессор Уил ван дер Аалст, написавший книгу о Process Mining, также инициировал разработку одного из инструментов для анализа процессов – ProM. Инструмент можно бесплатно скачать и пробовать работать, а если не получается, на том же сайте есть бесплатные обучающие онлайн-курсы. http://promtools.org/
Типы Process Mining
-
Воспроизведение (play out) – у вас есть готовая модель и вы на ней пробуете разные сценарии выполнения процессов.
-
Проигрывание (play in) – у вас есть логи из журнала событий, на их основе строится модель процессов.
-
Переигрывание – у вас есть и информация из журнала событий, и готовая модель процессов. Вы воспроизводите реальную последовательность событий и смотрите, как она соотносится с моделью.
Знать, что день грядущий нам готовит, хочет не только обычный человек, но и любой, даже самый крупный бизнес. На этот раз мы обсудили с экспертами анализ процессов в ритейле с помощью Process Mining. [~PREVIEW_TEXT] => Знать, что день грядущий нам готовит, хочет не только обычный человек, но и любой, даже самый крупный бизнес. На этот раз мы обсудили с экспертами анализ процессов в ритейле с помощью Process Mining. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4439 [TIMESTAMP_X] => 05.02.2020 21:42:29 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 710 [WIDTH] => 1002 [FILE_SIZE] => 390216 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/948 [FILE_NAME] => 94854093d0b471d1f697610239d8b882.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_717996685.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 8307fbd383064e41b95aefe7ccd22980 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/948/94854093d0b471d1f697610239d8b882.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/948/94854093d0b471d1f697610239d8b882.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/948/94854093d0b471d1f697610239d8b882.jpg [ALT] => Модели на подиуме [TITLE] => Модели на подиуме ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4439 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => modeli-na-podiume [~CODE] => modeli-na-podiume [EXTERNAL_ID] => 5448 [~EXTERNAL_ID] => 5448 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 04.02.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Модели на подиуме [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Модели на подиуме [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Знать, что день грядущий нам готовит, хочет не только обычный человек, но и любой, даже самый крупный бизнес. На этот раз мы обсудили с экспертами анализ процессов в ритейле с помощью Process Mining. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Модели на подиуме [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Модели на подиуме | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [10] => Array ( [ID] => 5378 [~ID] => 5378 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Вещи для нас [~NAME] => Вещи для нас [ACTIVE_FROM_X] => 2019-12-11 16:43:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2019-12-11 16:43:00 [ACTIVE_FROM] => 11.12.2019 16:43:00 [~ACTIVE_FROM] => 11.12.2019 16:43:00 [TIMESTAMP_X] => 11.12.2019 19:50:01 [~TIMESTAMP_X] => 11.12.2019 19:50:01 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/veshchi-dlya-nas/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/veshchi-dlya-nas/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Интернет сначала объединил компьютеры, потом – людей за этими компьютерами, а затем снова взялся за вещи. И этих вещей в сети становится все больше. В исследовании портала Business Insider сказано, что в прошлом году уже насчитывалось 10 млрд IoT-устройств, но это пустяки по сравнению с тем, что будет всего через пять лет. Эксперты того же исследования предсказывают: в Интернет переберутся 64 млрд вещей. И ритейл, разумеется, в стороне от этого процесса не останется.

Интернет вещей сейчас везде. «Умные» полки, тележки, холодильники уже никого не удивляют. Поумнеть пришлось даже унитазам, как, например, это сделали туалеты в японском аэропорту Нарита. Функцию IoT здесь внедрили в апреле этого года, для того чтобы поразить воображение иностранцев, прибывающих в Страну восходящего солнца. Причем компания, занимающаяся внедрением, смотрит далеко: конечная цель вовсе не чистые туалеты и бумага в изобилии. Их цель – продажи, которые в самой Японии упали. Почему бы не сделать так, чтобы они выросли за счет потрясенных иностранных гостей? Попользуются «умным» унитазом в аэропорту, глядишь, и себе такой купят.
Поначалу Интернет вещей выезжал на хайпе: кому не хочется почувствовать себя в будущем и поохать, глядя на то, как зубная щетка за 8000 руб., объединившись со смартфоном, учит тебя жить и чистить зубы правильно? Еще больше поражает воображение тазик-эвтаназик для мышей, у которого есть своя панель управления и даже собственная сим-карта, чтобы не зависеть от наличия в доме Wi-Fi. Мышь, забегая в ловушку, прерывает два инфракрасных луча (да-да, мы все видели, как это происходит со шпионами в голливудских фильмах), цепь отключается, дверца закрывается, и внутрь «умного» устройства начинает поступать углекислый газ. Мышь умирает «мгновенно и гуманно», а компания сообщает: «Мы предлагаем вам душевное спокойствие».
Но IoT здесь заключается не в том, чтобы убить животное быстро, это многие из нас и сами умеют. Чудеса техники начинаются дальше. После захвата «заложника» сигнал с устройства отправляется на панель управления, а оттуда – в колл-центр компании, чтобы она могла бы прислать вам на дом специально обученного человека, который и унесет труп. «Вам не нужно ничего делать, мы свяжемся с вами сами, чтобы сообщить о проблеме с мышью, и разработаем эффективный план, которые решит эту проблему быстро и незаметно», – только одно это предложение с их сайта уже заставляет поверить, что мы живем в самой настоящей фантастике – восхищающей или ужасающей, тут уж кому как.
Под колпаком
Ужас заключается в том, что еще десять лет назад, когда про Интернет вещей, или IoT, большей частью теоретизировали, эксперты уже уверенно и убедительно пугали нас хакерами, которые могут взломать все: от вашей «умной» кофеварки до сердечного клапана. Интернет – это ведь не только выход, но и вход. Чем больше вещей подключено к глобальной сети, тем больше возникает лазеек, через которые к вам в дом влезет кое-что покрупнее мыши. Причем обнаружить это снаружи, особенно для неспециалиста, сложно: вы радуетесь «умному» дому, а он потихоньку DDoS-ит врагов, причем совсем не ваших.
Способность ботов вызывать хаос на глобальном уровне выросла именно благодаря распространению Интернета вещей. Бизнесу еще хуже: он попадает под удар в первую очередь, ведь пощипать корпорацию всегда интереснее, чем одного отдельно взятого, пусть и очень богатого человека.
Под крупную добычу даже создают отдельные сети ботов. В марте Kaspersky выловили новую версию, которая нацелена именно на корпоративные IoT-устройства. Ботнет по имени Mirai поражает не только точки доступа, сетевые камеры, маршрутизаторы, но и рекламные панели и беспроводные системы презентаций. Не успели мы привыкнуть к модному словосочетанию Digital Signage, как технология уже под угрозой! Ранее Kaspersky обвинил этот ботнет в 21% всех заражений устройств Интернета вещей, дав эти цифры в своем отчете за первое полугодие 2018 года.
«Безусловно, массовые внедрения недорогих IoT-устройств открывают широкие возможности для злоумышленников, – говорит Павел Романченко, технический директор Центра инноваций «Инфосистемы Джет». – Дешевые устройства зачастую имеют «дыры» в безопасности, и производитель не предоставляет обновления для их закрытия. Очень много так называемых ботнетов развернуто на IP-камерах. Все это представляет большую и серьезную угрозу для массового разворачивания решений на базе IoT».
Но волков бояться – в лес не ходить. По словам Павла Романченко, рынок уже вырабатывает меры для преодоления этих преград: специализированные операционные системы для IoT, выделенные сетевые решения, анализ трафика и так далее. «Главное, подходить к проектированию решения IoT с пониманием особенностей технологии», – говорит он.
Если посмотреть на статистику, то видно, что бизнес опасается угроз, но даже опасность не в состоянии остановить развитие. Так, по прогнозам исследовательской компании Research Nester, российский рынок IoT будет расти в среднем на 19,62% в год и, как ожидается, достигнет $74 млрд к 2023 году.
Массовое внедрение решений IoT неизбежно. Другое дело, что подавляющее большинство из них недостаточно защищены. «Многие компании считают, что если данные передаются в доверенную сеть, то доступ к ним надежно защищен, – комментирует Валерий Милых, руководитель группы IoT группы компаний Softline, – но это не так. Злоумышленники не стоят на месте: подключения к сети, подмены получателей и отправителей возможны и будут встречаться все чаще. Есть некоторые надежды на блокчейн, особенно на смарт-контракты, как инструмент достоверной доставки информации и команд».
Однако – и в этом уверен Валерий Милых – самое надежное решение для защиты данных – использование распределенного интеллекта. «Думающие» системы не примут нетипичное сообщение, «не поверят» почти достоверным данным. Взаимодействие с внешним миром позволит таким системам проверять спорную информацию самостоятельно, используя разные каналы и обмениваясь друг с другом запросами: «А ты ждешь такую информацию?»
Фактически мы начинаем выстраивать сообщество «профессионалов» – обученных систем искусственного интеллекта, способных самостоятельно глубоко анализировать и извлекать информацию из недетерминированных источников, нивелируя попытки внешнего воздействия. Похоже на то, как это делает человек.
«На мой взгляд, безопасным Интернет вещей может сделать только комбинация методов. Например, использование аппаратного конечного автомата (довольно сложная для взлома система) на входе в IoT-систему, интеллектуальной системы глубокого анализа и смарт-контрактов внутри системы, а также дублирующих связей для исключения одной точки проникновения», – считает Валерий Милых.
Переход на цифру
Учитывая все то, что мы сказали во вступлении, кажется, что теперь никто не захочет связываться с Интернетом вещей. Разумеется, это не так. Кое-что ритейл никогда бы не получил, не появись технологии IoT.
Современное развитие технологий пришло к большой унификации как оборудования, так и интерфейсов программного обеспечения, что дало возможность строить любые информационные системы быстро, не теряя времени и средств на индивидуальную разработку. Об этом рассказывает Сергей Широков, руководитель проектов IoT для ключевых клиентов АО «ЭР-Телеком Холдинг». «Появилась возможность за счет энергоэффективных технологий при помощи датчиков оцифровать любой объект: продуктовую тележку, пакет с продуктами, человека. При этом не надо тянуть провода, заряжать батареи каждые пять минут. Без IoT мы никогда не узнаем, как передвигаются и где находятся предметы, не имеющие электропитания: клиентские тележки, палеты, крупногабаритные товары», – объясняет он.
«Без IoT ритейлер не сможет конкурировать с компаниями, которые уже используют эти технологии, поскольку потеряет преимущество в оптимизации важных бизнес-процессов, – говорит Владимир Алмазов, руководитель направления RFID и IoT компании «Первый Бит». – IoT – это когда вещи взаимодействуют с электронными системами по определенным, заданным алгоритмам. Когда мы оснащаем идентификационными метками товары, они позволяют нам в автоматическом режиме получать данные о местонахождении продукции, ее свойствах: температуре, влажности и прочем».
По словам Владимира Алмазова, IoT дает дополнительное измерение контроля процессов. То есть ритейлер сможет более эффективно контролировать движение и качество товара, реализовывать прогностические модели по запасам на складе. Развитие IoT – веха на пути развития цифровой экономики. Если ритейлер не уделяет особого внимания цифровой трансформации своего бизнеса, он рискует потерять клиентов и оказаться в роли догоняющего, так как конкуренты не дремлют.
Считаем ваших котов
Для ритейлера важно повышать качество обслуживания клиентов, и IoT подходит идеально. «Без использования новых технологий ритейлеры никогда бы не получили мгновенной оценки качества оказываемых услуг. Определение предпочтений покупателей, предупреждение ошибок в работе оборудования и оформлении ценников, предупреждение хищений, быстрая инвентаризация – вот краткий перечень задач, которые торговые сети решают с помощью IoT», – рассказывает Валерий Милых.
Обычно еще говорят, что IoT помогает обслуживать покупателей, объединяя данные с камер видеонаблюдения, мобильных устройств и социальных сетей. Давайте поподробнее рассмотрим, как это работает. Допустим, я зашла в магазин. Мобильное устройство говорит, что я в зале, камера видит, по каким рядам я хожу, в соцсетях у меня котики. Что вся эта бессвязная и бедная информация может дать ритейлеру? «Социальная активность – это не только котики, – смеется Павел Романченко. – По фотографиям, друзьям и геометкам можно составить хороший портрет человека: его социальное положение, примерный доход, количество и возраст детей, интересы. Все это может быть использовано в приложении для установки персональных скидок. Покупатель открывает это приложение, видит предложение вроде «для вас сегодня скидка на подгузники» и выбирает именно этот магазин, а не другой».
Сравним принцип действия систем мониторинга с работой соцсетей. Пусть часть информации может быть недостоверной, но за счет большого объема в совокупности она объективно отражает тенденции, оценки товаров и сопутствующих услуг. «Правда, выборка должна быть большой, но есть инструменты для анализа этих данных, – уточняет Валерий Милых. – Решения на основе камер позволяют определить, на чем покупатель останавливает свое внимание и как надолго. Мобильные устройства дают возможность отслеживать маршруты движения покупателей, выяснять, что наиболее востребовано, и сопоставлять ID телефона с примерным временем покупки. Это источник реальной информации. Конечно, все это можно сделать «вручную»: следить, записывать и учитывать – но это неудобно и недостаточно эффективно. IoT дает регулярную и достоверную оценку».
Далее продуктовую цепочку можно протянуть до производителя и выжать максимум из популярности тех или иных продуктов, например, корректно расположив товары для привлечения внимания.
А поговорить?
В некоторых случаях Интернет вещей помогает розничным компаниям лучше «общаться» со своим клиентом. «Например, ритейлер спортивных товаров Under Armour оснащает производимый инвентарь датчиками, а потом собирает и анализирует данные о своих клиентах и делает им на основании этих данных персональные предложения», – делится Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.
Данные о покупателе из разных источников формируют целостный профиль клиента. Анализ его интересов и потребностей на основе поведения в сети позволяет создавать актуальные рекламные кампании и таргетировать их на целевую аудиторию. «Такое тщательное отслеживание данных клиентов с помощью IoT дает возможность участвовать в тонком микромаркетинге и собирать невероятно ценные данные, – объясняет Андрей Неукрытый, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Государственной думе РФ.
Вот покупатель входит в магазин и присматривается к товару. В этот момент ритейлер уже заметил его благодаря «умным» полкам. Данные постоянного клиента сохраняются и накапливаются – теперь магазин знает о клиенте если не все, то очень многое. «Все это можно спроецировать и на крупный торговый центр, – говорит Андрей Неукрытый. – Вы просто прогуливаетесь мимо магазинов, но благодаря установленным маякам с поддержкой Bluetooth вы получаете на смартфон специальные предложения, которые стимулируют не проходить мимо. Кто-то посчитает, что это вторжение в ваше личное пространство, но, если предложение персонализировано и основано на опыте ваших же покупок и посещений магазинов, вы остаетесь в выигрыше».
«Это дает возможность для максимально качественного обслуживания, – добавляет Сергей Широков. – Поскольку выявлены все ваши пристрастия, ритейлер может с большой долей вероятности определить, что вам может понадобиться в конкретном месте и в конкретное время. Технологии превращают рекламный спам в ценную информацию».
Однако слишком большие надежды на совокупный сбор данных возлагать пока рано. «Сейчас данные от видеокамер наблюдения и информация от мобильных устройств посетителей еще не синхронизированы, – отмечает Вадим Каиров, руководитель направления цифровой трансформации бизнеса компании «Рексофт». – Да и результаты идентификации по биометрии лица пока далеки от идеальных в случае ритейла и большого потока покупателей. Скорее, торговый зал магазина стоит оборудовать электронными метками, которые взаимодействуют с мобильным приложением покупателя, и по данным о месте нахождения покупателя приложение может выдавать персонифицированные предложения и рекомендации».
Если отталкиваться не от имеющихся технологий, а от потребности клиентов магазина, то напрашивается сценарий, когда покупателю в большом торговом центре или на торговой улице некий искусственный интеллект советует, в каком магазине есть нужные ему товары. Такой продукт, по мнению Вадима Каирова, мог бы иметь успех. Но возникает большой вопрос, что же это за приложение, которое знает все и о покупателе и одновременно обо всех ритейлерах и их акциях? Кто его может сделать? То ли Яндекс, то ли Google, то ли системный банк вроде Сбербанка или ВТБ.
Только ты
Последнее время о персональных рекомендациях не рассуждает разве что сам покупатель. Но, положа руку на сердце, часто ли мы получаем такие предложения в офлайне? В онлайне – да, часто, каждый день на почту приходит рассылка с персональными скидками или уговорами в стиле «мы видели, какой товар вы только что смотрели, – купите же его!» Но не так в реальном мире. «Пока таких внедрений практически нет, – соглашается Вадим Каиров. – И причина понятна. Затраты на такой проект на данном этапе развития технологий весьма существенны, а вот конкретный результат от внедрения сетям оценить пока достаточно сложно. К тому же в ритейле есть еще много других незакрытых потребностей в автоматизации, результат от которых оценить проще».
Мы все ходим по продуктовым магазинам. Много ли мы там видим таких технологичных персональных предложений? Максимум, что бывает, это напечатанные предложения в чеке на будущую покупку или, что хуже, уговоры на кассе скачать мобильное приложение этого магазина. «Скорее всего, еще не накопился критический объем данных о покупателях, – предлагает версию Павел Романченко. – Государство пытается регулировать количество и качество персональных данных, которые можно хранить и обрабатывать. Каждому условному магазину приходится решать большое количество сопутствующих проблем, а именно: договариваться с соцсетями о доступе к данным, выстраивать инфраструктуру для хранения персональных данных, учиться извлекать из данных полезные сведения, строить модели и так далее. Рынок может сдвинуться, когда появятся посредники, решающие все эти задачи, чтобы ритейл мог сосредоточиться на продажах».
«Любые новшества имеют определенный цикл и временной период внедрения: концепция, финансовое обоснование, пилот, подтверждение концепции, внедрение, – перечисляет Сергей Широков. – В зависимости от типа новшества средний период реализации – от шести месяцев до года. Уже сейчас начинают работать системы рекомендаций, пройдет некоторое время, и вы сможете почувствовать это в более предпочтительной, ненавязчивой форме».

Интернет вещей как раз одна из тех технологий, которая призвана помочь приблизиться к той степени персональности, какую уже достигли интернет-магазины, легко считывающие, какой товар вы уже положили в корзину, но все еще не купили, охваченные какими-то сомнениями. «Без Интернета вещей традиционный ритейл просто не сможет эффективно конкурировать с онлайн-ритейлом, – уверен Александр Тарасов, управляющий партнер DIS Group. – У последнего широкие возможности персонализированного предложения, рекомендательные сервисы на основе больших данных, удобный поиск товаров, автоматизация процесса покупки и много других преимуществ. Интернет вещей позволяет традиционному ритейлу быстрее и эффективнее стать более цифровым и использовать преимущества, которые есть у онлайн-площадок».
Хотя часто даже крупные торговые сети не до конца понимают возможности IoT и продают товары по старинке, ориентируясь на сезон и традиционно популярные марки. «Это понятно, так как в супермаркетах большинство товаров относительно дешевы, – говорит Валерий Милых. – Однако и там персонализация может быть полезна. Выделяя группы покупателей с определенной суммой покупок в течение некоторого периода времени, мы можем определить предпочтения той или иной социальной прослойки, что позволит организовывать персонализированные промоакции и увеличивать сумму чека. Причем это должно происходить автоматически, без участия кассира».
Помоги себе сам
Кстати, подобные решения начали появляться и у нас. В сентябре свою «Пятерочку» без кассиров с полностью автоматической системой для совершения покупок открыла компания X5 Retail Group. Правда, только для своих сотрудников, потому что пока это пилот. То же самое происходит в офисе «Метро»: торговую точку без кассиров от известной франшизы «Фасоль» тестируют и обкатывают. На этом пока все. Для покупателей «из народа» такие решения – дело будущего.
IoT-решения только начинают использоваться для автоматизации систем точек продаж. «Россия пока в начале пути. Но уже что-то происходит у западных же компаний фастфуда, работающих в России: в «Макдоналдсе», «Бургер Кинге», KFC, – перечисляет Дмитрий Димитров. – Сети ритейла отлично понимают, как поток покупателей влияет на оборачиваемость, поэтому многие установили кассы самообслуживания в своих залах». «Действительно, сейчас все подобные проекты находятся в стадии подтверждения концепции. С введением биометрии процесс пойдет быстрее», – предполагает Сергей Широков.
Помимо автоматизации касс распространенный пример работы IoT – это мониторинг наличия товаров на полке магазина. «Сейчас за рубежом активно развивается симбиоз Интернета вещей и голосовых помощников, – говорит Александр Тарасов. – Для того чтобы узнать остатки товара, сотрудник магазина в микрофон задает соответствующий вопрос голосовому помощнику. Ответ с датчиков Интернета вещей такой помощник преобразует в устную речь и озвучивает в наушник сотруднику. Эта технология уже внедрена в американской сети магазинов Container Store и позволяет экономить 2000 человеко-часов в день в 80 тестовых магазинах. Мне кажется, это очень перспективная технология».
Холодный ум
Однако самой востребованной сферой сейчас, если обсуждать именно магазинное оборудование, оказались не кассы, не полки и не тележки, а холодильники. «Компоненты Интернета вещей могут использовать торговые сети разного уровня. Практически все магазины имеют то или иное холодильное оборудование. Выход его из строя – это прямые потери для владельца», – рассказывает Валерий Милых. По его словам, применение IoT для контроля за состоянием холодильников дает шанс избежать потерь или хотя бы уменьшить их: теперь ответственный за работу холодильника сотрудник точно знает, какие проблемы существуют внутри оборудования и сколько времени у него есть на исправление ситуации. Система IoT может даже сама отправить запрос в службу сервиса в случае поломки. При этом стоимость такого сервиса невысока.
«Мы делали один интересный пилотный IoT-проект совместно с производителем пива из Таиланда, – делится кейсом Андрей Горяйнов. – Компания Boon Rawd Brewery установила датчики в холодильное оборудование, в котором представлено пиво. Цель – следить за температурой, видеть, сколько раз в день его открывают и закрывают, а также в целом контролировать наличие конкретного холодильника на месте, где он был установлен. В результате пилотного использования технологии компания смогла оптимизировать свои операционные расходы на 1–2% и увеличить продажи на 0,2–0,4%, что в абсолютной величине составляет около 5 млн бат (это около 10,5 млн руб.)».
Есть «холодильные» внедрения и в России. Это, например, проект SAP совместно с производителем пива «Афанасий», который в числе прочего продает «живое пиво». Данный товар имеет ограниченный срок годности и требует особых условий хранения. Технология IoT позволила автоматизировать процесс хранения и поддержания высокого качества продукции, отслеживать срок его годности и осуществлять дозаказ пива, если оно заканчивалось. Еще одна функция холодильника – следить, чтобы в нем не появлялось продукции других брендов.
Видимо, популярны такие решения еще и потому, что не сильно бьют по карману ритейлера. Есть решения, которые могут окупиться в считаные дни. «Возьмем указанный выше пример с мониторингом состояния холодильников – его экономическая выгода очевидна, а оборудование довольно часто выходит из строя, так как сильно загружено, – поясняет Валерий Милых. – Но большинство внедрений окупятся не сегодня и не завтра. Они требуют времени на накопление информации и ее обработку. Но это и не годы, а скорее, несколько месяцев».
«Это прекрасный кейс именно для поставщиков – партнеров ритейлеров, – комментирует Вадим Каиров. – Он дает поставщику конкретную картину по востребованности того или иного сорта пива в данной точке, расходе продукта и прочее. При этом производитель получает данные для аналитики напрямую, не отвлекая сотрудников сети. Возможно, такие проекты вообще являются дополнительным сокращением затрат ритейлера на автоматизацию, так как расходы за проект несет производитель».
Логистика в Интернете
Разумеется, мониторить работу издалека позволяют не только холодильники. Свои центры мониторинга могут быть даже у кофейных аппаратов на автозаправках. Такие решения уже есть. Если вспомнить другие интересные кейсы, то стоит подумать о складах: известны пилотные проекты с использованием там дронов. «Беспилотники дают существенную экономию: если ранее инвентаризация шла 3–4 дня с остановкой склада, то теперь можно уложиться в один день, – подчеркивает Валерий Милых. – Работают тепловые карты: решение позволяет тагетировать и оптимизировать раскладку поваров. Есть проекты с внедрением электронных ценников, так как они становятся доступными по цене».
Однако эксперты утверждают: пока больше всего проектов по внедрению IoT-технологий можно наблюдать в сфере контроля логистики: товарных запасов и транспорта. Например, с помощью установленных на контейнеры датчиков можно в реальном времени отслеживать передвижение груза и соответствующие параметры: температуру, вибрации, удары, освещенность. Об этом говорит Андрей Горяйнов: «Именно от соблюдения условий перевозки зависит качество продукции и, как следствие, потенциальная выручка компании. По данным ритейлеров, потери замороженной продукции, связанной с неисправностью холодильных установок, могут составлять до 5% общего объема замороженной продукции. Интернет вещей позволяет этих потерь избегать».
IoT помогает ритейлеру эффективнее следить за наличием товаров на полках и складах, за условиями транспортировки товара и качеством поставляемой продукции. Это, очевидно, ключевые преимущества использования технологии, но далеко не все. Интернет вещей соединяет процессы, оборудование и людей, чтобы оперативно следить за ситуацией и принимать стратегические решения для ее улучшения.
Мы уже приводили статистику по России, теперь посмотрим, как обстоят дела во всем мире. По оценкам McKinsey, к 2025 году потенциальное экономическое влияние Интернета вещей в розничной среде будет составлять от $410 млрд до $1,2 трлн в год. Согласно новому отчету Grand View Research, Inс., IoT в объеме розничного рынка к 2025 году составит $94,44 млрд. Ритейлеры уже ощутили, что с помощью Интернета вещей могут быть более гибкими в текущих бизнес-процессах, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи в долгосрочной перспективе.
«Рынок IoT растет в геометрической прогрессии – это то самое завтра, которое уже наступило, просто где-то раньше, а где-то немного позже, – размышляет Дмитрий Димитров. – Совершенно очевидно, что наиболее IoT развит там, где много вещей, которые надо учесть, или машин, которые надо связать между собой. Поэтому контроль складских запасов с их огромной номенклатурой и логистика (а это и количество машин, и товаров, в них перевозимых, и трафик, передаваемый в рамках контроля перемещения) – перспективные сферы внедрения».
Скорость поставки и заполнение полки – это основа для любого продуктового ритейла. Поэтому довольно много внедрений IoT наблюдается в сфере контроля складских запасов. «Эти решения позволяют прогнозировать востребованность продукции и автоматизировать процесс закупки, – рассказывает Андрей Неукрытый. – Сегодня часть компаний в тестовом варианте уже внедряют «умные» полки, которые с помощью электронных ценников отображают реальные цены, RFID-метки, контролирующие, к каким товарам покупатель подходил чаще, что смотрел и выбирал. Благодаря ПО вся собранная информация направляется для принятия решения».
Управление запасами напрямую связано и с логистикой в масштабах сети. Сегодня уже повсеместно в компаниях введены GPS-датчики контроля отслеживания и построения маршрута автотранспорта. Специальное программное обеспечение позволяет построить верный маршрут, что обеспечивает поставку продукции в срок.
Для всех и каждого
Исходя из того, что мы только что обсудили, может сложиться впечатление, что Интернет вещей – это для крупных сетей с их солидными бюджетами, нескончаемым числом торговых точек и армией персонала. Но наши эксперты с этим не согласны. «На мой взгляд, неправильно говорить, что IoT только для крупных торговых сетей, – возражает Андрей Горяйнов. – Данную технологию могут использовать ритейлеры любого размера. Весь вопрос в целесообразности и наличии бизнес-выгод».
С точки зрения физического носителя IoT – это датчики и обработка информации с них. Поэтому для реализации такого ИТ-проекта ритейлеру нужны сами датчики и ИТ-система, в которой все собираемые данные могут анализироваться. «Например, немецкая сеть-дискаунтер на базе SAP Cloud Platform делает почасовой прогноз выпечки хлеба в своих магазинах. Ритейлер в режиме реального времени собирает информацию с касс, этикеровочных и упаковочных машин, хлебопечей и анализирует их вместе с данными по остаткам и приходам материалов. Данная информация и история продаж дальше используются не только для прогноза потребления свежего хлеба, но и для управления выпечкой», – рассказывает Андрей Горяйнов.
За рубежом есть целый ряд примеров внедрений Интернета вещей в небольших локальных магазинах. В России это сделать сложно. «С одной стороны, мешает высокая стоимость оборудования и программного обеспечения самого Интернета вещей, – говорит Александр Тарасов. – С другой – для внедрения нужны хорошие специалисты, которые сейчас также дорого стоят. Кроме того, чтобы Интернет вещей приносил пользу, нужны качественные ИТ-решения для сбора потоковых данных и их обработки в реальном времени».
«Тем не менее IoT для всех, – утверждает Сергей Широков. – Для мелких ритейлеров он даже более актуален, чем для крупной компании, поскольку увеличение маржинальности – это вопрос их выживания в современных рыночных условиях».
Пока функционал на базе IoT больше удел технологических стартапов, предлагающих свои решения ритейлу. Но это лишь вопрос времени «В дальнейшем большинство крупных ИТ-решений для ритейла встроит такой функционал в свои системы. IoT – это технология, на базе которой будут реализовываться новые продукты для бизнеса в ИТ-системах, а их покупают все сети. Возможно, метки c технологией IoT будут сразу встраивать в упаковку самих товаров. Или появятся «умные» полки со встроенными датчиками. И как только это произойдет, технология подешевеет и станет повсеместной, а следовательно, будет применяться», – считает Вадим Каиров.
«Хотя на данный момент больше внедрений все же у крупных сетей, так как у них есть бюджеты на исследование инноваций. Как только получится добиться серьезных успехов, то пойдут последователи, и это будут малые игроки», – заключает Сергей Широков.
Ничего не треснет
Получается, что и маленькие, и крупные торговые сети напор IoT выдержат, но выдержит ли сам Интернет? Есть мнение, что слишком большое количество вещей, подключенных к Интернету (а компания Cisco как-то даже смело спрогнозировала, что к 2030 году их число вырастет до 500 млрд), создаст проблемы, например, в части затрат на передачу всех этих данных, на их хранение и анализ, а также на обеспечение безопасности самих устройств. Возможно, так и будет, но пока причин беспокоиться нет. На данном этапе нет никаких проблем с передачей и хранением данных. «Технологии хранения и сбора данных существенно опережают проекты с участием IoT. Однако встает другой более насущный вопрос – это корректная обработка огромных массивов данных и аналитика полученных данных, которая бы привела к достижению реальных результатов по увеличению прибыли и улучшению клиентского опыта постоянных покупателей сети», – поясняет Вадим Каиров.
«Вообще не вижу никаких проблем, – заявляет Дмитрий Димитров. – Во-первых, все данные можно хранить в облаке. В России работает много data-центров, предлагающих подобные услуги. С передачей данных тоже все в порядке. Кстати сказать, Easy4 является одним из поставщиков услуг Интернета вещей: мы можем обеспечить как саму передачу данных с помощью традиционной сим-карты, так и предлагаем и внедряем технологии, снижающие затраты ритейлера на сбор и анализ данных и обеспечивающие стабильность передачи данных. Речь идет о технологиях Multi-IMSI и eSIM (виртуальная SIM-карта). Первую мы уже предлагаем в существующих решениях – как для абонентов-физических лиц, так и в корпоративном секторе. Смысл ее заключается в том, что SIM-карта гибко переключается между операторами связи и ловит сигнал по принципу лучшего качества. В ритейле это очень актуально везде, где, к примеру, используются переносные терминалы оплаты. Но будущее, конечно, за eSIM – технология позволяет не переставлять сим-карты бесконечно, а «накатывать» профиль оператора удаленно по воздуху. Это позволяет сократить расходы – а не это ли главная задача в ритейле»?
В целом наращивание вычислительных мощностей идет параллельно внедрению новых технологий. «Сомневаюсь, что кто-то откажется производить больше жестких дисков для хранения данных. Всем управляет рынок», – говорит Сергей Широков.
Взгляд в будущее
Если посмотреть чуть дальше сквозь годы, то, как считают большинство экспертов, вещи в Интернете будут чувствовать себя все более свободно. Да и вообще процесс покупки чего-либо кардинально изменится. «Видимо, в будущем магазинов в современном их виде не будет. Интеллектуальные системы, анализирующие привычки и рекомендации для целевых групп, будут подбирать одежду, внося элемент неожиданности за счет глубокого анализа характера потребителя, предлагать товары, привычные и удовлетворяющие глубинным запросам человека, как биологической машины, которую на уровне пристрастий можно проанализировать и оцифровать», – оптимистично предполагает Валерий Милых.
«Мне нравится думать, что одно из приложений технологии IoT в ритейле – это формирование автоматического заказа без участия человека от холодильника или полки с товаром на поставку набора определенных продуктов. Но пока это фантастика, ведь на место пакета с молоком покупатель может поставить пакет с соком, и на данной стадии развития технологий система даст сбой, – рассуждает Вадим Каиров. – Лежащая на поверхности идея по автозаказу продуктов домашним холодильником перевернет ритейл, как только будет реализована. Это можно сравнить с компьютерным зрением или автопилотом: все понимали, что технология будет востребована, но очень долго не могли сделать».
На такой прорыв в развитии технологий рассчитывает и Александр Тарасов. «Благодаря Интернету вещей покупка товаров будет происходить в точке возникновения потребности. Например, заказать порошок для стирки можно будет непосредственно через стиральную машину. Кроме того, сотрутся границы между производителями и розничными продавцами. И те, и другие будут производить товары и продавать их», – заключает он.
[~DETAIL_TEXT] =>
Интернет сначала объединил компьютеры, потом – людей за этими компьютерами, а затем снова взялся за вещи. И этих вещей в сети становится все больше. В исследовании портала Business Insider сказано, что в прошлом году уже насчитывалось 10 млрд IoT-устройств, но это пустяки по сравнению с тем, что будет всего через пять лет. Эксперты того же исследования предсказывают: в Интернет переберутся 64 млрд вещей. И ритейл, разумеется, в стороне от этого процесса не останется.

Интернет вещей сейчас везде. «Умные» полки, тележки, холодильники уже никого не удивляют. Поумнеть пришлось даже унитазам, как, например, это сделали туалеты в японском аэропорту Нарита. Функцию IoT здесь внедрили в апреле этого года, для того чтобы поразить воображение иностранцев, прибывающих в Страну восходящего солнца. Причем компания, занимающаяся внедрением, смотрит далеко: конечная цель вовсе не чистые туалеты и бумага в изобилии. Их цель – продажи, которые в самой Японии упали. Почему бы не сделать так, чтобы они выросли за счет потрясенных иностранных гостей? Попользуются «умным» унитазом в аэропорту, глядишь, и себе такой купят.
Поначалу Интернет вещей выезжал на хайпе: кому не хочется почувствовать себя в будущем и поохать, глядя на то, как зубная щетка за 8000 руб., объединившись со смартфоном, учит тебя жить и чистить зубы правильно? Еще больше поражает воображение тазик-эвтаназик для мышей, у которого есть своя панель управления и даже собственная сим-карта, чтобы не зависеть от наличия в доме Wi-Fi. Мышь, забегая в ловушку, прерывает два инфракрасных луча (да-да, мы все видели, как это происходит со шпионами в голливудских фильмах), цепь отключается, дверца закрывается, и внутрь «умного» устройства начинает поступать углекислый газ. Мышь умирает «мгновенно и гуманно», а компания сообщает: «Мы предлагаем вам душевное спокойствие».
Но IoT здесь заключается не в том, чтобы убить животное быстро, это многие из нас и сами умеют. Чудеса техники начинаются дальше. После захвата «заложника» сигнал с устройства отправляется на панель управления, а оттуда – в колл-центр компании, чтобы она могла бы прислать вам на дом специально обученного человека, который и унесет труп. «Вам не нужно ничего делать, мы свяжемся с вами сами, чтобы сообщить о проблеме с мышью, и разработаем эффективный план, которые решит эту проблему быстро и незаметно», – только одно это предложение с их сайта уже заставляет поверить, что мы живем в самой настоящей фантастике – восхищающей или ужасающей, тут уж кому как.
Под колпаком
Ужас заключается в том, что еще десять лет назад, когда про Интернет вещей, или IoT, большей частью теоретизировали, эксперты уже уверенно и убедительно пугали нас хакерами, которые могут взломать все: от вашей «умной» кофеварки до сердечного клапана. Интернет – это ведь не только выход, но и вход. Чем больше вещей подключено к глобальной сети, тем больше возникает лазеек, через которые к вам в дом влезет кое-что покрупнее мыши. Причем обнаружить это снаружи, особенно для неспециалиста, сложно: вы радуетесь «умному» дому, а он потихоньку DDoS-ит врагов, причем совсем не ваших.
Способность ботов вызывать хаос на глобальном уровне выросла именно благодаря распространению Интернета вещей. Бизнесу еще хуже: он попадает под удар в первую очередь, ведь пощипать корпорацию всегда интереснее, чем одного отдельно взятого, пусть и очень богатого человека.
Под крупную добычу даже создают отдельные сети ботов. В марте Kaspersky выловили новую версию, которая нацелена именно на корпоративные IoT-устройства. Ботнет по имени Mirai поражает не только точки доступа, сетевые камеры, маршрутизаторы, но и рекламные панели и беспроводные системы презентаций. Не успели мы привыкнуть к модному словосочетанию Digital Signage, как технология уже под угрозой! Ранее Kaspersky обвинил этот ботнет в 21% всех заражений устройств Интернета вещей, дав эти цифры в своем отчете за первое полугодие 2018 года.
«Безусловно, массовые внедрения недорогих IoT-устройств открывают широкие возможности для злоумышленников, – говорит Павел Романченко, технический директор Центра инноваций «Инфосистемы Джет». – Дешевые устройства зачастую имеют «дыры» в безопасности, и производитель не предоставляет обновления для их закрытия. Очень много так называемых ботнетов развернуто на IP-камерах. Все это представляет большую и серьезную угрозу для массового разворачивания решений на базе IoT».
Но волков бояться – в лес не ходить. По словам Павла Романченко, рынок уже вырабатывает меры для преодоления этих преград: специализированные операционные системы для IoT, выделенные сетевые решения, анализ трафика и так далее. «Главное, подходить к проектированию решения IoT с пониманием особенностей технологии», – говорит он.
Если посмотреть на статистику, то видно, что бизнес опасается угроз, но даже опасность не в состоянии остановить развитие. Так, по прогнозам исследовательской компании Research Nester, российский рынок IoT будет расти в среднем на 19,62% в год и, как ожидается, достигнет $74 млрд к 2023 году.
Массовое внедрение решений IoT неизбежно. Другое дело, что подавляющее большинство из них недостаточно защищены. «Многие компании считают, что если данные передаются в доверенную сеть, то доступ к ним надежно защищен, – комментирует Валерий Милых, руководитель группы IoT группы компаний Softline, – но это не так. Злоумышленники не стоят на месте: подключения к сети, подмены получателей и отправителей возможны и будут встречаться все чаще. Есть некоторые надежды на блокчейн, особенно на смарт-контракты, как инструмент достоверной доставки информации и команд».
Однако – и в этом уверен Валерий Милых – самое надежное решение для защиты данных – использование распределенного интеллекта. «Думающие» системы не примут нетипичное сообщение, «не поверят» почти достоверным данным. Взаимодействие с внешним миром позволит таким системам проверять спорную информацию самостоятельно, используя разные каналы и обмениваясь друг с другом запросами: «А ты ждешь такую информацию?»
Фактически мы начинаем выстраивать сообщество «профессионалов» – обученных систем искусственного интеллекта, способных самостоятельно глубоко анализировать и извлекать информацию из недетерминированных источников, нивелируя попытки внешнего воздействия. Похоже на то, как это делает человек.
«На мой взгляд, безопасным Интернет вещей может сделать только комбинация методов. Например, использование аппаратного конечного автомата (довольно сложная для взлома система) на входе в IoT-систему, интеллектуальной системы глубокого анализа и смарт-контрактов внутри системы, а также дублирующих связей для исключения одной точки проникновения», – считает Валерий Милых.
Переход на цифру
Учитывая все то, что мы сказали во вступлении, кажется, что теперь никто не захочет связываться с Интернетом вещей. Разумеется, это не так. Кое-что ритейл никогда бы не получил, не появись технологии IoT.
Современное развитие технологий пришло к большой унификации как оборудования, так и интерфейсов программного обеспечения, что дало возможность строить любые информационные системы быстро, не теряя времени и средств на индивидуальную разработку. Об этом рассказывает Сергей Широков, руководитель проектов IoT для ключевых клиентов АО «ЭР-Телеком Холдинг». «Появилась возможность за счет энергоэффективных технологий при помощи датчиков оцифровать любой объект: продуктовую тележку, пакет с продуктами, человека. При этом не надо тянуть провода, заряжать батареи каждые пять минут. Без IoT мы никогда не узнаем, как передвигаются и где находятся предметы, не имеющие электропитания: клиентские тележки, палеты, крупногабаритные товары», – объясняет он.
«Без IoT ритейлер не сможет конкурировать с компаниями, которые уже используют эти технологии, поскольку потеряет преимущество в оптимизации важных бизнес-процессов, – говорит Владимир Алмазов, руководитель направления RFID и IoT компании «Первый Бит». – IoT – это когда вещи взаимодействуют с электронными системами по определенным, заданным алгоритмам. Когда мы оснащаем идентификационными метками товары, они позволяют нам в автоматическом режиме получать данные о местонахождении продукции, ее свойствах: температуре, влажности и прочем».
По словам Владимира Алмазова, IoT дает дополнительное измерение контроля процессов. То есть ритейлер сможет более эффективно контролировать движение и качество товара, реализовывать прогностические модели по запасам на складе. Развитие IoT – веха на пути развития цифровой экономики. Если ритейлер не уделяет особого внимания цифровой трансформации своего бизнеса, он рискует потерять клиентов и оказаться в роли догоняющего, так как конкуренты не дремлют.
Считаем ваших котов
Для ритейлера важно повышать качество обслуживания клиентов, и IoT подходит идеально. «Без использования новых технологий ритейлеры никогда бы не получили мгновенной оценки качества оказываемых услуг. Определение предпочтений покупателей, предупреждение ошибок в работе оборудования и оформлении ценников, предупреждение хищений, быстрая инвентаризация – вот краткий перечень задач, которые торговые сети решают с помощью IoT», – рассказывает Валерий Милых.
Обычно еще говорят, что IoT помогает обслуживать покупателей, объединяя данные с камер видеонаблюдения, мобильных устройств и социальных сетей. Давайте поподробнее рассмотрим, как это работает. Допустим, я зашла в магазин. Мобильное устройство говорит, что я в зале, камера видит, по каким рядам я хожу, в соцсетях у меня котики. Что вся эта бессвязная и бедная информация может дать ритейлеру? «Социальная активность – это не только котики, – смеется Павел Романченко. – По фотографиям, друзьям и геометкам можно составить хороший портрет человека: его социальное положение, примерный доход, количество и возраст детей, интересы. Все это может быть использовано в приложении для установки персональных скидок. Покупатель открывает это приложение, видит предложение вроде «для вас сегодня скидка на подгузники» и выбирает именно этот магазин, а не другой».
Сравним принцип действия систем мониторинга с работой соцсетей. Пусть часть информации может быть недостоверной, но за счет большого объема в совокупности она объективно отражает тенденции, оценки товаров и сопутствующих услуг. «Правда, выборка должна быть большой, но есть инструменты для анализа этих данных, – уточняет Валерий Милых. – Решения на основе камер позволяют определить, на чем покупатель останавливает свое внимание и как надолго. Мобильные устройства дают возможность отслеживать маршруты движения покупателей, выяснять, что наиболее востребовано, и сопоставлять ID телефона с примерным временем покупки. Это источник реальной информации. Конечно, все это можно сделать «вручную»: следить, записывать и учитывать – но это неудобно и недостаточно эффективно. IoT дает регулярную и достоверную оценку».
Далее продуктовую цепочку можно протянуть до производителя и выжать максимум из популярности тех или иных продуктов, например, корректно расположив товары для привлечения внимания.
А поговорить?
В некоторых случаях Интернет вещей помогает розничным компаниям лучше «общаться» со своим клиентом. «Например, ритейлер спортивных товаров Under Armour оснащает производимый инвентарь датчиками, а потом собирает и анализирует данные о своих клиентах и делает им на основании этих данных персональные предложения», – делится Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.
Данные о покупателе из разных источников формируют целостный профиль клиента. Анализ его интересов и потребностей на основе поведения в сети позволяет создавать актуальные рекламные кампании и таргетировать их на целевую аудиторию. «Такое тщательное отслеживание данных клиентов с помощью IoT дает возможность участвовать в тонком микромаркетинге и собирать невероятно ценные данные, – объясняет Андрей Неукрытый, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Государственной думе РФ.
Вот покупатель входит в магазин и присматривается к товару. В этот момент ритейлер уже заметил его благодаря «умным» полкам. Данные постоянного клиента сохраняются и накапливаются – теперь магазин знает о клиенте если не все, то очень многое. «Все это можно спроецировать и на крупный торговый центр, – говорит Андрей Неукрытый. – Вы просто прогуливаетесь мимо магазинов, но благодаря установленным маякам с поддержкой Bluetooth вы получаете на смартфон специальные предложения, которые стимулируют не проходить мимо. Кто-то посчитает, что это вторжение в ваше личное пространство, но, если предложение персонализировано и основано на опыте ваших же покупок и посещений магазинов, вы остаетесь в выигрыше».
«Это дает возможность для максимально качественного обслуживания, – добавляет Сергей Широков. – Поскольку выявлены все ваши пристрастия, ритейлер может с большой долей вероятности определить, что вам может понадобиться в конкретном месте и в конкретное время. Технологии превращают рекламный спам в ценную информацию».
Однако слишком большие надежды на совокупный сбор данных возлагать пока рано. «Сейчас данные от видеокамер наблюдения и информация от мобильных устройств посетителей еще не синхронизированы, – отмечает Вадим Каиров, руководитель направления цифровой трансформации бизнеса компании «Рексофт». – Да и результаты идентификации по биометрии лица пока далеки от идеальных в случае ритейла и большого потока покупателей. Скорее, торговый зал магазина стоит оборудовать электронными метками, которые взаимодействуют с мобильным приложением покупателя, и по данным о месте нахождения покупателя приложение может выдавать персонифицированные предложения и рекомендации».
Если отталкиваться не от имеющихся технологий, а от потребности клиентов магазина, то напрашивается сценарий, когда покупателю в большом торговом центре или на торговой улице некий искусственный интеллект советует, в каком магазине есть нужные ему товары. Такой продукт, по мнению Вадима Каирова, мог бы иметь успех. Но возникает большой вопрос, что же это за приложение, которое знает все и о покупателе и одновременно обо всех ритейлерах и их акциях? Кто его может сделать? То ли Яндекс, то ли Google, то ли системный банк вроде Сбербанка или ВТБ.
Только ты
Последнее время о персональных рекомендациях не рассуждает разве что сам покупатель. Но, положа руку на сердце, часто ли мы получаем такие предложения в офлайне? В онлайне – да, часто, каждый день на почту приходит рассылка с персональными скидками или уговорами в стиле «мы видели, какой товар вы только что смотрели, – купите же его!» Но не так в реальном мире. «Пока таких внедрений практически нет, – соглашается Вадим Каиров. – И причина понятна. Затраты на такой проект на данном этапе развития технологий весьма существенны, а вот конкретный результат от внедрения сетям оценить пока достаточно сложно. К тому же в ритейле есть еще много других незакрытых потребностей в автоматизации, результат от которых оценить проще».
Мы все ходим по продуктовым магазинам. Много ли мы там видим таких технологичных персональных предложений? Максимум, что бывает, это напечатанные предложения в чеке на будущую покупку или, что хуже, уговоры на кассе скачать мобильное приложение этого магазина. «Скорее всего, еще не накопился критический объем данных о покупателях, – предлагает версию Павел Романченко. – Государство пытается регулировать количество и качество персональных данных, которые можно хранить и обрабатывать. Каждому условному магазину приходится решать большое количество сопутствующих проблем, а именно: договариваться с соцсетями о доступе к данным, выстраивать инфраструктуру для хранения персональных данных, учиться извлекать из данных полезные сведения, строить модели и так далее. Рынок может сдвинуться, когда появятся посредники, решающие все эти задачи, чтобы ритейл мог сосредоточиться на продажах».
«Любые новшества имеют определенный цикл и временной период внедрения: концепция, финансовое обоснование, пилот, подтверждение концепции, внедрение, – перечисляет Сергей Широков. – В зависимости от типа новшества средний период реализации – от шести месяцев до года. Уже сейчас начинают работать системы рекомендаций, пройдет некоторое время, и вы сможете почувствовать это в более предпочтительной, ненавязчивой форме».

Интернет вещей как раз одна из тех технологий, которая призвана помочь приблизиться к той степени персональности, какую уже достигли интернет-магазины, легко считывающие, какой товар вы уже положили в корзину, но все еще не купили, охваченные какими-то сомнениями. «Без Интернета вещей традиционный ритейл просто не сможет эффективно конкурировать с онлайн-ритейлом, – уверен Александр Тарасов, управляющий партнер DIS Group. – У последнего широкие возможности персонализированного предложения, рекомендательные сервисы на основе больших данных, удобный поиск товаров, автоматизация процесса покупки и много других преимуществ. Интернет вещей позволяет традиционному ритейлу быстрее и эффективнее стать более цифровым и использовать преимущества, которые есть у онлайн-площадок».
Хотя часто даже крупные торговые сети не до конца понимают возможности IoT и продают товары по старинке, ориентируясь на сезон и традиционно популярные марки. «Это понятно, так как в супермаркетах большинство товаров относительно дешевы, – говорит Валерий Милых. – Однако и там персонализация может быть полезна. Выделяя группы покупателей с определенной суммой покупок в течение некоторого периода времени, мы можем определить предпочтения той или иной социальной прослойки, что позволит организовывать персонализированные промоакции и увеличивать сумму чека. Причем это должно происходить автоматически, без участия кассира».
Помоги себе сам
Кстати, подобные решения начали появляться и у нас. В сентябре свою «Пятерочку» без кассиров с полностью автоматической системой для совершения покупок открыла компания X5 Retail Group. Правда, только для своих сотрудников, потому что пока это пилот. То же самое происходит в офисе «Метро»: торговую точку без кассиров от известной франшизы «Фасоль» тестируют и обкатывают. На этом пока все. Для покупателей «из народа» такие решения – дело будущего.
IoT-решения только начинают использоваться для автоматизации систем точек продаж. «Россия пока в начале пути. Но уже что-то происходит у западных же компаний фастфуда, работающих в России: в «Макдоналдсе», «Бургер Кинге», KFC, – перечисляет Дмитрий Димитров. – Сети ритейла отлично понимают, как поток покупателей влияет на оборачиваемость, поэтому многие установили кассы самообслуживания в своих залах». «Действительно, сейчас все подобные проекты находятся в стадии подтверждения концепции. С введением биометрии процесс пойдет быстрее», – предполагает Сергей Широков.
Помимо автоматизации касс распространенный пример работы IoT – это мониторинг наличия товаров на полке магазина. «Сейчас за рубежом активно развивается симбиоз Интернета вещей и голосовых помощников, – говорит Александр Тарасов. – Для того чтобы узнать остатки товара, сотрудник магазина в микрофон задает соответствующий вопрос голосовому помощнику. Ответ с датчиков Интернета вещей такой помощник преобразует в устную речь и озвучивает в наушник сотруднику. Эта технология уже внедрена в американской сети магазинов Container Store и позволяет экономить 2000 человеко-часов в день в 80 тестовых магазинах. Мне кажется, это очень перспективная технология».
Холодный ум
Однако самой востребованной сферой сейчас, если обсуждать именно магазинное оборудование, оказались не кассы, не полки и не тележки, а холодильники. «Компоненты Интернета вещей могут использовать торговые сети разного уровня. Практически все магазины имеют то или иное холодильное оборудование. Выход его из строя – это прямые потери для владельца», – рассказывает Валерий Милых. По его словам, применение IoT для контроля за состоянием холодильников дает шанс избежать потерь или хотя бы уменьшить их: теперь ответственный за работу холодильника сотрудник точно знает, какие проблемы существуют внутри оборудования и сколько времени у него есть на исправление ситуации. Система IoT может даже сама отправить запрос в службу сервиса в случае поломки. При этом стоимость такого сервиса невысока.
«Мы делали один интересный пилотный IoT-проект совместно с производителем пива из Таиланда, – делится кейсом Андрей Горяйнов. – Компания Boon Rawd Brewery установила датчики в холодильное оборудование, в котором представлено пиво. Цель – следить за температурой, видеть, сколько раз в день его открывают и закрывают, а также в целом контролировать наличие конкретного холодильника на месте, где он был установлен. В результате пилотного использования технологии компания смогла оптимизировать свои операционные расходы на 1–2% и увеличить продажи на 0,2–0,4%, что в абсолютной величине составляет около 5 млн бат (это около 10,5 млн руб.)».
Есть «холодильные» внедрения и в России. Это, например, проект SAP совместно с производителем пива «Афанасий», который в числе прочего продает «живое пиво». Данный товар имеет ограниченный срок годности и требует особых условий хранения. Технология IoT позволила автоматизировать процесс хранения и поддержания высокого качества продукции, отслеживать срок его годности и осуществлять дозаказ пива, если оно заканчивалось. Еще одна функция холодильника – следить, чтобы в нем не появлялось продукции других брендов.
Видимо, популярны такие решения еще и потому, что не сильно бьют по карману ритейлера. Есть решения, которые могут окупиться в считаные дни. «Возьмем указанный выше пример с мониторингом состояния холодильников – его экономическая выгода очевидна, а оборудование довольно часто выходит из строя, так как сильно загружено, – поясняет Валерий Милых. – Но большинство внедрений окупятся не сегодня и не завтра. Они требуют времени на накопление информации и ее обработку. Но это и не годы, а скорее, несколько месяцев».
«Это прекрасный кейс именно для поставщиков – партнеров ритейлеров, – комментирует Вадим Каиров. – Он дает поставщику конкретную картину по востребованности того или иного сорта пива в данной точке, расходе продукта и прочее. При этом производитель получает данные для аналитики напрямую, не отвлекая сотрудников сети. Возможно, такие проекты вообще являются дополнительным сокращением затрат ритейлера на автоматизацию, так как расходы за проект несет производитель».
Логистика в Интернете
Разумеется, мониторить работу издалека позволяют не только холодильники. Свои центры мониторинга могут быть даже у кофейных аппаратов на автозаправках. Такие решения уже есть. Если вспомнить другие интересные кейсы, то стоит подумать о складах: известны пилотные проекты с использованием там дронов. «Беспилотники дают существенную экономию: если ранее инвентаризация шла 3–4 дня с остановкой склада, то теперь можно уложиться в один день, – подчеркивает Валерий Милых. – Работают тепловые карты: решение позволяет тагетировать и оптимизировать раскладку поваров. Есть проекты с внедрением электронных ценников, так как они становятся доступными по цене».
Однако эксперты утверждают: пока больше всего проектов по внедрению IoT-технологий можно наблюдать в сфере контроля логистики: товарных запасов и транспорта. Например, с помощью установленных на контейнеры датчиков можно в реальном времени отслеживать передвижение груза и соответствующие параметры: температуру, вибрации, удары, освещенность. Об этом говорит Андрей Горяйнов: «Именно от соблюдения условий перевозки зависит качество продукции и, как следствие, потенциальная выручка компании. По данным ритейлеров, потери замороженной продукции, связанной с неисправностью холодильных установок, могут составлять до 5% общего объема замороженной продукции. Интернет вещей позволяет этих потерь избегать».
IoT помогает ритейлеру эффективнее следить за наличием товаров на полках и складах, за условиями транспортировки товара и качеством поставляемой продукции. Это, очевидно, ключевые преимущества использования технологии, но далеко не все. Интернет вещей соединяет процессы, оборудование и людей, чтобы оперативно следить за ситуацией и принимать стратегические решения для ее улучшения.
Мы уже приводили статистику по России, теперь посмотрим, как обстоят дела во всем мире. По оценкам McKinsey, к 2025 году потенциальное экономическое влияние Интернета вещей в розничной среде будет составлять от $410 млрд до $1,2 трлн в год. Согласно новому отчету Grand View Research, Inс., IoT в объеме розничного рынка к 2025 году составит $94,44 млрд. Ритейлеры уже ощутили, что с помощью Интернета вещей могут быть более гибкими в текущих бизнес-процессах, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи в долгосрочной перспективе.
«Рынок IoT растет в геометрической прогрессии – это то самое завтра, которое уже наступило, просто где-то раньше, а где-то немного позже, – размышляет Дмитрий Димитров. – Совершенно очевидно, что наиболее IoT развит там, где много вещей, которые надо учесть, или машин, которые надо связать между собой. Поэтому контроль складских запасов с их огромной номенклатурой и логистика (а это и количество машин, и товаров, в них перевозимых, и трафик, передаваемый в рамках контроля перемещения) – перспективные сферы внедрения».
Скорость поставки и заполнение полки – это основа для любого продуктового ритейла. Поэтому довольно много внедрений IoT наблюдается в сфере контроля складских запасов. «Эти решения позволяют прогнозировать востребованность продукции и автоматизировать процесс закупки, – рассказывает Андрей Неукрытый. – Сегодня часть компаний в тестовом варианте уже внедряют «умные» полки, которые с помощью электронных ценников отображают реальные цены, RFID-метки, контролирующие, к каким товарам покупатель подходил чаще, что смотрел и выбирал. Благодаря ПО вся собранная информация направляется для принятия решения».
Управление запасами напрямую связано и с логистикой в масштабах сети. Сегодня уже повсеместно в компаниях введены GPS-датчики контроля отслеживания и построения маршрута автотранспорта. Специальное программное обеспечение позволяет построить верный маршрут, что обеспечивает поставку продукции в срок.
Для всех и каждого
Исходя из того, что мы только что обсудили, может сложиться впечатление, что Интернет вещей – это для крупных сетей с их солидными бюджетами, нескончаемым числом торговых точек и армией персонала. Но наши эксперты с этим не согласны. «На мой взгляд, неправильно говорить, что IoT только для крупных торговых сетей, – возражает Андрей Горяйнов. – Данную технологию могут использовать ритейлеры любого размера. Весь вопрос в целесообразности и наличии бизнес-выгод».
С точки зрения физического носителя IoT – это датчики и обработка информации с них. Поэтому для реализации такого ИТ-проекта ритейлеру нужны сами датчики и ИТ-система, в которой все собираемые данные могут анализироваться. «Например, немецкая сеть-дискаунтер на базе SAP Cloud Platform делает почасовой прогноз выпечки хлеба в своих магазинах. Ритейлер в режиме реального времени собирает информацию с касс, этикеровочных и упаковочных машин, хлебопечей и анализирует их вместе с данными по остаткам и приходам материалов. Данная информация и история продаж дальше используются не только для прогноза потребления свежего хлеба, но и для управления выпечкой», – рассказывает Андрей Горяйнов.
За рубежом есть целый ряд примеров внедрений Интернета вещей в небольших локальных магазинах. В России это сделать сложно. «С одной стороны, мешает высокая стоимость оборудования и программного обеспечения самого Интернета вещей, – говорит Александр Тарасов. – С другой – для внедрения нужны хорошие специалисты, которые сейчас также дорого стоят. Кроме того, чтобы Интернет вещей приносил пользу, нужны качественные ИТ-решения для сбора потоковых данных и их обработки в реальном времени».
«Тем не менее IoT для всех, – утверждает Сергей Широков. – Для мелких ритейлеров он даже более актуален, чем для крупной компании, поскольку увеличение маржинальности – это вопрос их выживания в современных рыночных условиях».
Пока функционал на базе IoT больше удел технологических стартапов, предлагающих свои решения ритейлу. Но это лишь вопрос времени «В дальнейшем большинство крупных ИТ-решений для ритейла встроит такой функционал в свои системы. IoT – это технология, на базе которой будут реализовываться новые продукты для бизнеса в ИТ-системах, а их покупают все сети. Возможно, метки c технологией IoT будут сразу встраивать в упаковку самих товаров. Или появятся «умные» полки со встроенными датчиками. И как только это произойдет, технология подешевеет и станет повсеместной, а следовательно, будет применяться», – считает Вадим Каиров.
«Хотя на данный момент больше внедрений все же у крупных сетей, так как у них есть бюджеты на исследование инноваций. Как только получится добиться серьезных успехов, то пойдут последователи, и это будут малые игроки», – заключает Сергей Широков.
Ничего не треснет
Получается, что и маленькие, и крупные торговые сети напор IoT выдержат, но выдержит ли сам Интернет? Есть мнение, что слишком большое количество вещей, подключенных к Интернету (а компания Cisco как-то даже смело спрогнозировала, что к 2030 году их число вырастет до 500 млрд), создаст проблемы, например, в части затрат на передачу всех этих данных, на их хранение и анализ, а также на обеспечение безопасности самих устройств. Возможно, так и будет, но пока причин беспокоиться нет. На данном этапе нет никаких проблем с передачей и хранением данных. «Технологии хранения и сбора данных существенно опережают проекты с участием IoT. Однако встает другой более насущный вопрос – это корректная обработка огромных массивов данных и аналитика полученных данных, которая бы привела к достижению реальных результатов по увеличению прибыли и улучшению клиентского опыта постоянных покупателей сети», – поясняет Вадим Каиров.
«Вообще не вижу никаких проблем, – заявляет Дмитрий Димитров. – Во-первых, все данные можно хранить в облаке. В России работает много data-центров, предлагающих подобные услуги. С передачей данных тоже все в порядке. Кстати сказать, Easy4 является одним из поставщиков услуг Интернета вещей: мы можем обеспечить как саму передачу данных с помощью традиционной сим-карты, так и предлагаем и внедряем технологии, снижающие затраты ритейлера на сбор и анализ данных и обеспечивающие стабильность передачи данных. Речь идет о технологиях Multi-IMSI и eSIM (виртуальная SIM-карта). Первую мы уже предлагаем в существующих решениях – как для абонентов-физических лиц, так и в корпоративном секторе. Смысл ее заключается в том, что SIM-карта гибко переключается между операторами связи и ловит сигнал по принципу лучшего качества. В ритейле это очень актуально везде, где, к примеру, используются переносные терминалы оплаты. Но будущее, конечно, за eSIM – технология позволяет не переставлять сим-карты бесконечно, а «накатывать» профиль оператора удаленно по воздуху. Это позволяет сократить расходы – а не это ли главная задача в ритейле»?
В целом наращивание вычислительных мощностей идет параллельно внедрению новых технологий. «Сомневаюсь, что кто-то откажется производить больше жестких дисков для хранения данных. Всем управляет рынок», – говорит Сергей Широков.
Взгляд в будущее
Если посмотреть чуть дальше сквозь годы, то, как считают большинство экспертов, вещи в Интернете будут чувствовать себя все более свободно. Да и вообще процесс покупки чего-либо кардинально изменится. «Видимо, в будущем магазинов в современном их виде не будет. Интеллектуальные системы, анализирующие привычки и рекомендации для целевых групп, будут подбирать одежду, внося элемент неожиданности за счет глубокого анализа характера потребителя, предлагать товары, привычные и удовлетворяющие глубинным запросам человека, как биологической машины, которую на уровне пристрастий можно проанализировать и оцифровать», – оптимистично предполагает Валерий Милых.
«Мне нравится думать, что одно из приложений технологии IoT в ритейле – это формирование автоматического заказа без участия человека от холодильника или полки с товаром на поставку набора определенных продуктов. Но пока это фантастика, ведь на место пакета с молоком покупатель может поставить пакет с соком, и на данной стадии развития технологий система даст сбой, – рассуждает Вадим Каиров. – Лежащая на поверхности идея по автозаказу продуктов домашним холодильником перевернет ритейл, как только будет реализована. Это можно сравнить с компьютерным зрением или автопилотом: все понимали, что технология будет востребована, но очень долго не могли сделать».
На такой прорыв в развитии технологий рассчитывает и Александр Тарасов. «Благодаря Интернету вещей покупка товаров будет происходить в точке возникновения потребности. Например, заказать порошок для стирки можно будет непосредственно через стиральную машину. Кроме того, сотрутся границы между производителями и розничными продавцами. И те, и другие будут производить товары и продавать их», – заключает он.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Интернет сначала объединил компьютеры, потом – людей за этими компьютерами, а затем снова взялся за вещи. И этих вещей в сети становится все больше. В исследовании портала Business Insider сказано, что в прошлом году уже насчитывалось 10 млрд IoT-устройств. [~PREVIEW_TEXT] => Интернет сначала объединил компьютеры, потом – людей за этими компьютерами, а затем снова взялся за вещи. И этих вещей в сети становится все больше. В исследовании портала Business Insider сказано, что в прошлом году уже насчитывалось 10 млрд IoT-устройств. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4244 [TIMESTAMP_X] => 11.12.2019 19:50:01 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 595 [WIDTH] => 842 [FILE_SIZE] => 292244 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/410 [FILE_NAME] => 4100958dc6f363e9d5764ccac37f9e7a.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_391287706_2.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 5f05739a20c12f4c33eb5fa3f7fffebe [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/410/4100958dc6f363e9d5764ccac37f9e7a.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/410/4100958dc6f363e9d5764ccac37f9e7a.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/410/4100958dc6f363e9d5764ccac37f9e7a.jpg [ALT] => Вещи для нас [TITLE] => Вещи для нас ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4244 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => veshchi-dlya-nas [~CODE] => veshchi-dlya-nas [EXTERNAL_ID] => 5378 [~EXTERNAL_ID] => 5378 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 11.12.2019 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Вещи для нас [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Вещи для нас [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Интернет сначала объединил компьютеры, потом – людей за этими компьютерами, а затем снова взялся за вещи. И этих вещей в сети становится все больше. В исследовании портала Business Insider сказано, что в прошлом году уже насчитывалось 10 млрд IoT-устройств. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Вещи для нас [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Вещи для нас | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [11] => Array ( [ID] => 5277 [~ID] => 5277 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Цепная реакция [~NAME] => Цепная реакция [ACTIVE_FROM_X] => 2019-10-23 16:08:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2019-10-23 16:08:00 [ACTIVE_FROM] => 23.10.2019 16:08:00 [~ACTIVE_FROM] => 23.10.2019 16:08:00 [TIMESTAMP_X] => 23.10.2019 18:35:34 [~TIMESTAMP_X] => 23.10.2019 18:35:34 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/tsepnaya-reaktsiya/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/tsepnaya-reaktsiya/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Как только пузырь блокчейна перестал надуваться, переливаясь радужными красками, о технологии перестали кричать на каждом углу. Манящие криптовалюты больше не будоражат умы россиян. Зато незаметно стали появляться новости о том, что блокчейн постепенно внедряется в бизнес, и речь не об авантюрах, как было еще недавно, а о серьезных проектах. И это неудивительно, так как эту технологию можно успешно применять во многих областях и для многих задач, в том числе и в ритейле.

В начале лета группа компаний «Дикси» запустила пилот по взаимодействию с поставщиками на блокчейн-платформе, которая автоматизирует финансирование цепочки поставок. Сообщается, что первые результаты неплохи: поставщики ритейлера будут получать финансирование от факторинговых компаний в течение нескольких дней после поставки товара, в то время как обмен данными, доступ к которым есть только у участников сделки, происходит мгновенно, а значит, сокращается и время обработки операций, которые ранее делались вручную, на стороне «Дикси».
Фонд «Сколково» тем временем грозится найти практическое применение распределенным реестрам в крупных корпорациях и государственных компаниях, для чего в конце августа был открыт экспертный некоммерческий блокчейн-центр совместно с блокчейн-платформой Waves.
В своем исследовании 2018 года международная консалтинговая компания Deloitte отметила: блокчейн еще не готов к своему «звездному часу», но планомерно приближается к нему. Корпорации сейчас ищут, как лучше обойтись с новым решением. «Блокчейн-технологии повезло: ее история началась с большого хайпа, создавшего ей известность в деловых кругах всего мира, – говорит Валерий Петров, вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ). – На сегодняшний день примеров успешного внедрения блокчейна огромное количество: им пользуются все крупнейшие мировые финансовые и технологические компании, и потенциал его огромен».
Действительно, в уже упомянутом исследовании Deloitte опрошенные (1053 сведущих в технологии руководителя крупных компаний из семи стран мира) сообщили, что их организация собирается инвестировать $5 млн или больше в блокчейн в 2019 году. При этом 84% опрошенных заявили, что технология хорошо масштабируется и скоро найдет широкое применение. Однако нельзя не заметить: отмечая степень своего согласия или несогласия с утверждениями исследователя (вроде «мы потеряем конкурентное преимущество, если не внедрим блокчейн» и тому подобное), все же 39% согласились с утверждением «блокчейн переоценен».
«Пару лет назад британская компания по производству чая решила сделать ребрендинг и добавила в свое название слово «блокчейн». Новое имя компании звучало так: On-line Blockchain Plc. В результате ее акции за день выросли на 394%. Так что в современном мире применение технологий в каждом конкретном проекте должны оценивать специалисты, ибо маркетологи и копирайтеры без всякого сомнения накидают «волшебных слов» в описание», – делится своим мнением Александр Кузьмин, генеральный директор компании RH / Retail & HoReCa, эксперт Комитета по энергетике Государственной Думы РФ.
С этой точки зрения интересно вспомнить совсем недавнюю историю, когда вся пресса с восторгом писала о компании Retail.Robotics & Blockchain. Молодой отечественный стартап выдвинул крайне амбициозную идею: сделать роботизированный продовольственный магазин, где помимо роботов во всех делах использовался бы блокчейн – контракты на поставку товаров и весь огромный массив данных о продажах в каждом конкретном магазине планировалось отражать в распределенном реестре. Прошло всего два года, магазин так и не появился, а домен компании выставлен на продажу, сайта не существует.
«Надо понимать, что когда кто-то говорит, что собирается организовать работу своего магазина на блокчейне, то, скорее всего, это фигура речи, нежели реальное положение дел. Блокчейн – это не система работы магазина, а просто технология, которая позволяет определенным образом учитывать и обрабатывать информацию. Мы говорим об ее достоинствах и преимуществах, однако там, где она не соответствует реальным потребностям и задачам, ее использование может даже затормозить развитие бизнеса», – полагает Валерий Петров.
Понятно, что в случае с Retail.Robotics & Blockchain дело тут вовсе не в минусах блокчейна, а в бюджетах и роботах, но можно ли этот случай считать заодно и таким, который отпугнет последующих новаторов в области ритейла? «Давайте отделим друг от друга непростую судьбу инноваций и практическое применение технологий распределенного реестра, – предлагает Илья Полесский, директор по развитию бизнеса DTG (входит в группу компаний «Ланит»). – По статистике, 9 из 10 проектов разделяют судьбу известного вам стартапа. Это нормально, поэтому в такой сложной области, как блокчейн, а особенно в применении к сегменту ритейла, никто не заметит потери одного бойца. Рынок настолько интересный, что будут десятки других».
Главное здесь – это правильно выбрать область применения. «Хорошим примером служит запуск сервиса управления ликвидностью на блокчейне, разработанного «Альфа Банком» и X5 Retail Group, или же программа лояльности с использованием блокчейна, которую применяют в Burger King, – перечисляет Валерий Петров. – Позитивным примером могут выступать и проекты по интеграции блокчейна в текущую платежную инфраструктуру ритейлеров, позволяющие токенизировать бизнес или просто принимать к оплате криптовалюту».
Нельзя ожидать, что технология, появившаяся столь недавно, вдруг сразу станет массовой. Сначала должны быть выполнены определенные условия. «Блокчейн работает, когда выстроены электронный документооборот и платежи на уровне smart-контрактов между всеми участниками цепочки, в первую очередь в каналах поставки и дистрибуции, – поясняет Максим Мельситов, заместитель руководителя департамента бизнес-решений ГК Softline. – Необходимо внедрять системы track & trace, обеспечив прослеживаемость на протяжении всего канала дистрибуции. Этому должно способствовать в том числе обязательное внедрение системы маркировки товаров «Честный знак».
Кто кого переживет?
Раз уж мы вспомнили про систему маркировки, то нельзя обойти вниманием один очень щекотливый вопрос. Мы знаем, что она внедряется для того, чтобы обеспечить прозрачность цепочки товаров, чтобы и государство, и потребитель были в курсе, откуда идет тот или иной товар, через чьи руки и каким путем. Но что говорят о блокчейне? То же самое! Он может применяться для прослеживаемости товаров. Получается, здесь кто-то лишний? «Блокчейн – это возможность сделать бизнес-операции прозрачнее и достовернее. Он не является конкурентом систем маркировки и прослеживаемости, а представляет собой инструмент, который может использоваться для решения конкретных задач», – парирует Илья Полесский.
«Это технологии не взаимозаменяемые, а взаимодополняемые, – замечает Максим Мельситов. – Система маркировки позволяет собрать информацию, которая может храниться как в блокчейне, так и в каких-то иных базах».
Блокчейн часто упоминается как технология, которую используют либо для определения контрафакта и верификации дорогостоящей продукции, например ювелирной, либо для того, чтобы выявить иные качества товаров, положительные. Так, технологический стартап Provenance предлагает отслеживать товары с помощью блокчейна для того, чтобы вызвать у покупателя доверие. Например, чтобы показать: производство и доставка данного товара не разрушает окружающую среду и не ставит под угрозу благополучие людей и животных. При этом сервисы, подобные описанному, предлагают свои услуги, например, в Великобритании, а не в России. Поэтому вполне логично заключить: разные страны подбираются к решению одних и тех же проблем разными дорогами.
Два слова о верности
Второй путь, которым может пойти технология блокчейна в ритейле, – это улучшение программ лояльности. С одной стороны, клиентам не придется помнить, где у них накоплены очки, баллы, мили, наконец, где лежат физические карты и не стоит ли обновить виртуальные приложения с их логинами и непременными паролями свыше 8 знаков. С другой – ритейл сможет бить рекламными предложениями прицельно, не «расстреливая» всю толпу. Блокчейн позволяет создать единую общую инфраструктуру: когда все клиенты всех компаний-участников регистрируются в единой базе данных. Это поможет снизить стоимость владения программой лояльности. «В рамках программы лояльности одной сети блокчейн вряд ли оправдает надежды маркетологов и с большой вероятностью повлечет дополнительные расходы, – полагает Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса «КРОК» в ритейле. – Но в случае, если блокчейн-идентификатор объединит агрегаторы и заменит карты лояльности, это положительно скажется на персонификации предложений и снизит затраты каждого ритейлера на инфраструктуру».
По утверждению платформ, которые предлагают блокчейн как сервис (BaaS), сейчас многие компании уже накопили столько сведений о разных транзакциях своих клиентов, столько источников поставляют им данные, что маркетинговые команды уже просто не способны их переварить. Только гиганты рынка могут позволить себе анализировать такой массивный набор данных и с толком применять полученные знания. Но что если мы сможем в режиме реального времени, мгновенно узнавать у карты клиента, в каких транзакциях она только что участвовала? Получится достоверная и точная картина потребительского поведения. Закрытый коллективный блокчейн может способствовать интеграции данных от разных компаний, при этом единственное ограничение – угроза безопасности данных при обмене – снимается. Записи в распределенной базе данных легко отслеживаемы, неизменяемы, что предотвращает мошенничество, злоупотребление и любой другой тип манипуляции транзакциями.
Сам клиент, имея виртуальный кошелек, на который он может получать все баллы от всех компаний-участников и затем тратить любые очки на любые предложения от тех же компаний, тоже должен быть доволен. Для него вся система накопления упрощается, а возможность потратить вознаграждения увеличивается.
Надежды на такой блокчейн возлагает сам бизнес. «Компания Graft провела опрос среди предпринимателей, чтобы выяснить, чего они ждут от блокчейна и криптовалют. И половина опрошенных сказала, что они внедрили бы у себя в компании новые программы лояльности на блокчейне, – делится Валерий Свириденко, технический директор агрегатора криптоплатежей PayKassa.pro. – Многие компании уже это сделали. Вот только вы не сможете их отличить от тех, что не на блокчейне. Все потому, что технология новая, а подход все тот же. Бонусы, баллы, мили – это есть у всех, и клиентам такое уже неинтересно. Никакой персонификации тут не будет, пока не изменится подход и не появится общая платформа, которая будет собирать эти данные. Пример такой платформы – Incent. С момента своего запуска они подключили много розничных брендов (H & M, Pizza Hut и др.). Общая платформа для бизнеса и удобная система для самих пользователей, которые получают кэшбэк от покупок у партнеров».
Однако некоторые крупные системные интеграторы считают, что возлагать слишком большие надежды на то, что блокчейн поможет системам лояльности магазинов, сделав маркетинг более персонализированным, не стоит. «Для развития систем лояльности подойдут скорее системы анализа больших данных, а не блокчейн, – утверждает Максим Мельситов. – Но блокчейн может позволить выстроить другой тип систем лояльности: теперь производитель сможет коммуницировать с покупателем напрямую. Например, можно заложить в штрихкоды и QR-коды на упаковках информацию о подлинности товара, его составе, добавить рецепты или еще что-то, что будет играть на руку репутации бренда. Магазин в этой ситуации останется посредником между поставщиком и конечным потребителем».
«Если мы говорим о цифровых платежных средствах, то да, в этом смысле данный инструмент может быть активно использован в программах лояльности ритейл-сетей. Но и для этого нужны эксперименты и практические результаты, – предлагает смотреть на вещи трезво Илья Полесский. – Просто так блокчейн не сделает маркетинг персонализированнее, он лишь может создать доверительную основу в виде данных для других сервисов».
Посторонним удалиться
Многие ИТ-компании, которые выросли на волне модной темы, выступают за скорейшее внедрение технологии в магазинах, обещая, что блокчейн уменьшит логистические издержки, повысит эффективность маркетинга, снизит цены на продукты для покупателя, но при этом позволит больше зарабатывать ритейлеру.
Любые компании, внедряющие инновации, говорят про рост эффективности. «Вы встречали тех, кто предлагал увеличить логистические издержки за счет внедрения того или иного ПО? – задает риторический вопрос Илья Полесский. – Проверить гипотезы получения выгод можно на моделях и на практике. Лучшим подтверждением будут цифры, полученные в рамках пилотного эксперимента. Будьте уверены, как только вы сможете доказать выгоду, к вам выстроится очередь из ритейлеров, которые пока все еще думают, как сэкономить 5 копеек в цене пакета на кассе».
Блокчейн – это не панацея, а технология, которая направлена на решение совершенно конкретных задач. «Прежде всего, она позволяет оптимизировать те процедуры, которые требуют посредников или «третьих лиц» для обеспечения доверия при совершении сделок (самый простой пример – взаиморасчеты между сторонами). Использование блокчейна делает ненужной третью сторону в виде банка или финансовой компании: любые расчеты можно вести со своим клиентом напрямую», – говорит Валерий Петров.
Подводные камни во всех обещаниях, касающихся расцвета блокчейна в корпорациях, конечно, есть. Например, имеются сложности с выбором блокчейн-платформы. «Ни одна компания не занимается производством в одиночку. Есть поставщики, подрядчики. Вопрос в том, как втянуть всех в свою сеть. Как сделать так, чтобы все работали в рамках одной блокчейн-системы, – рассуждает Валерий Свириденко. – Примеров такой платформы пока нет. Крупные компании запускают разные эксперименты, некоторые даже вполне удачны. Например, блокчейн-платформа по продаже авиабилетов между «Альфа Банком» и S7 Airlines. Их система работает, денежный оборот в месяц превышает $1 млн. Но это пока только две компании, и как это все будет масштабироваться на остальной рынок, еще непонятно».
В рекламе блокчейна не устают утверждать: наконец-то третий стал действительно лишним, имея в виду посредников, верифицирующих сделки между компаниями. Но что если третьим лишним вдруг окажется сам ритейлер? Мы уже видели похожие смелые заявления. Есть мнение, что в перспективе блокчейн позволит оставить в цепочке поставок всего три звена – производителя, логистического оператора и потребителя. Если объединить на одной площадке производителей, фулфилмент-операторов (они доставляют и хранят товары) и потребителей, то при помощи смарт-контрактов можно контролировать, кто заказал товар, где он находится, оплачен ли. Ритейлер остается за бортом. Пора начать бояться? «Конечно, нет. От традиционного формата продаж рынок не уйдет еще долго, – уверен Максим Мельситов. – Большинству людей важно видеть товар, держать его в руках, без посредников в виде магазинов тут не обойтись. В настоящее время происходит трансформация рынка, когда офлайн-магазины уходят в онлайн-формат, а интернет-торговля, напротив, открывает физические магазины. Эта тенденция будет развиваться».
Ритейлера не стоит воспринимать как посредника, который зарабатывает на чужом продукте. «Давайте не будем уменьшать вклад ритейла в возможность вам и мне покупать свежие продукты, – говорит Илья Полесский. – Магазины доставляют товар, строят сервис, внедряют стандарты качества, предоставляют дополнительные услуги, оптимизируют цены. Есть спектр задач, которые не способны решить приведенные вами участники по отдельности, да и все вместе тоже».
Заменит или дополнит?
Этот эффект устранения лишних посредников проявляется при использовании блокчейна для факторинга и оптимизации бизнес-процессов. «С его помощью поставки и проведение нотариального заверения по передаче прав собственности и цепочек владения могут быть реализованы таким образом, что вам не понадобится обращаться к третьим лицам для контроля и подтверждения проведенных операций», – отмечает Валерий Петров.
Собственно, факторинг – это то, чем привлек блокчейн сеть «Дикси». Случится ли так, что остальные последуют этому примеру и мы увидим массовый переход ритейлеров на технологию блокчейн или она так и останется нишевой? «Давайте вместе понаблюдаем, что принесет этот эксперимент одному из лидеров российского рынка, и обсудим цифры по итогам хотя бы одного года работы. Не хочется увидеть финал этого проекта таким же, как упомянутый вами стартап», – предлагает не торопиться Илья Полесский. «По нашим прогнозам, «Дикси» получит видимый эффект от внедрения независимой блокчейн-платформы через год-полтора», – считает Максим Мельситов.
«На самом деле ритейлер следует в фарватере мировых тенденций, пришедших к нам от транснациональных логистических операторов, – поясняет Дмитрий Смирнов. – Блокчейн призван заменить сложившуюся систему EDI-документооборота и поможет отказаться от дорогих услуг посредников-операторов. При этом выгодно это будет только достаточно крупным ритейлерам и поставщикам, для которых платежи EDI-операторам существенно превышают цену владения собственно технологией. Удешевить технологию сможет действительно массовый переход на нее всего рынка, а ускорить – принятие соответствующих законов».
Кстати, законодательство оказывает существенное влияние на развитие и внедрение любых технологий. И важным фактором, сдерживающим развитие блокчейна, является отсутствие полноценной законодательной базы в этой области. «Как только технология станет юридически значимой, мы увидим рост числа проектов в этой области», – считает Максим Мельситов.
Но вернемся к нашему документообороту. «Ритейл – это сложный комплекс, где взаимодействуют между собой разные технологии, как в организме человека. Любое лекарство обязательно имеет противопоказания. Допустим, если навести идеальный порядок в документации при помощи электронного документооборота, но не уделить время автоматизации мерчендайзинга, то бардак в системе останется», – говорит Александр Кузьмин.

Упомянутый в самом начале лопнувший стартап, обещавший устроить магазин на блокчейне, заодно утверждал, что эта технология сможет полностью избавить магазин от нужды не только в архаичном бумажном документообороте, но и в сторонних ненадежных облаках и даже собственных дорогих Data-центрах. Мол, стоит построить все взаимоотношения с поставщиками на базе блокчейна, и ритейлер сразу сэкономит кучу денег. «Действительно, smart-контракты не нуждаются в бумажном документообороте, переход на цифровое взаимодействие может сэкономить немало денег ритейлерам, – соглашается Максим Мельситов. – Информация при этом может храниться и в собственных ЦОДах участников цепочки. Децентрализация информации может быть обеспечена за счет участия ЦОДа и облачных хранилищ компаний – операторов цепочки поставок».
«А я вижу здесь два разных вопроса. Первый, это цифровые процессы, автоматизация документооборота. Таких проектов множество, это очень высококонкурентный сегмент, – говорит Илья Полесский. – Насчет ЦОДов очень сложный вопрос. Не хочется углубляться в детали, но и ЦОДы, и облачные сервисы являются прекрасным инструментом – все зависит от решаемых задач. В большинстве случаев, если опять же говорить про ритейл, нам не нужен публичный блокчейн. Но и для него есть свои области применения».
На все руки мастер
Что еще может блокчейн в ритейле? На самом деле областей применения в теории насчитывается немало. «Технология может успешно использоваться в программах лояльности, в диагностике профессиональных качеств персонала, для корпоративных расчетов, идентификации пользователей, документооборота, регистрации прав интеллектуальной собственности, хранения информации о поставках и продажах, реализации взаимодействия с потребителем – диапазон здесь очень широк, – отмечает Валерий Петров. – В конечном счете все будет зависеть от того, насколько соответствует взятая за основу программного решения блокчейн-платформа и ее возможности основным идеям и подходам бизнеса, в котором ее планируется применять».
При использовании блокчейна целесообразно, чтобы базовые процессы ритейла (заключение сделок, обработка заказов, выполнение расчетов) были очень хорошо алгоритмизированы. Максимально же эффективен блокчейн там, где можно задействовать алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие автоматизировать многие функции, используя BigData: распознавание изображения, идентификация и консультирование клиентов, ранжирование товаров.
Иногда говорят, что именно блокчейн может перевернуть всю нынешнюю систему поставок, потому что позволяет с наименьшими издержками выстроить всю цепочку и эффективно бороться с контрафактом благодаря тому, что устройство его базы данных делает невозможными изменения в ней информации «задним числом». Но не стоит ожидать, что этот супергерой изменит все в одиночку. «Блокчейн имеет высокий потенциал для решения проблем управления цепями поставок, несомненно. Но это лишь одна из технологий, а для изменения всей системы поставок нам потребуется еще с десяток других технологий», – объясняет Илья Полесский.
Для того чтобы блокчейн работал на уровне конечного пользователя, вся цепочка поставок должна быть выстроена в формате smart-контракта и быть юридически значимой. «Вряд ли мы увидим всплеск проектов в ближайшие пять лет, но интерес со стороны ритейлеров и перспективы у технологии есть», – добавляет Максим Мельситов.
Компания Gartner уже рассматривает блокчейн как технологию для пресечения контрафакта, аудита и управления запасами. «Но, скорее всего, системных изменений в цепочке поставок технология пока не принесет. Она заменит более дорогие и изжившие себя некоторые составляющие цепочки поставок, например, работу с договорами и EDI-документооборот через провайдера», – говорит Дмитрий Смирнов.
Работает как часы
Если объединить блокчейн и Интернет вещей, то мы можем увидеть еще одну интересную область применения в ритейле – верификацию работоспособности. О том, как это может выглядеть на практике, рассказывает Александр Кузьмин. «Общий тренд для мировых компаний – проследить историю своего продукта от производства до его утилизации. Для компании «РусХОЛТС» важным проектом стало кофейное решение «под ключ», в котором реализованы основные принципы Интернета вещей», – делится он.
По его словам, на мировом рынке есть всего два технологичных игрока: Starbucks On the Go и Costa Express, но в России они пока не получили большую долю рынка. При этом продажа кофейных напитков – бизнес не такой уж маленький. Так, в 2016 году продажа кофе на АЗС принесла «Газпромнефти» 1 млрд рублей за полгода. А в 2018 году доход увеличился: АЗС компании заработали больше 3 млрд только на продаже кофе.
Любой кофейный проект строится на повторных покупках, значит, покупателям должен понравиться вкус кофе. Если мы говорим о вкусе, тот тут обязательно возникает вопрос качества напитка. Поддерживать постоянство качества на протяжении времени (год и более) возможно только при применении целого ряда технологий. Starbucks в мае 2019 года заявил о работе над созданием системы контроля качества кофейных зерен от производителя до компании-обжарщика на основе блокчейна. Система BMS Coffee Control работает на пути от компании, обжаривающей кофе, до потребителя.
«Мы исходили из того, что для сохранения постоянного вкуса напитка при поточных продажах кофе нужно выстроить технологичную систему мониторинга работы кофемашин и удаленное управление неограниченным количеством точек продаж, – поясняет Александр Кузьмин. – Это поток больших данных, фиксируется более 400 параметров работы кофемашины, которые поставляет система мониторинга, – основа для работы сервисной службы. Время реагирования на поломку системы онлайн-сервиса – 15 минут. До этого традиционным отраслевым «стандартом» было 6 часов. Без системы удаленного мониторинга у руководства кофейной точки нет никаких инструментов оценки качества услуг сервисных организаций. В режиме обновления системы, это несколько минут, операторы видят критичные отклонения в работе оборудования. В результате до 50% заявок на обслуживание кофемашины можно устранить в течение часа и без выезда механика. В три раза сокращается время простоя кофемашин по сравнению с традиционной системой сервисного обслуживания».
Идея блокчейна – единая информация для участников сети с возможностью доступа к информации и контроля изменений. «Для нашего кофейного решения важно, чтобы «все ходы» были записаны. Все действия, которые должны производиться с кофемашинами, четко разделены на те, которые осуществляет персонал станции/кафе, и те, которые выполняет сервисный механик. Например, кофемашину надо ежедневно мыть, чтобы она исправно работала и кофе был вкусный. Если не вымыть ее один раз – ничего не случится, но существует та критическая масса невыполненных действий, после которых кофе превращается в дрянной напиток, а бойлер стоимостью несколько сотен евро сгорает. Наши механики встречали агрегаты, которые произвели 75 тысяч чашек кофе без единого ТО. Для специалиста эта цифра свидетельствует о том, что последние 2-3 года этот аппарат выдает кофеподобное пойло из любого зерна, даже самого высококачественного», – описывает ситуацию Александр Кузьмин.
В Багдаде все спокойно
О сценариях применения блокчейна будут еще долго спорить, однако что совершенно ясно уже сейчас – блокчейн может служить гарантом информационной безопасности. В том же исследовании компании Deloitte 84% респондентов заявили, что верят – блокчейн более безопасен, чем любые другие, привычные нам ИТ-системы. Действительно ли технология более безопасна для хранения корпоративных данных, чем традиционные облачные сервисы? Распределенные базы данных нельзя взломать или заDDos-ить. Ритейл уже использует DLT в своей деятельности. «Главный интерес у него – в возможности снять недоверие между участниками бизнес-экосистемы. В продовольственном ритейле есть такие бизнес-связи, когда возникает вопрос недоверия к данным, к возможности их заменить, подделать. В этом случае применение блокчейна для подтверждения достоверности данных оправданно, – говорит Илья Полесский. – Но следует четко разделять, какие данные мы храним в блокчейне, а какие нет. И это больше архитектурный вопрос, который решается при проектировании таких экосистем».
Что касается узких вопросов безопасности, то, по мнению Ильи Полесского, одна из главных угроз в области информационной безопасности для блокчейна (а на самом деле для криптовалют, именно они представляют реальную ценность, которой можно завладеть) – это так называемые «атаки 51%». Они позволяют злоумышленникам контролировать сеть и проходящие в ней транзакции. В большей степени это относится к публичным блокчейнам. Корпоративные или блокчейны для ограниченного контролируемого числа участников с точки зрения вопросов безопасности схожи с традиционными информационными системами, но с более надежным хранением данных в части их неизменности. Узел блокчейна может быть доступен как облачный сервис, поэтому сравнивать блокчейн с облачным сервисом некорректно, так как они дополняют друг друга.
Но, конечно же, никто не отменял необходимость борьбы с высокими рисками. «Например, если ваша технология позволяет злоумышленникам воровать пароли, то никакой блокчейн вас не обезопасит, поскольку он просто не заточен под эту проблему», – отмечает Валерий Петров.
Что такое блокчейн
Блокчейн (англ. blockchain – цепочка блоков) – это распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Эта база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок.
Безопасность в технологии блокчейн обеспечивается через децентрализованный сервер, проставляющий метки времени, и одноранговые сетевые соединения. В результате формируется база данных, которая управляется автономно, без единого центра. Это делает цепочки блоков удобными для регистрации событий и операций с данными, управления идентификацией и подтверждения подлинности источника. Применение шифрования гарантирует, что пользователи могут изменять только те части цепочки блоков, к которым у них есть закрытые ключи, без которых запись в файл невозможна.
Концепцию цепочек блоков предложил в 2008 году Сатоши Накамото (личность реального человека, скрывающегося за этим псевдонимом, до сих пор не установлена). Впервые она была реализована в 2009 году как компонент цифровой валюты – биткоина, где блокчейн играет роль главного общего реестра для всех операций.
Области применения блокчейна
• Пресечение контрафакта
• Программы лояльности
• Оценка профессиональных качеств персонала
• Корпоративные расчеты
• Идентификация пользователей
• Документооборот
• Регистрация прав интеллектуальной собственности
• Хранение информации о поставках и продажах
• Управление запасами
[~DETAIL_TEXT] =>
Как только пузырь блокчейна перестал надуваться, переливаясь радужными красками, о технологии перестали кричать на каждом углу. Манящие криптовалюты больше не будоражат умы россиян. Зато незаметно стали появляться новости о том, что блокчейн постепенно внедряется в бизнес, и речь не об авантюрах, как было еще недавно, а о серьезных проектах. И это неудивительно, так как эту технологию можно успешно применять во многих областях и для многих задач, в том числе и в ритейле.

В начале лета группа компаний «Дикси» запустила пилот по взаимодействию с поставщиками на блокчейн-платформе, которая автоматизирует финансирование цепочки поставок. Сообщается, что первые результаты неплохи: поставщики ритейлера будут получать финансирование от факторинговых компаний в течение нескольких дней после поставки товара, в то время как обмен данными, доступ к которым есть только у участников сделки, происходит мгновенно, а значит, сокращается и время обработки операций, которые ранее делались вручную, на стороне «Дикси».
Фонд «Сколково» тем временем грозится найти практическое применение распределенным реестрам в крупных корпорациях и государственных компаниях, для чего в конце августа был открыт экспертный некоммерческий блокчейн-центр совместно с блокчейн-платформой Waves.
В своем исследовании 2018 года международная консалтинговая компания Deloitte отметила: блокчейн еще не готов к своему «звездному часу», но планомерно приближается к нему. Корпорации сейчас ищут, как лучше обойтись с новым решением. «Блокчейн-технологии повезло: ее история началась с большого хайпа, создавшего ей известность в деловых кругах всего мира, – говорит Валерий Петров, вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ). – На сегодняшний день примеров успешного внедрения блокчейна огромное количество: им пользуются все крупнейшие мировые финансовые и технологические компании, и потенциал его огромен».
Действительно, в уже упомянутом исследовании Deloitte опрошенные (1053 сведущих в технологии руководителя крупных компаний из семи стран мира) сообщили, что их организация собирается инвестировать $5 млн или больше в блокчейн в 2019 году. При этом 84% опрошенных заявили, что технология хорошо масштабируется и скоро найдет широкое применение. Однако нельзя не заметить: отмечая степень своего согласия или несогласия с утверждениями исследователя (вроде «мы потеряем конкурентное преимущество, если не внедрим блокчейн» и тому подобное), все же 39% согласились с утверждением «блокчейн переоценен».
«Пару лет назад британская компания по производству чая решила сделать ребрендинг и добавила в свое название слово «блокчейн». Новое имя компании звучало так: On-line Blockchain Plc. В результате ее акции за день выросли на 394%. Так что в современном мире применение технологий в каждом конкретном проекте должны оценивать специалисты, ибо маркетологи и копирайтеры без всякого сомнения накидают «волшебных слов» в описание», – делится своим мнением Александр Кузьмин, генеральный директор компании RH / Retail & HoReCa, эксперт Комитета по энергетике Государственной Думы РФ.
С этой точки зрения интересно вспомнить совсем недавнюю историю, когда вся пресса с восторгом писала о компании Retail.Robotics & Blockchain. Молодой отечественный стартап выдвинул крайне амбициозную идею: сделать роботизированный продовольственный магазин, где помимо роботов во всех делах использовался бы блокчейн – контракты на поставку товаров и весь огромный массив данных о продажах в каждом конкретном магазине планировалось отражать в распределенном реестре. Прошло всего два года, магазин так и не появился, а домен компании выставлен на продажу, сайта не существует.
«Надо понимать, что когда кто-то говорит, что собирается организовать работу своего магазина на блокчейне, то, скорее всего, это фигура речи, нежели реальное положение дел. Блокчейн – это не система работы магазина, а просто технология, которая позволяет определенным образом учитывать и обрабатывать информацию. Мы говорим об ее достоинствах и преимуществах, однако там, где она не соответствует реальным потребностям и задачам, ее использование может даже затормозить развитие бизнеса», – полагает Валерий Петров.
Понятно, что в случае с Retail.Robotics & Blockchain дело тут вовсе не в минусах блокчейна, а в бюджетах и роботах, но можно ли этот случай считать заодно и таким, который отпугнет последующих новаторов в области ритейла? «Давайте отделим друг от друга непростую судьбу инноваций и практическое применение технологий распределенного реестра, – предлагает Илья Полесский, директор по развитию бизнеса DTG (входит в группу компаний «Ланит»). – По статистике, 9 из 10 проектов разделяют судьбу известного вам стартапа. Это нормально, поэтому в такой сложной области, как блокчейн, а особенно в применении к сегменту ритейла, никто не заметит потери одного бойца. Рынок настолько интересный, что будут десятки других».
Главное здесь – это правильно выбрать область применения. «Хорошим примером служит запуск сервиса управления ликвидностью на блокчейне, разработанного «Альфа Банком» и X5 Retail Group, или же программа лояльности с использованием блокчейна, которую применяют в Burger King, – перечисляет Валерий Петров. – Позитивным примером могут выступать и проекты по интеграции блокчейна в текущую платежную инфраструктуру ритейлеров, позволяющие токенизировать бизнес или просто принимать к оплате криптовалюту».
Нельзя ожидать, что технология, появившаяся столь недавно, вдруг сразу станет массовой. Сначала должны быть выполнены определенные условия. «Блокчейн работает, когда выстроены электронный документооборот и платежи на уровне smart-контрактов между всеми участниками цепочки, в первую очередь в каналах поставки и дистрибуции, – поясняет Максим Мельситов, заместитель руководителя департамента бизнес-решений ГК Softline. – Необходимо внедрять системы track & trace, обеспечив прослеживаемость на протяжении всего канала дистрибуции. Этому должно способствовать в том числе обязательное внедрение системы маркировки товаров «Честный знак».
Кто кого переживет?
Раз уж мы вспомнили про систему маркировки, то нельзя обойти вниманием один очень щекотливый вопрос. Мы знаем, что она внедряется для того, чтобы обеспечить прозрачность цепочки товаров, чтобы и государство, и потребитель были в курсе, откуда идет тот или иной товар, через чьи руки и каким путем. Но что говорят о блокчейне? То же самое! Он может применяться для прослеживаемости товаров. Получается, здесь кто-то лишний? «Блокчейн – это возможность сделать бизнес-операции прозрачнее и достовернее. Он не является конкурентом систем маркировки и прослеживаемости, а представляет собой инструмент, который может использоваться для решения конкретных задач», – парирует Илья Полесский.
«Это технологии не взаимозаменяемые, а взаимодополняемые, – замечает Максим Мельситов. – Система маркировки позволяет собрать информацию, которая может храниться как в блокчейне, так и в каких-то иных базах».
Блокчейн часто упоминается как технология, которую используют либо для определения контрафакта и верификации дорогостоящей продукции, например ювелирной, либо для того, чтобы выявить иные качества товаров, положительные. Так, технологический стартап Provenance предлагает отслеживать товары с помощью блокчейна для того, чтобы вызвать у покупателя доверие. Например, чтобы показать: производство и доставка данного товара не разрушает окружающую среду и не ставит под угрозу благополучие людей и животных. При этом сервисы, подобные описанному, предлагают свои услуги, например, в Великобритании, а не в России. Поэтому вполне логично заключить: разные страны подбираются к решению одних и тех же проблем разными дорогами.
Два слова о верности
Второй путь, которым может пойти технология блокчейна в ритейле, – это улучшение программ лояльности. С одной стороны, клиентам не придется помнить, где у них накоплены очки, баллы, мили, наконец, где лежат физические карты и не стоит ли обновить виртуальные приложения с их логинами и непременными паролями свыше 8 знаков. С другой – ритейл сможет бить рекламными предложениями прицельно, не «расстреливая» всю толпу. Блокчейн позволяет создать единую общую инфраструктуру: когда все клиенты всех компаний-участников регистрируются в единой базе данных. Это поможет снизить стоимость владения программой лояльности. «В рамках программы лояльности одной сети блокчейн вряд ли оправдает надежды маркетологов и с большой вероятностью повлечет дополнительные расходы, – полагает Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса «КРОК» в ритейле. – Но в случае, если блокчейн-идентификатор объединит агрегаторы и заменит карты лояльности, это положительно скажется на персонификации предложений и снизит затраты каждого ритейлера на инфраструктуру».
По утверждению платформ, которые предлагают блокчейн как сервис (BaaS), сейчас многие компании уже накопили столько сведений о разных транзакциях своих клиентов, столько источников поставляют им данные, что маркетинговые команды уже просто не способны их переварить. Только гиганты рынка могут позволить себе анализировать такой массивный набор данных и с толком применять полученные знания. Но что если мы сможем в режиме реального времени, мгновенно узнавать у карты клиента, в каких транзакциях она только что участвовала? Получится достоверная и точная картина потребительского поведения. Закрытый коллективный блокчейн может способствовать интеграции данных от разных компаний, при этом единственное ограничение – угроза безопасности данных при обмене – снимается. Записи в распределенной базе данных легко отслеживаемы, неизменяемы, что предотвращает мошенничество, злоупотребление и любой другой тип манипуляции транзакциями.
Сам клиент, имея виртуальный кошелек, на который он может получать все баллы от всех компаний-участников и затем тратить любые очки на любые предложения от тех же компаний, тоже должен быть доволен. Для него вся система накопления упрощается, а возможность потратить вознаграждения увеличивается.
Надежды на такой блокчейн возлагает сам бизнес. «Компания Graft провела опрос среди предпринимателей, чтобы выяснить, чего они ждут от блокчейна и криптовалют. И половина опрошенных сказала, что они внедрили бы у себя в компании новые программы лояльности на блокчейне, – делится Валерий Свириденко, технический директор агрегатора криптоплатежей PayKassa.pro. – Многие компании уже это сделали. Вот только вы не сможете их отличить от тех, что не на блокчейне. Все потому, что технология новая, а подход все тот же. Бонусы, баллы, мили – это есть у всех, и клиентам такое уже неинтересно. Никакой персонификации тут не будет, пока не изменится подход и не появится общая платформа, которая будет собирать эти данные. Пример такой платформы – Incent. С момента своего запуска они подключили много розничных брендов (H & M, Pizza Hut и др.). Общая платформа для бизнеса и удобная система для самих пользователей, которые получают кэшбэк от покупок у партнеров».
Однако некоторые крупные системные интеграторы считают, что возлагать слишком большие надежды на то, что блокчейн поможет системам лояльности магазинов, сделав маркетинг более персонализированным, не стоит. «Для развития систем лояльности подойдут скорее системы анализа больших данных, а не блокчейн, – утверждает Максим Мельситов. – Но блокчейн может позволить выстроить другой тип систем лояльности: теперь производитель сможет коммуницировать с покупателем напрямую. Например, можно заложить в штрихкоды и QR-коды на упаковках информацию о подлинности товара, его составе, добавить рецепты или еще что-то, что будет играть на руку репутации бренда. Магазин в этой ситуации останется посредником между поставщиком и конечным потребителем».
«Если мы говорим о цифровых платежных средствах, то да, в этом смысле данный инструмент может быть активно использован в программах лояльности ритейл-сетей. Но и для этого нужны эксперименты и практические результаты, – предлагает смотреть на вещи трезво Илья Полесский. – Просто так блокчейн не сделает маркетинг персонализированнее, он лишь может создать доверительную основу в виде данных для других сервисов».
Посторонним удалиться
Многие ИТ-компании, которые выросли на волне модной темы, выступают за скорейшее внедрение технологии в магазинах, обещая, что блокчейн уменьшит логистические издержки, повысит эффективность маркетинга, снизит цены на продукты для покупателя, но при этом позволит больше зарабатывать ритейлеру.
Любые компании, внедряющие инновации, говорят про рост эффективности. «Вы встречали тех, кто предлагал увеличить логистические издержки за счет внедрения того или иного ПО? – задает риторический вопрос Илья Полесский. – Проверить гипотезы получения выгод можно на моделях и на практике. Лучшим подтверждением будут цифры, полученные в рамках пилотного эксперимента. Будьте уверены, как только вы сможете доказать выгоду, к вам выстроится очередь из ритейлеров, которые пока все еще думают, как сэкономить 5 копеек в цене пакета на кассе».
Блокчейн – это не панацея, а технология, которая направлена на решение совершенно конкретных задач. «Прежде всего, она позволяет оптимизировать те процедуры, которые требуют посредников или «третьих лиц» для обеспечения доверия при совершении сделок (самый простой пример – взаиморасчеты между сторонами). Использование блокчейна делает ненужной третью сторону в виде банка или финансовой компании: любые расчеты можно вести со своим клиентом напрямую», – говорит Валерий Петров.
Подводные камни во всех обещаниях, касающихся расцвета блокчейна в корпорациях, конечно, есть. Например, имеются сложности с выбором блокчейн-платформы. «Ни одна компания не занимается производством в одиночку. Есть поставщики, подрядчики. Вопрос в том, как втянуть всех в свою сеть. Как сделать так, чтобы все работали в рамках одной блокчейн-системы, – рассуждает Валерий Свириденко. – Примеров такой платформы пока нет. Крупные компании запускают разные эксперименты, некоторые даже вполне удачны. Например, блокчейн-платформа по продаже авиабилетов между «Альфа Банком» и S7 Airlines. Их система работает, денежный оборот в месяц превышает $1 млн. Но это пока только две компании, и как это все будет масштабироваться на остальной рынок, еще непонятно».
В рекламе блокчейна не устают утверждать: наконец-то третий стал действительно лишним, имея в виду посредников, верифицирующих сделки между компаниями. Но что если третьим лишним вдруг окажется сам ритейлер? Мы уже видели похожие смелые заявления. Есть мнение, что в перспективе блокчейн позволит оставить в цепочке поставок всего три звена – производителя, логистического оператора и потребителя. Если объединить на одной площадке производителей, фулфилмент-операторов (они доставляют и хранят товары) и потребителей, то при помощи смарт-контрактов можно контролировать, кто заказал товар, где он находится, оплачен ли. Ритейлер остается за бортом. Пора начать бояться? «Конечно, нет. От традиционного формата продаж рынок не уйдет еще долго, – уверен Максим Мельситов. – Большинству людей важно видеть товар, держать его в руках, без посредников в виде магазинов тут не обойтись. В настоящее время происходит трансформация рынка, когда офлайн-магазины уходят в онлайн-формат, а интернет-торговля, напротив, открывает физические магазины. Эта тенденция будет развиваться».
Ритейлера не стоит воспринимать как посредника, который зарабатывает на чужом продукте. «Давайте не будем уменьшать вклад ритейла в возможность вам и мне покупать свежие продукты, – говорит Илья Полесский. – Магазины доставляют товар, строят сервис, внедряют стандарты качества, предоставляют дополнительные услуги, оптимизируют цены. Есть спектр задач, которые не способны решить приведенные вами участники по отдельности, да и все вместе тоже».
Заменит или дополнит?
Этот эффект устранения лишних посредников проявляется при использовании блокчейна для факторинга и оптимизации бизнес-процессов. «С его помощью поставки и проведение нотариального заверения по передаче прав собственности и цепочек владения могут быть реализованы таким образом, что вам не понадобится обращаться к третьим лицам для контроля и подтверждения проведенных операций», – отмечает Валерий Петров.
Собственно, факторинг – это то, чем привлек блокчейн сеть «Дикси». Случится ли так, что остальные последуют этому примеру и мы увидим массовый переход ритейлеров на технологию блокчейн или она так и останется нишевой? «Давайте вместе понаблюдаем, что принесет этот эксперимент одному из лидеров российского рынка, и обсудим цифры по итогам хотя бы одного года работы. Не хочется увидеть финал этого проекта таким же, как упомянутый вами стартап», – предлагает не торопиться Илья Полесский. «По нашим прогнозам, «Дикси» получит видимый эффект от внедрения независимой блокчейн-платформы через год-полтора», – считает Максим Мельситов.
«На самом деле ритейлер следует в фарватере мировых тенденций, пришедших к нам от транснациональных логистических операторов, – поясняет Дмитрий Смирнов. – Блокчейн призван заменить сложившуюся систему EDI-документооборота и поможет отказаться от дорогих услуг посредников-операторов. При этом выгодно это будет только достаточно крупным ритейлерам и поставщикам, для которых платежи EDI-операторам существенно превышают цену владения собственно технологией. Удешевить технологию сможет действительно массовый переход на нее всего рынка, а ускорить – принятие соответствующих законов».
Кстати, законодательство оказывает существенное влияние на развитие и внедрение любых технологий. И важным фактором, сдерживающим развитие блокчейна, является отсутствие полноценной законодательной базы в этой области. «Как только технология станет юридически значимой, мы увидим рост числа проектов в этой области», – считает Максим Мельситов.
Но вернемся к нашему документообороту. «Ритейл – это сложный комплекс, где взаимодействуют между собой разные технологии, как в организме человека. Любое лекарство обязательно имеет противопоказания. Допустим, если навести идеальный порядок в документации при помощи электронного документооборота, но не уделить время автоматизации мерчендайзинга, то бардак в системе останется», – говорит Александр Кузьмин.

Упомянутый в самом начале лопнувший стартап, обещавший устроить магазин на блокчейне, заодно утверждал, что эта технология сможет полностью избавить магазин от нужды не только в архаичном бумажном документообороте, но и в сторонних ненадежных облаках и даже собственных дорогих Data-центрах. Мол, стоит построить все взаимоотношения с поставщиками на базе блокчейна, и ритейлер сразу сэкономит кучу денег. «Действительно, smart-контракты не нуждаются в бумажном документообороте, переход на цифровое взаимодействие может сэкономить немало денег ритейлерам, – соглашается Максим Мельситов. – Информация при этом может храниться и в собственных ЦОДах участников цепочки. Децентрализация информации может быть обеспечена за счет участия ЦОДа и облачных хранилищ компаний – операторов цепочки поставок».
«А я вижу здесь два разных вопроса. Первый, это цифровые процессы, автоматизация документооборота. Таких проектов множество, это очень высококонкурентный сегмент, – говорит Илья Полесский. – Насчет ЦОДов очень сложный вопрос. Не хочется углубляться в детали, но и ЦОДы, и облачные сервисы являются прекрасным инструментом – все зависит от решаемых задач. В большинстве случаев, если опять же говорить про ритейл, нам не нужен публичный блокчейн. Но и для него есть свои области применения».
На все руки мастер
Что еще может блокчейн в ритейле? На самом деле областей применения в теории насчитывается немало. «Технология может успешно использоваться в программах лояльности, в диагностике профессиональных качеств персонала, для корпоративных расчетов, идентификации пользователей, документооборота, регистрации прав интеллектуальной собственности, хранения информации о поставках и продажах, реализации взаимодействия с потребителем – диапазон здесь очень широк, – отмечает Валерий Петров. – В конечном счете все будет зависеть от того, насколько соответствует взятая за основу программного решения блокчейн-платформа и ее возможности основным идеям и подходам бизнеса, в котором ее планируется применять».
При использовании блокчейна целесообразно, чтобы базовые процессы ритейла (заключение сделок, обработка заказов, выполнение расчетов) были очень хорошо алгоритмизированы. Максимально же эффективен блокчейн там, где можно задействовать алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие автоматизировать многие функции, используя BigData: распознавание изображения, идентификация и консультирование клиентов, ранжирование товаров.
Иногда говорят, что именно блокчейн может перевернуть всю нынешнюю систему поставок, потому что позволяет с наименьшими издержками выстроить всю цепочку и эффективно бороться с контрафактом благодаря тому, что устройство его базы данных делает невозможными изменения в ней информации «задним числом». Но не стоит ожидать, что этот супергерой изменит все в одиночку. «Блокчейн имеет высокий потенциал для решения проблем управления цепями поставок, несомненно. Но это лишь одна из технологий, а для изменения всей системы поставок нам потребуется еще с десяток других технологий», – объясняет Илья Полесский.
Для того чтобы блокчейн работал на уровне конечного пользователя, вся цепочка поставок должна быть выстроена в формате smart-контракта и быть юридически значимой. «Вряд ли мы увидим всплеск проектов в ближайшие пять лет, но интерес со стороны ритейлеров и перспективы у технологии есть», – добавляет Максим Мельситов.
Компания Gartner уже рассматривает блокчейн как технологию для пресечения контрафакта, аудита и управления запасами. «Но, скорее всего, системных изменений в цепочке поставок технология пока не принесет. Она заменит более дорогие и изжившие себя некоторые составляющие цепочки поставок, например, работу с договорами и EDI-документооборот через провайдера», – говорит Дмитрий Смирнов.
Работает как часы
Если объединить блокчейн и Интернет вещей, то мы можем увидеть еще одну интересную область применения в ритейле – верификацию работоспособности. О том, как это может выглядеть на практике, рассказывает Александр Кузьмин. «Общий тренд для мировых компаний – проследить историю своего продукта от производства до его утилизации. Для компании «РусХОЛТС» важным проектом стало кофейное решение «под ключ», в котором реализованы основные принципы Интернета вещей», – делится он.
По его словам, на мировом рынке есть всего два технологичных игрока: Starbucks On the Go и Costa Express, но в России они пока не получили большую долю рынка. При этом продажа кофейных напитков – бизнес не такой уж маленький. Так, в 2016 году продажа кофе на АЗС принесла «Газпромнефти» 1 млрд рублей за полгода. А в 2018 году доход увеличился: АЗС компании заработали больше 3 млрд только на продаже кофе.
Любой кофейный проект строится на повторных покупках, значит, покупателям должен понравиться вкус кофе. Если мы говорим о вкусе, тот тут обязательно возникает вопрос качества напитка. Поддерживать постоянство качества на протяжении времени (год и более) возможно только при применении целого ряда технологий. Starbucks в мае 2019 года заявил о работе над созданием системы контроля качества кофейных зерен от производителя до компании-обжарщика на основе блокчейна. Система BMS Coffee Control работает на пути от компании, обжаривающей кофе, до потребителя.
«Мы исходили из того, что для сохранения постоянного вкуса напитка при поточных продажах кофе нужно выстроить технологичную систему мониторинга работы кофемашин и удаленное управление неограниченным количеством точек продаж, – поясняет Александр Кузьмин. – Это поток больших данных, фиксируется более 400 параметров работы кофемашины, которые поставляет система мониторинга, – основа для работы сервисной службы. Время реагирования на поломку системы онлайн-сервиса – 15 минут. До этого традиционным отраслевым «стандартом» было 6 часов. Без системы удаленного мониторинга у руководства кофейной точки нет никаких инструментов оценки качества услуг сервисных организаций. В режиме обновления системы, это несколько минут, операторы видят критичные отклонения в работе оборудования. В результате до 50% заявок на обслуживание кофемашины можно устранить в течение часа и без выезда механика. В три раза сокращается время простоя кофемашин по сравнению с традиционной системой сервисного обслуживания».
Идея блокчейна – единая информация для участников сети с возможностью доступа к информации и контроля изменений. «Для нашего кофейного решения важно, чтобы «все ходы» были записаны. Все действия, которые должны производиться с кофемашинами, четко разделены на те, которые осуществляет персонал станции/кафе, и те, которые выполняет сервисный механик. Например, кофемашину надо ежедневно мыть, чтобы она исправно работала и кофе был вкусный. Если не вымыть ее один раз – ничего не случится, но существует та критическая масса невыполненных действий, после которых кофе превращается в дрянной напиток, а бойлер стоимостью несколько сотен евро сгорает. Наши механики встречали агрегаты, которые произвели 75 тысяч чашек кофе без единого ТО. Для специалиста эта цифра свидетельствует о том, что последние 2-3 года этот аппарат выдает кофеподобное пойло из любого зерна, даже самого высококачественного», – описывает ситуацию Александр Кузьмин.
В Багдаде все спокойно
О сценариях применения блокчейна будут еще долго спорить, однако что совершенно ясно уже сейчас – блокчейн может служить гарантом информационной безопасности. В том же исследовании компании Deloitte 84% респондентов заявили, что верят – блокчейн более безопасен, чем любые другие, привычные нам ИТ-системы. Действительно ли технология более безопасна для хранения корпоративных данных, чем традиционные облачные сервисы? Распределенные базы данных нельзя взломать или заDDos-ить. Ритейл уже использует DLT в своей деятельности. «Главный интерес у него – в возможности снять недоверие между участниками бизнес-экосистемы. В продовольственном ритейле есть такие бизнес-связи, когда возникает вопрос недоверия к данным, к возможности их заменить, подделать. В этом случае применение блокчейна для подтверждения достоверности данных оправданно, – говорит Илья Полесский. – Но следует четко разделять, какие данные мы храним в блокчейне, а какие нет. И это больше архитектурный вопрос, который решается при проектировании таких экосистем».
Что касается узких вопросов безопасности, то, по мнению Ильи Полесского, одна из главных угроз в области информационной безопасности для блокчейна (а на самом деле для криптовалют, именно они представляют реальную ценность, которой можно завладеть) – это так называемые «атаки 51%». Они позволяют злоумышленникам контролировать сеть и проходящие в ней транзакции. В большей степени это относится к публичным блокчейнам. Корпоративные или блокчейны для ограниченного контролируемого числа участников с точки зрения вопросов безопасности схожи с традиционными информационными системами, но с более надежным хранением данных в части их неизменности. Узел блокчейна может быть доступен как облачный сервис, поэтому сравнивать блокчейн с облачным сервисом некорректно, так как они дополняют друг друга.
Но, конечно же, никто не отменял необходимость борьбы с высокими рисками. «Например, если ваша технология позволяет злоумышленникам воровать пароли, то никакой блокчейн вас не обезопасит, поскольку он просто не заточен под эту проблему», – отмечает Валерий Петров.
Что такое блокчейн
Блокчейн (англ. blockchain – цепочка блоков) – это распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Эта база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок.
Безопасность в технологии блокчейн обеспечивается через децентрализованный сервер, проставляющий метки времени, и одноранговые сетевые соединения. В результате формируется база данных, которая управляется автономно, без единого центра. Это делает цепочки блоков удобными для регистрации событий и операций с данными, управления идентификацией и подтверждения подлинности источника. Применение шифрования гарантирует, что пользователи могут изменять только те части цепочки блоков, к которым у них есть закрытые ключи, без которых запись в файл невозможна.
Концепцию цепочек блоков предложил в 2008 году Сатоши Накамото (личность реального человека, скрывающегося за этим псевдонимом, до сих пор не установлена). Впервые она была реализована в 2009 году как компонент цифровой валюты – биткоина, где блокчейн играет роль главного общего реестра для всех операций.
Области применения блокчейна
• Пресечение контрафакта
• Программы лояльности
• Оценка профессиональных качеств персонала
• Корпоративные расчеты
• Идентификация пользователей
• Документооборот
• Регистрация прав интеллектуальной собственности
• Хранение информации о поставках и продажах
• Управление запасами
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Как только пузырь блокчейна перестал надуваться, о технологии перестали кричать на каждом углу. Зато незаметно стали появляться новости о том, что блокчейн постепенно внедряется в бизнес, и речь не об авантюрах, как было еще недавно, а о серьезных проектах. [~PREVIEW_TEXT] => Как только пузырь блокчейна перестал надуваться, о технологии перестали кричать на каждом углу. Зато незаметно стали появляться новости о том, что блокчейн постепенно внедряется в бизнес, и речь не об авантюрах, как было еще недавно, а о серьезных проектах. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4002 [TIMESTAMP_X] => 23.10.2019 18:35:34 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 720 [WIDTH] => 1080 [FILE_SIZE] => 550635 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/673 [FILE_NAME] => 673bc5562a31fed76fc1df480b650963.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1043773705.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 82086acf25144e6805611b09ddfbf72d [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/673/673bc5562a31fed76fc1df480b650963.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/673/673bc5562a31fed76fc1df480b650963.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/673/673bc5562a31fed76fc1df480b650963.jpg [ALT] => Цепная реакция [TITLE] => Цепная реакция ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4002 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => tsepnaya-reaktsiya [~CODE] => tsepnaya-reaktsiya [EXTERNAL_ID] => 5277 [~EXTERNAL_ID] => 5277 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 23.10.2019 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Цепная реакция [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Цепная реакция [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Как только пузырь блокчейна перестал надуваться, о технологии перестали кричать на каждом углу. Зато незаметно стали появляться новости о том, что блокчейн постепенно внедряется в бизнес, и речь не об авантюрах, как было еще недавно, а о серьезных проектах. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Цепная реакция [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Цепная реакция | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [12] => Array ( [ID] => 5204 [~ID] => 5204 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Торговая площадь [~NAME] => Торговая площадь [ACTIVE_FROM_X] => 2019-09-16 23:17:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2019-09-16 23:17:00 [ACTIVE_FROM] => 16.09.2019 23:17:00 [~ACTIVE_FROM] => 16.09.2019 23:17:00 [TIMESTAMP_X] => 16.09.2019 23:32:31 [~TIMESTAMP_X] => 16.09.2019 23:32:31 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/torgovaya-ploshchad/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/torgovaya-ploshchad/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Ритейлеры и поставщики все чаще общаются в интернет-пространстве. Сейчас можно все закупки перевести на электронные площадки и с их помощью увеличить скорость коммуникации, упростить анализ предложения и снизить коррупционные риски. Для этого розничные компании создают собственные платформы или же размещаются на независимых порталах. Рассмотрим, как эта система взаимодействия на рынке работает на данный момент и как будет развиваться в дальнейшем.

Успех маркетплейсов категории «бизнес-потребитель» несомненен. Электронная торговля не только трансформируется сама, делая из интернет-магазинов всеобъемлющую площадку, но и меняет экономику. Эта сфера настолько интересна, что в прошлом году наш президент счел нужным высказаться за создание российской платформы по электронной торговле и – шире – цифровой платформы будущего. «Те, кто будет обладать этими платформами, будут хозяевами мира», – цитировал Владимира Путина ТАСС. Так происходит не только у нас: в разных странах мира государственные структуры финансируют электронную торговлю.
B2С-платформы – это то, что на поверхности и заметно. Однако оптовики тоже хотят в онлайн – это устойчивый тренд последних лет. «Если обороты продаж физлицам в 2019 году составляли чуть более 1 трлн руб., то онлайн-B2B вместе с B2G превысил 30 трлн руб. Торговля осуществляется через электронные тендерные площадки. Другое дело, что об этом так широко не говорят, как о B2C», – отмечает Дмитрий Пангин, глава salestech-платформы OTC.ru.
При этом Россия, хотя и вошла в 2018 году в десятку крупнейших мировых рынков электронной коммерции, занимала в этом топе лишь девятое место, опередив только Бразилию. Если сравнивать Россию с Китаем, то цифры и вовсе несопоставимые: по данным компании Magneto IT Solutions, этот рынок у нас составил $20 млн, тогда как в Китае – $672 млн.
Отстает ли у нас B2B-сегмент от потребительского или нет – вопрос спорный. Если судить только по цифрам оборота, приведенным выше, то не отстает. Но у B2B-сегмента есть свои особенности. В отличие от B2C в B2B очень часто непростые процессы согласования цен, подтверждения товара, сложнее логика отгрузки. «К примеру, у одного нашего клиента, крупной строительной компании, стоимость продукции может зависеть от партии товара и от того, на какой именно строительный объект закупается товар», – говорит Андрей Путин, управляющий партнер компании kt.team.
Другой пример, который приводит Андрей Путин, демонстрирует сложную структуру закупок: часть товара будет произведена под клиента, часть отгружена со склада в Германии, а часть из логистического центра в России. В этот заказ должны быть включены дополнительные услуги, заказ должен отслеживаться в личном кабинете и быть безошибочным ввиду штрафных санкций, которыми сопровождаются большие поставки. Все это накладывает существенно более высокие требования к реализации электронных торговых платформ для бизнеса: множество бизнес-процессов должны быть автоматизированы с нуля и глубоко интегрированы в инфраструктуру клиента. На выходе – сложная разработка, дорогая стоимость внедрения, меньший объем заказов в количественном выражении, при этом требуется, чтобы вероятность ошибок была минимальной. Неудивительно, что автоматизация и самообслуживание отстают от B2C-сегмента.
Нельзя сказать, что ниша B2B-сегмента в электронной торговле пустует: на рынке есть электронные торговые площадки, которые работают и развиваются много лет, такие, например, как Фабрикант.ру, B2B-center. Появляется много новых игроков: Qoovee Market, который обещает объединить бизнес и континенты и утверждает, что познакомит с 22 тысячами поставщиков из 82 стран мира; «Агро24», которая называет себя не только первой платформой для торговли продуктами питания оптом, но и энциклопедией продовольственной торговли.
Таким образом, инфраструктурные возможности для онлайн B2B-торговли присутствуют. Об этом говорит Алексей Красильников, директор по развитию компании Effective Technologies: «У крупных корпораций, как правило, налажены закупочные процессы. Стремясь к прозрачности и эффективности, они публикуют закупки на федеральных B2B-площадках, нередко создают свои собственные. Этот сегмент в России, безусловно, активно растет последние годы».
Традиционно сильную роль в России играет государство с инфраструктурой госзакупок в электронной форме, развиваются региональные «порталы поставщиков». Но при этом, по словам Алексея Красильникова, основная проблема заключается в том, что в нашей стране довольно низкая вовлеченность малого и среднего бизнеса в электронные торги. Для таких компаний в настоящее время не является очевидным, что можно значительно сэкономить, размещая закупки в электронной форме, и открыть дополнительные каналы продаж, используя B2B-площадки. «В большей степени это вопрос информирования, маркетинга, – поясняет Алексей Красильников. – В настоящее время ситуация начала меняться в лучшую сторону. К примеру, активную позицию заняла «Корпорация «МСП», продвигая B2B-сервисы среди сообщества малого и среднего бизнеса».
Неявные плюсы
Преимущества работы на электронных платформах очевидны. Они помогают быть в курсе цен на рынке, видеть большое количество предложений от поставщиков и могут обеспечить прозрачность сделки и стать третейским судьей. Но есть и дополнительные плюсы, совсем неявные. Например, электронные платформы стимулируют переход на электронный документооборот, чего в обычной жизни поставщики делать не торопятся.
«Data Science – вот то, что получает ритейл от работы на электронных платформах, – добавляет Алексей Лустин, директор по развитию компании «Серебряная пуля». – Смотрите: имея доступ к подобным площадкам, я получаю больший объем данных. Здесь происходит краудсорсинг накопления данных, на которых я могу построить математическую модель для собственного предприятия, которая позволит затем более точно планировать и прогнозировать различные сценарии».
Применение платформы неявно ведет и к перестройке процесса снабжения. «Хорошие платформы полезны на всех этапах: от осознания потребности до полного ее удовлетворения. Постепенно весь процесс становится цифровым, появляется много данных для анализа, принятия решений», – говорит Дмитрий Пангин.
При этом электронные торговые площадки часто прямо дают пользователям дополнительные сервисы для бизнеса. «Во-первых, это финансовые сервисы, которые представляют банки-партнеры площадок и финтехорганизации: онлайн-кредитование под сделку на электронной площадке, услуги факторинга, электронные банковские гарантии, – перечисляет Алексей Красильников. – Во-вторых, логистические сервисы. Логистические компании интегрируют свои системы в сервисы электронных площадок, и покупатели могут онлайн отследить доставку закупленных товаров. Продавец же может оперативно привлечь логистическую компанию на доставку по конкретной сделке».
Можно вспомнить страховые сервисы и продукты: страхование ответственности, имущественное страхование, комплексные страховые продукты, также различного рода аналитические сервисы, такие как проверка контрагентов, анализ рынка, подбор торговых процедур, тендерное сопровождение. «Перечислять можно долго, сервисов и плюсов для бизнеса очень много, но главное здесь то, что из-за роста конкуренции электронные площадки вынуждены постоянно генерировать новые сервисы и развивать текущие», – уверен Алексей Красильников.
Главный плюс, о котором следует сказать, это ясное видение всего, что происходит на рынке. «Это как человек, который всегда ходил по улицам с плохим зрением и вдруг надел очки, – сравнивает Антон Гусев, специалист по футуристической аналитике компании «Агро24». – До появления электронной бухгалтерии или удобной системы вызова такси казалось, что есть явные плюсы и неявные, но теперь становится понятно, что цифровизация – это просто новый уровень, единственно разумный, и все, что было до нее, всего лишь часть этой трансформации.
Недосолено
Возможно, отечественным B2B-платформам чего-то не хватает для того, чтобы «взлететь». Мы задали такой вопрос нашим экспертам. Андрей Путин полагает, что у крупных B2B-компаний есть технические проблемы, связанные с тем, что их бизнес-процессы достаточно сложны для интеграции с платформами. Дело не в платформах как таковых. Многие из упомянутых компаний просто не готовы к работе через электронные площадки сторонних провайдеров, а заинтересованы в работе лишь через собственные сервисы.
Не видит особых проблем в использовании электронных площадок и Дмитрий Пангин: «Сильно ничего не мешает. Просто требуется время: три–пять лет. Дело в том, что B2В консервативен, должны появиться истории успеха и заработать сарафанное радио, тогда все «полетит».
Рынок B2B-торговли стал оцифровываться сравнительно недавно. «Основной сложностью при создании электронных торговых площадок, на мой взгляд, является оценка того, каким должен быть конечный продукт, чтобы быть востребованным для пользователя, – размышляет Антон Гусев. – Пока не совсем понятно, хочет ли пользователь делать все самостоятельно или через личного менеджера, готов ли брать на себя финансовые риски, сколько готов вкладывать времени и ресурсов для развития цифровых каналов сбыта в своем бизнесе. Обобщая все это, можно сказать, что современным B2B-платформам для автоматизации торгово-закупочной деятельности мешает отсутствие глубокой поведенческой аналитики пользователей. Еще одна сложность – это отсутствие на рынке труда квалифицированных кадров, способных понимать, что именно и для чего они делают, потому что мы говорим о сложном ИТ-продукте, а не о палатке с шаурмой, где все процессы просчитаны и хорошо прогнозируемы».
Платформа с бантиком
Электронные платформы пытаются «исцелить» сразу несколько болевых точек ритейлера. С чем сталкивается ритейл? С тем, что поиск новых продуктов и поставщиков сложен, количество предложений большое, при этом инструменты продаж несовременны и отнимают много времени у той и другой стороны. О том, чтобы отследить цепочку поставок и происхождения продуктов, задумались не так давно, и пока это реализовано только на некоторых группах товаров. Электронные платформы обещают эти проблемы решить.
По утверждению исследовательской компании Forrester, современные B2B-клиенты предпочитают изучать и закупать товары самостоятельно на электронных платформах, а не общаться с менеджерами, хотя поставщики и пытаются принудить к такому общению, считая его неизменной частью процесса переговоров. Распространение электронных платформ для оптовых закупок меняет эту модель.
Площадки могут быть как государственные, так и коммерческие, при этом у последних большой потенциал развития. «Развитие рынка B2B-платформ в первую очередь идет «вширь», – рассуждает Дмитрий Пангин. – Если раньше ими пользовались госструктуры и крупные организации, то сейчас втягивается малый и микробизнес».
Коммерческие площадки организованы по-разному. Одни, по сути, представляют собой списки тендеров. Другие же похожи на большой интернет-магазин. Основной функционал включает в себя инструменты для поиска товаров и предложений, проведения электронных закупочных процедур (например, аукционов или конкурсов). К этому функционалу чаще всего прилагается множество дополнительных опций. «Для ритейлеров интересны решения, которые смогут закрыть сразу все потребности: сравнить цены, провести аукцион, распечатать договор, посмотреть историю сделок. Другое дело, что обеспечить все эти потребности на высоком уровне качества довольно проблематично, поэтому платформы, как правило, делают упор на какой-то одной функции и стараются завоевать свою аудиторию, а потом уже наращивают функционал, закрывая все остальные потребности», – говорит Антон Гусев.
Простые порталы на наших глазах трансформировались в B2B-платформы по закупкам, то есть в такое место, где максимально упрощается взаимодействие между ритейлом и поставщиками. Появляются не только специализированные площадки вроде платформы для оптовой торговли исключительно продуктами питания, но и платформы со специализированными алгоритмами, например, такие, которые ищут и сопоставляют запросы от ритейлеров с предложениями поставщиков.
Времена, когда любой мало-мальски опытный программист мог в одиночку или вместе с другом создать готовый продукт-агрегатор, постепенно уходят. Крупные игроки рынка сейчас вкладывают значительные ресурсы в развитие B2B-платформ, которые с каждым днем становятся все сложнее изнутри, при этом все проще и понятнее для пользователя. Сейчас недостаточно просто «вывалить» на платформу множество заявок и предложений и ждать, пока пользователь сам найдет то, что ему нужно. «Задача платформ сделать так, чтобы пользователь просто сделал запрос в систему и получил то, что искал, причем получил это быстро и с красным бантиком сверху. Именно эту задачу сейчас решают разработчики платформ, пока в основном на уровне отслеживания поведенческих факторов пользователей, анализа спроса, присвоения приоритетов в полуавтоматическом режиме, но первые шаги по внедрению машинного обучения уже делаются, и это наверняка станет одним из решающих факторов успеха продукта в ближайшие три-четыре года», – поясняет Антон Гусев.
«Перспективы машинного обучения есть во всех отраслях, но на данный момент B2B-порталы обладают меньшим количеством данных. Много условий закупок вне машинного контекста, что является некоторым барьером для таких порталов», – вносит свою долю скепсиса Андрей Путин.
Для того чтобы внедрять машинное обучение, нужно собрать большой объем данных о поведении и потребностях пользователей. «Пока у B2B-платформ не так много пользователей, но постепенно данные будут накапливаться. В будущем конкурентное преимущество будет на стороне тех сервисов, которые научатся эти данные использовать для предсказания спроса и создания персональных предложений, – прогнозирует Алексей Ширяев, генеральный директор сервиса закупок для бизнеса «На_полке». – Но пока мы видим, что в некоторых торговых точках нет даже современных средств связи, а товарный учет до сих пор ведется в тетрадках. Наша главная задача сегодня – вовлечь поставщиков и бизнес-покупателей в цифровую среду, дать им удобный сервис, а затем уже развивать продукт, ориентируясь на их потребности».

Помимо машинного обучения на площадках задействуют и другие технологии, связанные с искусственным интеллектом. А если вспомнить новость о том, что буквально в начале июня «Дикси» перевела взаимодействие со своими поставщиками на блокчейн-платформу, то можно предположить, что и блокчейн будет использован. «Блокчейн прекрасно подходит для фиксирования договоренностей (подписания документов, цикла выбора и тендера, претензионных споров), – говорит Андрей Путин. – Тут распределенная база данных с умными контрактами и четкой последовательностью транзакций (например, кто раньше подал заявку), безусловно имеет перспективы. Сложные договоры, оформленные в виде алгоритмов смарт-контракта, в какой-то мере смогут упростить жизнь части участников».
Вместе с этим есть и другой тренд: B2B-платформы постепенно превращаются в сервисы-службы-сервера, которые вообще не имеют пользовательского интерфейса, так как ориентированы на роботизацию процессов. «Применительно к блокчейн тут все еще интереснее, – рассказывает Алексей Лустин. – Идея иметь маркировку товара, которая покажет покупателю в рознице историю движения товара от производителя, накладывает на подобные сервисы требование реализовывать цепочку происхождения. То есть платформы будут вынуждены не только обеспечивать сервис по связи ритейла и поставщиков, они должны стать операторами, валидирующими правильность и согласованность маркировки. В этот контур неизбежно войдет (частично уже вошло) государство: ШУБАИС, ЕГАИС, другие -АИС реализуются не просто так».
С коллегами не согласен Дмитрий Пангин: «С точки зрения технологий можно однозначно сказать, что блокчейн в B2B умер, не родившись, а вот машинное обучение и искусственный интеллект, напротив, на взлете. Наша платформа фактически полностью выстроена на искусственном интеллекте». Как пояснил Дмитрий, ИИ осуществляет у них автоподбор тендеров, для которых у поставщика есть товары или услуги. Делает прогноз конкуренции и оценку вероятности победы в тендере. Площадка выясняет шансы поставщика победить в тендере или оказаться единственным участником. Проводит оценку снижения цены. Система на основе прогноза предложений конкурентов оценивает вероятность снижения цены, чтобы поставщик мог оценить целесообразность участия в конкретном тендере. Наконец, делается анализ поведения заказчика. Искусственный интеллект предупреждает поставщика о заказчиках, которые задерживают оплату по контракту или неохотно выстраивают отношения с новыми поставщиками.
Явное становится тайным
Многие платформы сейчас технологичны внутри, но снаружи очень просты и ничем не выдают своей принадлежности к корпоративному сектору. Они часто выглядят так же привлекательно, как обычные интернет-магазины, старающиеся завлечь своим дизайном покупателя. Казалось бы, это достижение. Но – нет. Что касается развития B2B-порталов России, то тут игроки на рынке уже сложились. В определенный момент крупные компании создали свои площадки для подключения поставщиков, а поставщики в свою очередь (из тех, кто мог себе позволить персонал менеджмента) организовали свой процесс участия на подобных площадках. Однако есть другой путь развития.
Сейчас часть крупных компаний вступила в открытую инициативу OpenAPI Initiative, в рамках которой пытаются вообще отказаться от порталов, объединяющих поставщиков и руководителей отделов закупок. Суть в следующем. У большинства оптовых компаний, которым требуется обеспечивать закупку, активно внедряются системы роботизированной поддержки управления закупками, в том числе с применением нейронных сетей. А у закупщиков в свою очередь есть автоматическая система закупок в периметре предприятия, у производителей также появляются автоматизированные системы управления продажами, и при этом имеется общее желание сократить складские остатки.
Что с этим делать? Рассказывает Алексей Лустин. «Примерно два-три года назад возник вопрос: а зачем нам вообще люди, публикующие тендерные заявки, и люди, публикующие тендерные предложения? Пусть эти вопросы решаются внутри автоматизированных систем. Давайте просто договоримся о способах коммуникации. Отсюда и возникли решения типа роботизированной интеграции, а именно формат коммуникации между системами (указанный выше OpenAPI Initiative) и формат внутренних обменов. Сейчас в этом направлении работают «СберТех» в части открытой платформы интеграции, «СКБ.Контур» в части реализации стандартов для учетных систем, ну и, конечно, внутренние ИТ-отделы лидеров рынка ритейла и рынка производства продуктов питания», – поясняет он.
По словам Алексея Лустина, на практике это выглядит так. В системе закупок происходит расчет потребности, после чего система сама обращается к системам поставщиков с просьбой «дать цену» и автоматически формирует заказы на поставку. Любопытно, что этим делом заинтересовалось государство, и не только в России, поэтому ведутся работы по созданию оператора интеграции под эгидой федерально-целевой программы. Формально это называется «децентрализованные закупки».
Что же не так с красивыми и простыми электронными платформами? «А вот давайте как раз посмотрим на сайт «Агро24», – предлагает Алексей Лустин. – Могу сказать, что у них огромные технические и технологические проблемы. Обратите внимание: у них только веб-интерфейс, то есть та самая портальная схема, ориентир на UX-дизайн и самое главное – использование стека PHP. Как я уже сказал, тренд сейчас на автоматизацию программным способом, зачем красивый интерфейс? А на PHP почти невозможно создавать высоконагруженные приложения в нормальные сроки… Я уже не говорю о том, что машинное обучение и блокчейн вообще реализуются на других языках программирования. Фактически «Агро24» и другие подобные платформы делают то, что на Западе уже давно сделали, после чего вообще начали по-другому смотреть на B2B-сервисы. Я не говорю, что такие портальные платформы вообще никому не нужны, нет. В России, скорее всего, это как раз будет актуально ближайшие несколько лет. Но в остальном мире площадки и платформы для интеграции так уже никто не делает».
Своя рубашка
Еще один вид площадок – это собственные платформы компании, где она проводит электронные закупки. Такие площадки еще называют «кэптивными». Но до недавнего времени их создавали единицы, и это были самые богатые корпорации. Может ли развитие ритейла все-таки привести к тому, что собственная электронная площадка у ритейлера станет обычным делом? Электронная торговая платформа – это хороший источник дохода для ее создателей (сервис-провайдеров), так как разработка сведена к минимуму, поддержкой занимается компания-разработчик, а товарами – поставщики и покупатели. При этом своя площадка проще интегрируется с ERP- и CRM-системами компании и дает шанс самостоятельно контролировать вопросы информационной безопасности. Возможно, крупным торговым сетям есть смысл самим открывать собственные электронные платформы и даже становиться отдельным проектом с ориентацией не только на собственные нужды, но и на стороннего, внешнего заказчика?
«Это очень тяжелый бизнес, – комментирует Дмитрий Пангин. – Привлечение и удержание B2B-клиентов обходится очень дорого. Каждый клиент хочет что-то свое, потребуется много доработок. В общем, этот бизнес – бег на длинную дистанцию».
«На наш взгляд, это разные бизнес-модели, и их совмещать сложно, – соглашается Андрей Путин. – Кроме того, будет недоверие к площадке со стороны других участников рынка. Такие компании могут быть только инвесторами стартапов».
Тенденция все же есть: ритейлеры создают собственные онлайн-площадки. Но для клиента удобнее совершать закупки на одной платформе, сравнивая предложения от разных поставщиков. В этом уверен Алексей Ширяев. «Кроме того, любая B2B-платформа нуждается в продвижении, маркетинговой стратегии, – говорит он. – Не каждый ритейлер это может обеспечить».
Мы видели несколько таких платформ, созданных ритейлерами (Х5, «Евросеть»). По словам Дмитрия Пангина, типичное количество поставщиков на таких платформах составляет около 10–15 тыс. В то время как для универсальной, некэптивной платформы хороший показатель – это 200–300 тыс. «Один заказчик не способен привлечь широкий круг поставщиков и широкий ассортимент, – полагает Дмитрий Пангин. – Такие платформы – это в основном игрушки для закупщиков и ИТ-подразделений крупных ритейлеров. Уверен, у них нет будущего».
Это только кажется, будто собственная платформа – хороший источник доходов. Кредитные, страховые, ритейл-брокеры и другие сервис-провайдеры как раз несут огромные затраты на разработку по мере роста платформ, так как объем передаваемых данных растет, и алгоритмы, которые были написаны для тысячи пользователей, на десяти тысячах уже не работают. Подробностями делится Алексей Лустин: «Все архитекторы подобных решений почти каждый год собираются на профильной конференции по высоким нагрузкам, где пытаются решить оптимизационные задачи. Вместе с этим крупные игроки давно уже сделали собственные тендерные площадки, хотя и не чураются регистрироваться на платформах, так как формально совсем не имеет значения, из какого канала придет заявка на поставку. Многие поставщики и многие производители и вовсе переходят на «бесплощадные» способы интеграции. Нет, мировой опыт подсказывает, что модель кэптивных площадок развиваться не будет».
Ритейлера, который решит открыть собственную электронную площадку, ждут те же сложности, которые преследуют всех сервис-провайдеров. Это борьба за производительность, безопасность, эргономику порталов. «Сложностей много, достаточно посмотреть на скорость работы площадки «Газпромнефти», – замечает Алексей Лустин. – Пусть это не ритейл в чистом виде, но пример показательный».
Выигрывают все
Электронные платформы – это место, где поставщик встречается с ритейлером. Кто же больше выигрывает от присутствия на подобной площадке? Логично предположить, что обе стороны. Поставщики получают дополнительный канал продаж и множество дополнительных бизнес-сервисов электронных площадок, но и ритейл получает значительную выгоду, пользуясь сервисами электронных платформ.
Прежде всего платформы – это прозрачность проведения электронной процедуры и экономия затрат за счет значительной конкуренции поставщиков на электронной площадке. Повышение качества закупаемых товаров и услуг за счет предварительной квалификации поставщика, скоринга и возможности отбора продукции по большому количеству критериев. «У многих площадок есть услуга подбора поставщиков на конкретный тендер, что дополнительно повышает конкуренцию. Крупные компании даже интегрируют свои внутренние информационные системы с электронными торговыми площадками, – говорит Алексей Красильников. – Что касается поставщиков, то я бы вообще настоятельно рекомендовал им зарегистрироваться на всех крупных B2B-площадках, подписаться на электронную рассылку о тендерах по интересующим их категориям и экспонировать свою продукцию. Трафик там достаточно большой, и они совершенно точно получат дополнительные лиды и сделки».
С платформами как раз та ситуация, когда все игроки рынка находятся в положении win-win. «Это достигается за счет сокращения пути продукта «от грядки до полки» и финансовой прозрачности, предлагаемых платформами, схем. Точно можно сказать, кто проигрывает: проигрывают недобросовестные посредники и люди, которые используют свое положение для того, чтобы решать, какой товар должен попасть на полку, а какой нет, исходя из личного интереса, а не интереса сети», – считает Антон Гусев.
А вот Дмитрий Пангин полагает, что чаще выигрывает крупный ритейл, потому что таких заказчиков мало, и они большие. Поставщики, конкурируя, находятся в менее выгодном положении. Впрочем, стоит ожидать, что по мере подключения большего количества предприятий торговли ситуация сбалансируется.
«На данный момент выигрывают ритейлеры, – соглашается Алексей Лустин, – потому что они были первыми, кому подобные площадки приносили пользу. Но поставщики сейчас пытаются изменить этот тренд, причем достаточно экстравагантным способом. В агросекторе, например, мы наблюдаем рождение розничных сетей для продажи своей продукции, минуя крупных розничных ритейлеров, как ответ на неудобство работы».
Но все-таки кто останется в выигрыше, зависит от конкретных платформ. «В тендерных платформах всегда выигрывает более сильный игрок, и ритейлеры уже сейчас умеют получать скидки от поставщиков, – объясняет Андрей Путин. – Для поставщиков электронные платформы – это упрощение доступа к потребителю. Поставщики выигрывают больше, но только в том случае, если платформа не становится монополистом. Вот вам пример из сектора B2C: Amazon берет треть чека себе, и в данном случае больше всего выигрывает платформа».
Именно поэтому важно правильно выбрать платформу. Мы перечислили разные виды площадок с самым разным функционалом, и теперь самое интересное – это выяснить, какие модели платформ наиболее интересны для продуктовых ритейлеров. Те, что предлагают такую опцию, как аукцион, те, что имеют встроенный модуль по управлению отношениями с поставщиками, или какие-то еще?
«Определяющей является не столько функциональность платформы, сколько наличие на ней большого числа контрагентов и предлагаемые условия, – полагает Дмитрий Пангин. – В этом вопросе бизнес ищет выгоду, а не удобство».
«Если без имен компаний, то, скажем так, три крупнейших продуктовых ритейлера в России сейчас смотрят в сторону B2B-сетей, «разумной цепочки поставок» и подобных решений в части пилотирования в рамках перехода на цифровизацию экономики. Остальное – это скорее не интересно, а необходимо для поддержания текущего состояния и процесса», – заключает Алексей Лустин.
Только вперед
Если под флагами электронных площадок объединяются корпорации разных стран (вспомним, что совсем недавно Alibaba Group подписала меморандум о сотрудничестве в области корпоративных закупок с электронной торговой площадкой Газпромбанка), если в платформах заинтересованы не только коммерческие, но и государственные структуры, то вполне можно ожидать, что за счет создания электронных платформ для поставщиков и ритейла Россия сможет выйти на международный рынок, сформировав дистрибуцию российских продуктов за рубеж.
Это уже происходит, на данный момент явно формируется потребность в эффективном товарообмене между странами, необходимы только инструменты, которые смогут сделать это возможным. «Этими инструментами и станут электронные платформы, – смотрит в будущее с оптимизмом Антон Гусев. – Главная сложность работы на международном рынке – это юридические взаимоотношения, которые должны быть урегулированы и введены в функционал платформ, учитывающие законодательство обеих сторон и коммерческую целесообразность таких взаимоотношений».
Но процесс простым не будет. «Наша продукция часто неконкурентоспособна, поставщиков и товаров мало, экспорт сложен и забюрократизирован, – говорит Дмитрий Пангин. – Бизнес все-таки первичен, если мало несырьевого экспорта, то масштабно платформы не помогут. Когда пойдет массовый рост экспорта, то и платформы включатся».
Алексей Лустин и тут уверен, что смена технологической парадигмы поможет. По его мнению, сейчас те, кто уловил тренд перехода на бессерверные платформы, активно выходят на китайский рынок. «Крупный российский ритейлер по торговле одеждой встроил свою систему электронной закупки в китайскую витрину WeChat. А это уже B2C-сегмент. Поведение следующее: когда клиент заказывает себе в розницу в чате одежду, система обеспечения закупок отправляет заявки поставщикам (объявляет автоматизированный тендер), после чего тот, кто выиграл по многим критериям, получает заказ на поставку (автоматизированно рассчитывается в том числе плечо поставки), а логистическая компания получает заказ на доставку. Участие человека здесь ограничено только модерированием указанной цепочки без вмешательства в процесс. А портальные площадки для закупок на Западе, да и на востоке уже никому не интересны».
[~DETAIL_TEXT] =>
Ритейлеры и поставщики все чаще общаются в интернет-пространстве. Сейчас можно все закупки перевести на электронные площадки и с их помощью увеличить скорость коммуникации, упростить анализ предложения и снизить коррупционные риски. Для этого розничные компании создают собственные платформы или же размещаются на независимых порталах. Рассмотрим, как эта система взаимодействия на рынке работает на данный момент и как будет развиваться в дальнейшем.

Успех маркетплейсов категории «бизнес-потребитель» несомненен. Электронная торговля не только трансформируется сама, делая из интернет-магазинов всеобъемлющую площадку, но и меняет экономику. Эта сфера настолько интересна, что в прошлом году наш президент счел нужным высказаться за создание российской платформы по электронной торговле и – шире – цифровой платформы будущего. «Те, кто будет обладать этими платформами, будут хозяевами мира», – цитировал Владимира Путина ТАСС. Так происходит не только у нас: в разных странах мира государственные структуры финансируют электронную торговлю.
B2С-платформы – это то, что на поверхности и заметно. Однако оптовики тоже хотят в онлайн – это устойчивый тренд последних лет. «Если обороты продаж физлицам в 2019 году составляли чуть более 1 трлн руб., то онлайн-B2B вместе с B2G превысил 30 трлн руб. Торговля осуществляется через электронные тендерные площадки. Другое дело, что об этом так широко не говорят, как о B2C», – отмечает Дмитрий Пангин, глава salestech-платформы OTC.ru.
При этом Россия, хотя и вошла в 2018 году в десятку крупнейших мировых рынков электронной коммерции, занимала в этом топе лишь девятое место, опередив только Бразилию. Если сравнивать Россию с Китаем, то цифры и вовсе несопоставимые: по данным компании Magneto IT Solutions, этот рынок у нас составил $20 млн, тогда как в Китае – $672 млн.
Отстает ли у нас B2B-сегмент от потребительского или нет – вопрос спорный. Если судить только по цифрам оборота, приведенным выше, то не отстает. Но у B2B-сегмента есть свои особенности. В отличие от B2C в B2B очень часто непростые процессы согласования цен, подтверждения товара, сложнее логика отгрузки. «К примеру, у одного нашего клиента, крупной строительной компании, стоимость продукции может зависеть от партии товара и от того, на какой именно строительный объект закупается товар», – говорит Андрей Путин, управляющий партнер компании kt.team.
Другой пример, который приводит Андрей Путин, демонстрирует сложную структуру закупок: часть товара будет произведена под клиента, часть отгружена со склада в Германии, а часть из логистического центра в России. В этот заказ должны быть включены дополнительные услуги, заказ должен отслеживаться в личном кабинете и быть безошибочным ввиду штрафных санкций, которыми сопровождаются большие поставки. Все это накладывает существенно более высокие требования к реализации электронных торговых платформ для бизнеса: множество бизнес-процессов должны быть автоматизированы с нуля и глубоко интегрированы в инфраструктуру клиента. На выходе – сложная разработка, дорогая стоимость внедрения, меньший объем заказов в количественном выражении, при этом требуется, чтобы вероятность ошибок была минимальной. Неудивительно, что автоматизация и самообслуживание отстают от B2C-сегмента.
Нельзя сказать, что ниша B2B-сегмента в электронной торговле пустует: на рынке есть электронные торговые площадки, которые работают и развиваются много лет, такие, например, как Фабрикант.ру, B2B-center. Появляется много новых игроков: Qoovee Market, который обещает объединить бизнес и континенты и утверждает, что познакомит с 22 тысячами поставщиков из 82 стран мира; «Агро24», которая называет себя не только первой платформой для торговли продуктами питания оптом, но и энциклопедией продовольственной торговли.
Таким образом, инфраструктурные возможности для онлайн B2B-торговли присутствуют. Об этом говорит Алексей Красильников, директор по развитию компании Effective Technologies: «У крупных корпораций, как правило, налажены закупочные процессы. Стремясь к прозрачности и эффективности, они публикуют закупки на федеральных B2B-площадках, нередко создают свои собственные. Этот сегмент в России, безусловно, активно растет последние годы».
Традиционно сильную роль в России играет государство с инфраструктурой госзакупок в электронной форме, развиваются региональные «порталы поставщиков». Но при этом, по словам Алексея Красильникова, основная проблема заключается в том, что в нашей стране довольно низкая вовлеченность малого и среднего бизнеса в электронные торги. Для таких компаний в настоящее время не является очевидным, что можно значительно сэкономить, размещая закупки в электронной форме, и открыть дополнительные каналы продаж, используя B2B-площадки. «В большей степени это вопрос информирования, маркетинга, – поясняет Алексей Красильников. – В настоящее время ситуация начала меняться в лучшую сторону. К примеру, активную позицию заняла «Корпорация «МСП», продвигая B2B-сервисы среди сообщества малого и среднего бизнеса».
Неявные плюсы
Преимущества работы на электронных платформах очевидны. Они помогают быть в курсе цен на рынке, видеть большое количество предложений от поставщиков и могут обеспечить прозрачность сделки и стать третейским судьей. Но есть и дополнительные плюсы, совсем неявные. Например, электронные платформы стимулируют переход на электронный документооборот, чего в обычной жизни поставщики делать не торопятся.
«Data Science – вот то, что получает ритейл от работы на электронных платформах, – добавляет Алексей Лустин, директор по развитию компании «Серебряная пуля». – Смотрите: имея доступ к подобным площадкам, я получаю больший объем данных. Здесь происходит краудсорсинг накопления данных, на которых я могу построить математическую модель для собственного предприятия, которая позволит затем более точно планировать и прогнозировать различные сценарии».
Применение платформы неявно ведет и к перестройке процесса снабжения. «Хорошие платформы полезны на всех этапах: от осознания потребности до полного ее удовлетворения. Постепенно весь процесс становится цифровым, появляется много данных для анализа, принятия решений», – говорит Дмитрий Пангин.
При этом электронные торговые площадки часто прямо дают пользователям дополнительные сервисы для бизнеса. «Во-первых, это финансовые сервисы, которые представляют банки-партнеры площадок и финтехорганизации: онлайн-кредитование под сделку на электронной площадке, услуги факторинга, электронные банковские гарантии, – перечисляет Алексей Красильников. – Во-вторых, логистические сервисы. Логистические компании интегрируют свои системы в сервисы электронных площадок, и покупатели могут онлайн отследить доставку закупленных товаров. Продавец же может оперативно привлечь логистическую компанию на доставку по конкретной сделке».
Можно вспомнить страховые сервисы и продукты: страхование ответственности, имущественное страхование, комплексные страховые продукты, также различного рода аналитические сервисы, такие как проверка контрагентов, анализ рынка, подбор торговых процедур, тендерное сопровождение. «Перечислять можно долго, сервисов и плюсов для бизнеса очень много, но главное здесь то, что из-за роста конкуренции электронные площадки вынуждены постоянно генерировать новые сервисы и развивать текущие», – уверен Алексей Красильников.
Главный плюс, о котором следует сказать, это ясное видение всего, что происходит на рынке. «Это как человек, который всегда ходил по улицам с плохим зрением и вдруг надел очки, – сравнивает Антон Гусев, специалист по футуристической аналитике компании «Агро24». – До появления электронной бухгалтерии или удобной системы вызова такси казалось, что есть явные плюсы и неявные, но теперь становится понятно, что цифровизация – это просто новый уровень, единственно разумный, и все, что было до нее, всего лишь часть этой трансформации.
Недосолено
Возможно, отечественным B2B-платформам чего-то не хватает для того, чтобы «взлететь». Мы задали такой вопрос нашим экспертам. Андрей Путин полагает, что у крупных B2B-компаний есть технические проблемы, связанные с тем, что их бизнес-процессы достаточно сложны для интеграции с платформами. Дело не в платформах как таковых. Многие из упомянутых компаний просто не готовы к работе через электронные площадки сторонних провайдеров, а заинтересованы в работе лишь через собственные сервисы.
Не видит особых проблем в использовании электронных площадок и Дмитрий Пангин: «Сильно ничего не мешает. Просто требуется время: три–пять лет. Дело в том, что B2В консервативен, должны появиться истории успеха и заработать сарафанное радио, тогда все «полетит».
Рынок B2B-торговли стал оцифровываться сравнительно недавно. «Основной сложностью при создании электронных торговых площадок, на мой взгляд, является оценка того, каким должен быть конечный продукт, чтобы быть востребованным для пользователя, – размышляет Антон Гусев. – Пока не совсем понятно, хочет ли пользователь делать все самостоятельно или через личного менеджера, готов ли брать на себя финансовые риски, сколько готов вкладывать времени и ресурсов для развития цифровых каналов сбыта в своем бизнесе. Обобщая все это, можно сказать, что современным B2B-платформам для автоматизации торгово-закупочной деятельности мешает отсутствие глубокой поведенческой аналитики пользователей. Еще одна сложность – это отсутствие на рынке труда квалифицированных кадров, способных понимать, что именно и для чего они делают, потому что мы говорим о сложном ИТ-продукте, а не о палатке с шаурмой, где все процессы просчитаны и хорошо прогнозируемы».
Платформа с бантиком
Электронные платформы пытаются «исцелить» сразу несколько болевых точек ритейлера. С чем сталкивается ритейл? С тем, что поиск новых продуктов и поставщиков сложен, количество предложений большое, при этом инструменты продаж несовременны и отнимают много времени у той и другой стороны. О том, чтобы отследить цепочку поставок и происхождения продуктов, задумались не так давно, и пока это реализовано только на некоторых группах товаров. Электронные платформы обещают эти проблемы решить.
По утверждению исследовательской компании Forrester, современные B2B-клиенты предпочитают изучать и закупать товары самостоятельно на электронных платформах, а не общаться с менеджерами, хотя поставщики и пытаются принудить к такому общению, считая его неизменной частью процесса переговоров. Распространение электронных платформ для оптовых закупок меняет эту модель.
Площадки могут быть как государственные, так и коммерческие, при этом у последних большой потенциал развития. «Развитие рынка B2B-платформ в первую очередь идет «вширь», – рассуждает Дмитрий Пангин. – Если раньше ими пользовались госструктуры и крупные организации, то сейчас втягивается малый и микробизнес».
Коммерческие площадки организованы по-разному. Одни, по сути, представляют собой списки тендеров. Другие же похожи на большой интернет-магазин. Основной функционал включает в себя инструменты для поиска товаров и предложений, проведения электронных закупочных процедур (например, аукционов или конкурсов). К этому функционалу чаще всего прилагается множество дополнительных опций. «Для ритейлеров интересны решения, которые смогут закрыть сразу все потребности: сравнить цены, провести аукцион, распечатать договор, посмотреть историю сделок. Другое дело, что обеспечить все эти потребности на высоком уровне качества довольно проблематично, поэтому платформы, как правило, делают упор на какой-то одной функции и стараются завоевать свою аудиторию, а потом уже наращивают функционал, закрывая все остальные потребности», – говорит Антон Гусев.
Простые порталы на наших глазах трансформировались в B2B-платформы по закупкам, то есть в такое место, где максимально упрощается взаимодействие между ритейлом и поставщиками. Появляются не только специализированные площадки вроде платформы для оптовой торговли исключительно продуктами питания, но и платформы со специализированными алгоритмами, например, такие, которые ищут и сопоставляют запросы от ритейлеров с предложениями поставщиков.
Времена, когда любой мало-мальски опытный программист мог в одиночку или вместе с другом создать готовый продукт-агрегатор, постепенно уходят. Крупные игроки рынка сейчас вкладывают значительные ресурсы в развитие B2B-платформ, которые с каждым днем становятся все сложнее изнутри, при этом все проще и понятнее для пользователя. Сейчас недостаточно просто «вывалить» на платформу множество заявок и предложений и ждать, пока пользователь сам найдет то, что ему нужно. «Задача платформ сделать так, чтобы пользователь просто сделал запрос в систему и получил то, что искал, причем получил это быстро и с красным бантиком сверху. Именно эту задачу сейчас решают разработчики платформ, пока в основном на уровне отслеживания поведенческих факторов пользователей, анализа спроса, присвоения приоритетов в полуавтоматическом режиме, но первые шаги по внедрению машинного обучения уже делаются, и это наверняка станет одним из решающих факторов успеха продукта в ближайшие три-четыре года», – поясняет Антон Гусев.
«Перспективы машинного обучения есть во всех отраслях, но на данный момент B2B-порталы обладают меньшим количеством данных. Много условий закупок вне машинного контекста, что является некоторым барьером для таких порталов», – вносит свою долю скепсиса Андрей Путин.
Для того чтобы внедрять машинное обучение, нужно собрать большой объем данных о поведении и потребностях пользователей. «Пока у B2B-платформ не так много пользователей, но постепенно данные будут накапливаться. В будущем конкурентное преимущество будет на стороне тех сервисов, которые научатся эти данные использовать для предсказания спроса и создания персональных предложений, – прогнозирует Алексей Ширяев, генеральный директор сервиса закупок для бизнеса «На_полке». – Но пока мы видим, что в некоторых торговых точках нет даже современных средств связи, а товарный учет до сих пор ведется в тетрадках. Наша главная задача сегодня – вовлечь поставщиков и бизнес-покупателей в цифровую среду, дать им удобный сервис, а затем уже развивать продукт, ориентируясь на их потребности».

Помимо машинного обучения на площадках задействуют и другие технологии, связанные с искусственным интеллектом. А если вспомнить новость о том, что буквально в начале июня «Дикси» перевела взаимодействие со своими поставщиками на блокчейн-платформу, то можно предположить, что и блокчейн будет использован. «Блокчейн прекрасно подходит для фиксирования договоренностей (подписания документов, цикла выбора и тендера, претензионных споров), – говорит Андрей Путин. – Тут распределенная база данных с умными контрактами и четкой последовательностью транзакций (например, кто раньше подал заявку), безусловно имеет перспективы. Сложные договоры, оформленные в виде алгоритмов смарт-контракта, в какой-то мере смогут упростить жизнь части участников».
Вместе с этим есть и другой тренд: B2B-платформы постепенно превращаются в сервисы-службы-сервера, которые вообще не имеют пользовательского интерфейса, так как ориентированы на роботизацию процессов. «Применительно к блокчейн тут все еще интереснее, – рассказывает Алексей Лустин. – Идея иметь маркировку товара, которая покажет покупателю в рознице историю движения товара от производителя, накладывает на подобные сервисы требование реализовывать цепочку происхождения. То есть платформы будут вынуждены не только обеспечивать сервис по связи ритейла и поставщиков, они должны стать операторами, валидирующими правильность и согласованность маркировки. В этот контур неизбежно войдет (частично уже вошло) государство: ШУБАИС, ЕГАИС, другие -АИС реализуются не просто так».
С коллегами не согласен Дмитрий Пангин: «С точки зрения технологий можно однозначно сказать, что блокчейн в B2B умер, не родившись, а вот машинное обучение и искусственный интеллект, напротив, на взлете. Наша платформа фактически полностью выстроена на искусственном интеллекте». Как пояснил Дмитрий, ИИ осуществляет у них автоподбор тендеров, для которых у поставщика есть товары или услуги. Делает прогноз конкуренции и оценку вероятности победы в тендере. Площадка выясняет шансы поставщика победить в тендере или оказаться единственным участником. Проводит оценку снижения цены. Система на основе прогноза предложений конкурентов оценивает вероятность снижения цены, чтобы поставщик мог оценить целесообразность участия в конкретном тендере. Наконец, делается анализ поведения заказчика. Искусственный интеллект предупреждает поставщика о заказчиках, которые задерживают оплату по контракту или неохотно выстраивают отношения с новыми поставщиками.
Явное становится тайным
Многие платформы сейчас технологичны внутри, но снаружи очень просты и ничем не выдают своей принадлежности к корпоративному сектору. Они часто выглядят так же привлекательно, как обычные интернет-магазины, старающиеся завлечь своим дизайном покупателя. Казалось бы, это достижение. Но – нет. Что касается развития B2B-порталов России, то тут игроки на рынке уже сложились. В определенный момент крупные компании создали свои площадки для подключения поставщиков, а поставщики в свою очередь (из тех, кто мог себе позволить персонал менеджмента) организовали свой процесс участия на подобных площадках. Однако есть другой путь развития.
Сейчас часть крупных компаний вступила в открытую инициативу OpenAPI Initiative, в рамках которой пытаются вообще отказаться от порталов, объединяющих поставщиков и руководителей отделов закупок. Суть в следующем. У большинства оптовых компаний, которым требуется обеспечивать закупку, активно внедряются системы роботизированной поддержки управления закупками, в том числе с применением нейронных сетей. А у закупщиков в свою очередь есть автоматическая система закупок в периметре предприятия, у производителей также появляются автоматизированные системы управления продажами, и при этом имеется общее желание сократить складские остатки.
Что с этим делать? Рассказывает Алексей Лустин. «Примерно два-три года назад возник вопрос: а зачем нам вообще люди, публикующие тендерные заявки, и люди, публикующие тендерные предложения? Пусть эти вопросы решаются внутри автоматизированных систем. Давайте просто договоримся о способах коммуникации. Отсюда и возникли решения типа роботизированной интеграции, а именно формат коммуникации между системами (указанный выше OpenAPI Initiative) и формат внутренних обменов. Сейчас в этом направлении работают «СберТех» в части открытой платформы интеграции, «СКБ.Контур» в части реализации стандартов для учетных систем, ну и, конечно, внутренние ИТ-отделы лидеров рынка ритейла и рынка производства продуктов питания», – поясняет он.
По словам Алексея Лустина, на практике это выглядит так. В системе закупок происходит расчет потребности, после чего система сама обращается к системам поставщиков с просьбой «дать цену» и автоматически формирует заказы на поставку. Любопытно, что этим делом заинтересовалось государство, и не только в России, поэтому ведутся работы по созданию оператора интеграции под эгидой федерально-целевой программы. Формально это называется «децентрализованные закупки».
Что же не так с красивыми и простыми электронными платформами? «А вот давайте как раз посмотрим на сайт «Агро24», – предлагает Алексей Лустин. – Могу сказать, что у них огромные технические и технологические проблемы. Обратите внимание: у них только веб-интерфейс, то есть та самая портальная схема, ориентир на UX-дизайн и самое главное – использование стека PHP. Как я уже сказал, тренд сейчас на автоматизацию программным способом, зачем красивый интерфейс? А на PHP почти невозможно создавать высоконагруженные приложения в нормальные сроки… Я уже не говорю о том, что машинное обучение и блокчейн вообще реализуются на других языках программирования. Фактически «Агро24» и другие подобные платформы делают то, что на Западе уже давно сделали, после чего вообще начали по-другому смотреть на B2B-сервисы. Я не говорю, что такие портальные платформы вообще никому не нужны, нет. В России, скорее всего, это как раз будет актуально ближайшие несколько лет. Но в остальном мире площадки и платформы для интеграции так уже никто не делает».
Своя рубашка
Еще один вид площадок – это собственные платформы компании, где она проводит электронные закупки. Такие площадки еще называют «кэптивными». Но до недавнего времени их создавали единицы, и это были самые богатые корпорации. Может ли развитие ритейла все-таки привести к тому, что собственная электронная площадка у ритейлера станет обычным делом? Электронная торговая платформа – это хороший источник дохода для ее создателей (сервис-провайдеров), так как разработка сведена к минимуму, поддержкой занимается компания-разработчик, а товарами – поставщики и покупатели. При этом своя площадка проще интегрируется с ERP- и CRM-системами компании и дает шанс самостоятельно контролировать вопросы информационной безопасности. Возможно, крупным торговым сетям есть смысл самим открывать собственные электронные платформы и даже становиться отдельным проектом с ориентацией не только на собственные нужды, но и на стороннего, внешнего заказчика?
«Это очень тяжелый бизнес, – комментирует Дмитрий Пангин. – Привлечение и удержание B2B-клиентов обходится очень дорого. Каждый клиент хочет что-то свое, потребуется много доработок. В общем, этот бизнес – бег на длинную дистанцию».
«На наш взгляд, это разные бизнес-модели, и их совмещать сложно, – соглашается Андрей Путин. – Кроме того, будет недоверие к площадке со стороны других участников рынка. Такие компании могут быть только инвесторами стартапов».
Тенденция все же есть: ритейлеры создают собственные онлайн-площадки. Но для клиента удобнее совершать закупки на одной платформе, сравнивая предложения от разных поставщиков. В этом уверен Алексей Ширяев. «Кроме того, любая B2B-платформа нуждается в продвижении, маркетинговой стратегии, – говорит он. – Не каждый ритейлер это может обеспечить».
Мы видели несколько таких платформ, созданных ритейлерами (Х5, «Евросеть»). По словам Дмитрия Пангина, типичное количество поставщиков на таких платформах составляет около 10–15 тыс. В то время как для универсальной, некэптивной платформы хороший показатель – это 200–300 тыс. «Один заказчик не способен привлечь широкий круг поставщиков и широкий ассортимент, – полагает Дмитрий Пангин. – Такие платформы – это в основном игрушки для закупщиков и ИТ-подразделений крупных ритейлеров. Уверен, у них нет будущего».
Это только кажется, будто собственная платформа – хороший источник доходов. Кредитные, страховые, ритейл-брокеры и другие сервис-провайдеры как раз несут огромные затраты на разработку по мере роста платформ, так как объем передаваемых данных растет, и алгоритмы, которые были написаны для тысячи пользователей, на десяти тысячах уже не работают. Подробностями делится Алексей Лустин: «Все архитекторы подобных решений почти каждый год собираются на профильной конференции по высоким нагрузкам, где пытаются решить оптимизационные задачи. Вместе с этим крупные игроки давно уже сделали собственные тендерные площадки, хотя и не чураются регистрироваться на платформах, так как формально совсем не имеет значения, из какого канала придет заявка на поставку. Многие поставщики и многие производители и вовсе переходят на «бесплощадные» способы интеграции. Нет, мировой опыт подсказывает, что модель кэптивных площадок развиваться не будет».
Ритейлера, который решит открыть собственную электронную площадку, ждут те же сложности, которые преследуют всех сервис-провайдеров. Это борьба за производительность, безопасность, эргономику порталов. «Сложностей много, достаточно посмотреть на скорость работы площадки «Газпромнефти», – замечает Алексей Лустин. – Пусть это не ритейл в чистом виде, но пример показательный».
Выигрывают все
Электронные платформы – это место, где поставщик встречается с ритейлером. Кто же больше выигрывает от присутствия на подобной площадке? Логично предположить, что обе стороны. Поставщики получают дополнительный канал продаж и множество дополнительных бизнес-сервисов электронных площадок, но и ритейл получает значительную выгоду, пользуясь сервисами электронных платформ.
Прежде всего платформы – это прозрачность проведения электронной процедуры и экономия затрат за счет значительной конкуренции поставщиков на электронной площадке. Повышение качества закупаемых товаров и услуг за счет предварительной квалификации поставщика, скоринга и возможности отбора продукции по большому количеству критериев. «У многих площадок есть услуга подбора поставщиков на конкретный тендер, что дополнительно повышает конкуренцию. Крупные компании даже интегрируют свои внутренние информационные системы с электронными торговыми площадками, – говорит Алексей Красильников. – Что касается поставщиков, то я бы вообще настоятельно рекомендовал им зарегистрироваться на всех крупных B2B-площадках, подписаться на электронную рассылку о тендерах по интересующим их категориям и экспонировать свою продукцию. Трафик там достаточно большой, и они совершенно точно получат дополнительные лиды и сделки».
С платформами как раз та ситуация, когда все игроки рынка находятся в положении win-win. «Это достигается за счет сокращения пути продукта «от грядки до полки» и финансовой прозрачности, предлагаемых платформами, схем. Точно можно сказать, кто проигрывает: проигрывают недобросовестные посредники и люди, которые используют свое положение для того, чтобы решать, какой товар должен попасть на полку, а какой нет, исходя из личного интереса, а не интереса сети», – считает Антон Гусев.
А вот Дмитрий Пангин полагает, что чаще выигрывает крупный ритейл, потому что таких заказчиков мало, и они большие. Поставщики, конкурируя, находятся в менее выгодном положении. Впрочем, стоит ожидать, что по мере подключения большего количества предприятий торговли ситуация сбалансируется.
«На данный момент выигрывают ритейлеры, – соглашается Алексей Лустин, – потому что они были первыми, кому подобные площадки приносили пользу. Но поставщики сейчас пытаются изменить этот тренд, причем достаточно экстравагантным способом. В агросекторе, например, мы наблюдаем рождение розничных сетей для продажи своей продукции, минуя крупных розничных ритейлеров, как ответ на неудобство работы».
Но все-таки кто останется в выигрыше, зависит от конкретных платформ. «В тендерных платформах всегда выигрывает более сильный игрок, и ритейлеры уже сейчас умеют получать скидки от поставщиков, – объясняет Андрей Путин. – Для поставщиков электронные платформы – это упрощение доступа к потребителю. Поставщики выигрывают больше, но только в том случае, если платформа не становится монополистом. Вот вам пример из сектора B2C: Amazon берет треть чека себе, и в данном случае больше всего выигрывает платформа».
Именно поэтому важно правильно выбрать платформу. Мы перечислили разные виды площадок с самым разным функционалом, и теперь самое интересное – это выяснить, какие модели платформ наиболее интересны для продуктовых ритейлеров. Те, что предлагают такую опцию, как аукцион, те, что имеют встроенный модуль по управлению отношениями с поставщиками, или какие-то еще?
«Определяющей является не столько функциональность платформы, сколько наличие на ней большого числа контрагентов и предлагаемые условия, – полагает Дмитрий Пангин. – В этом вопросе бизнес ищет выгоду, а не удобство».
«Если без имен компаний, то, скажем так, три крупнейших продуктовых ритейлера в России сейчас смотрят в сторону B2B-сетей, «разумной цепочки поставок» и подобных решений в части пилотирования в рамках перехода на цифровизацию экономики. Остальное – это скорее не интересно, а необходимо для поддержания текущего состояния и процесса», – заключает Алексей Лустин.
Только вперед
Если под флагами электронных площадок объединяются корпорации разных стран (вспомним, что совсем недавно Alibaba Group подписала меморандум о сотрудничестве в области корпоративных закупок с электронной торговой площадкой Газпромбанка), если в платформах заинтересованы не только коммерческие, но и государственные структуры, то вполне можно ожидать, что за счет создания электронных платформ для поставщиков и ритейла Россия сможет выйти на международный рынок, сформировав дистрибуцию российских продуктов за рубеж.
Это уже происходит, на данный момент явно формируется потребность в эффективном товарообмене между странами, необходимы только инструменты, которые смогут сделать это возможным. «Этими инструментами и станут электронные платформы, – смотрит в будущее с оптимизмом Антон Гусев. – Главная сложность работы на международном рынке – это юридические взаимоотношения, которые должны быть урегулированы и введены в функционал платформ, учитывающие законодательство обеих сторон и коммерческую целесообразность таких взаимоотношений».
Но процесс простым не будет. «Наша продукция часто неконкурентоспособна, поставщиков и товаров мало, экспорт сложен и забюрократизирован, – говорит Дмитрий Пангин. – Бизнес все-таки первичен, если мало несырьевого экспорта, то масштабно платформы не помогут. Когда пойдет массовый рост экспорта, то и платформы включатся».
Алексей Лустин и тут уверен, что смена технологической парадигмы поможет. По его мнению, сейчас те, кто уловил тренд перехода на бессерверные платформы, активно выходят на китайский рынок. «Крупный российский ритейлер по торговле одеждой встроил свою систему электронной закупки в китайскую витрину WeChat. А это уже B2C-сегмент. Поведение следующее: когда клиент заказывает себе в розницу в чате одежду, система обеспечения закупок отправляет заявки поставщикам (объявляет автоматизированный тендер), после чего тот, кто выиграл по многим критериям, получает заказ на поставку (автоматизированно рассчитывается в том числе плечо поставки), а логистическая компания получает заказ на доставку. Участие человека здесь ограничено только модерированием указанной цепочки без вмешательства в процесс. А портальные площадки для закупок на Западе, да и на востоке уже никому не интересны».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Сейчас можно все закупки перевести на электронные площадки и с их помощью увеличить скорость коммуникации, упростить анализ предложения и снизить коррупционные риски. Для этого розничные компании создают собственные платформы или же размещаются на независимых порталах.
[~PREVIEW_TEXT] => Сейчас можно все закупки перевести на электронные площадки и с их помощью увеличить скорость коммуникации, упростить анализ предложения и снизить коррупционные риски. Для этого розничные компании создают собственные платформы или же размещаются на независимых порталах. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 3843 [TIMESTAMP_X] => 16.09.2019 23:32:31 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 964 [WIDTH] => 1444 [FILE_SIZE] => 680437 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/c59 [FILE_NAME] => c59ab1ca7acf1f0b10b7a00de4258f6d.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_654465205.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => d689c2adf1b9a0036099a4d662ab3f90 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/c59/c59ab1ca7acf1f0b10b7a00de4258f6d.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/c59/c59ab1ca7acf1f0b10b7a00de4258f6d.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/c59/c59ab1ca7acf1f0b10b7a00de4258f6d.jpg [ALT] => Торговая площадь [TITLE] => Торговая площадь ) [~PREVIEW_PICTURE] => 3843 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => torgovaya-ploshchad [~CODE] => torgovaya-ploshchad [EXTERNAL_ID] => 5204 [~EXTERNAL_ID] => 5204 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 16.09.2019 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Торговая площадь [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Торговая площадь [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Сейчас можно все закупки перевести на электронные площадки и с их помощью увеличить скорость коммуникации, упростить анализ предложения и снизить коррупционные риски. Для этого розничные компании создают собственные платформы или же размещаются на независимых порталах. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Торговая площадь [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Торговая площадь | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [13] => Array ( [ID] => 5042 [~ID] => 5042 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Дело – табак [~NAME] => Дело – табак [ACTIVE_FROM_X] => 2019-06-26 13:33:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2019-06-26 13:33:00 [ACTIVE_FROM] => 26.06.2019 13:33:00 [~ACTIVE_FROM] => 26.06.2019 13:33:00 [TIMESTAMP_X] => 25.07.2019 15:04:57 [~TIMESTAMP_X] => 25.07.2019 15:04:57 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/delo-tabak/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/delo-tabak/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
К маркировке у нас начали привыкать: такого шума, какой вызвала первая волна нововведений, уже нет. Помогает и ощущение неотвратимости этого события, и тот факт, что похожие вещи вводятся не только у нас. Системы прослеживания некоторых групп товаров есть в США, Италии, Китае, Турции, Индии, Бразилии и других странах. И если в конце 2017 года единая система была только в планах, то теперь, когда маркируют все новые и новые группы товаров, становится ясно: проекту быть. Ближайшее внедрение, касающееся большинства ритейлеров, – маркировка табака.

Теперь не спрашивают, будут ли промаркированы все товары. Спрашивают: когда? «Знаковым должен стать 2024 год, когда запланировано введение маркировки всех социально значимых товаров, – рассказывает Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений компании «АТОЛ». – Уже сейчас пилотируется большое количество товарных групп: шины, парфюмерия, обувь, одежда, лекарства, табак, далее в планах минеральная вода, велосипеды, детское питание, кресла-коляски медицинского применения и многое другое». При этом Европу мы догнали и перегнали, во всяком случае по темпам: если маркировкой лекарств – всего одной товарной группой – во Франции пытаются заняться с 2011 года, при этом обязательное введение отложили на восемь лет, то у нас на пилот отводится около года, после чего следует приступать к маркировке в обязательном порядке.
В плюсах постоянно фигурирует борьба с контрафактом, при этом доля табака в незаконном обороте не кажется такой уж значительной: она составляет всего 8% (в третьем квартале 2018 года, по данным компании Nielsen), молочную продукцию и минеральную воду подделывают намного активнее. «Но давайте разделим: есть акцизные и есть обычные товары, – предлагает Алексей Шабанов, ведущий менеджер по продукции группы компаний «Пилот». – В случае первых контрафакт может привести к нежелательным проблемам, например, со здоровьем. И внедрение ЕГАИС в продуктовой рознице свело к нулю возможности покупки контрафакта через розничную сеть. А вот внедрение маркировки обуви, одежды несут неочевидные выгоды для бизнеса. Зато заметны сложности в плане увеличения расходов на производство, логистику и последующую реализацию. Например, многим ритейлерам может понадобиться создать новые или модернизировать существующие системы для работы с маркируемой продукцией».
В минусах именно это – расходы. Бизнес боится новых затрат, покупателей пугают ростом цен на маркированные группы товаров. Этот рост связывают с логичным желанием бизнесменов покрыть свои расходы за счет потребителей. При этом оператор национальной системы маркировки и прослеживания – компания ЦРПТ – заявляет, что розница не несет расходов, они ложатся только на производителя, который устанавливает оборудование для маркировки. При этом они ссылаются на данные партнеров. Так, по оценке компании «АТОЛ», суммарные расходы 95% ритейлеров не будут больше 5–7 тыс. руб., которые пойдут на приобретение 2D-сканера, если ранее он не использовался, и обновление программного обеспечения. По данным опроса «Левада-Центра», среди представителей торговли доля тех, кто уже сейчас использует 2D-сканеры, превышает 70%. В дальнейшем, как отмечают в ЦРПТ, технологии, разработанные сейчас для маркировки табака и обуви, можно будет применить ко всем товарным категориям. «Обновления могут потребовать только три компонента: касса, программное обеспечение и сканер. А в ряде случаев не возникнет необходимость даже в таких незначительных изменениях. Так, организации и предприниматели – пользователи фискальных регистраторов «АТОЛ», которые обновляли свои кассы в соответствии с повышением НДС до 20%, могут уже сейчас реализовывать маркированную продукцию без обновления ПО кассы», – поясняет Юлия Русинова.
«Глобальные проблемы, которые могли бы остановить работу торгового предприятия, нами не были зафиксированы, – подтверждает Дмитрий Болтунов, руководитель отдела сопровождения автоматизации розничной торговли компании «Первый Бит». – В основном это были локальные проблемы, связанные с обновлением ПО или онлайн-кассы, которые решались оперативно и не имели существенного влияния на работоспособность розничной точки. Более того, в большинстве случаев онлайн-кассы уже были готовы к работе с маркировкой, поскольку при переходе 1 января 2019 года на НДС 20% получили все необходимые изменения для фиксации выбытия из оборота табачной продукции. Товароучетное ПО тоже уже готово для работы с маркируемым табаком. К примеру, с помощью системы «1С:Розница» это можно было делать с ноября 2018 года».
Обновить программное обеспечение касс должны будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся плательщиками НДС. Однако к этому их обязывают изменения в ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ», связанные с переходом с 1 июля этого года с электронного способа расчета на безналичный, а не введение маркировки. «Стоимость апгрейда программного обеспечения, с которым работает кассир, зависит от ценовой политики производителя ПО, – углубляется в детали Юлия Русинова. – Владельцам некоторых касс, например, «АТОЛ SIGMA», за обновление программного обеспечения (даже при его необходимости) платить не придется, так как стоимость данной услуги включена в годовой тариф пользования продуктом».
«В целом розница на 90% готова к продаже маркируемого табака. О чем нужно точно побеспокоиться – это о том, чтобы заменить старый лазерный или светодиодный сканер на новый фотосканер, который способен считывать код Data Matrix», – замечает Дмитрий Болтунов. Как сообщила Юлия Русинова, изменения в работе со сканерами после введения обязательной маркировки табака также коснутся не всех. Согласно опросу «Левада-Центра», проведенному при поддержке «АТОЛ», 38% респондентов-представителей розницы уже используют 2D-сканеры. Например, бизнес, продающий алкоголь, как правило, продает и табачные изделия, следовательно, уже имеет 2D-сканер. В таком случае его необходимо только проверить и при необходимости настроить.
«Если говорить про расходы розницы, то они вырастут у неавтоматизированого бизнеса – у тех, кто работает без кассы и ведет учет в тетради, – заявляет Игорь Визгин, операционный директор компании «Дримкас». – У других представителей розничной торговли есть почти все необходимое. По закону с 2019 года практически у всех должна быть онлайн-касса. Если есть касса, то с большой вероятностью есть и УКЭП: электронная подпись нужна для постановки кассы на учет в налоговой и сдачи отчетности. Если есть касса, то, скорее всего, есть и договор с ОФД. Много вопросов приходит нам от предпринимателей, которые по закону не обязаны передавать данные о продажах в ОФД. В основном они работают в труднодоступной местности, без Интернета. Для них есть решение: они выгружают данные о продажах маркированных товаров на флешку и потом подают в систему маркировки. Мы участвовали в тестировании этого решения, для его работы остается только определить детали, например, как часто эта часть рынка должна передавать данные в систему».
Из сказанного можно сделать вывод, что основные траты по маркировке несут производители продукции, а не ритейл. Однако и тут есть нюансы. «Розница действительно не платит, например, за выпуск кодов маркировки, если продукция куплена у российских поставщиков и производителей. В случае с табаком это 100% ассортимента, – комментирует Илья Чертков, руководитель отдела сопровождения оборота алкоголя и маркированных товаров компании «Ашан Ритейл Россия». – Если же говорить о прочих группах товаров, то за коды маркировки платят также импортеры, и, если розничная сеть сама импортирует продукцию, то расходы по кодам маркировки несет уже именно она».
Полет нормальный
С 1 марта тесты закончены – началась работа. Подключение к системе маркировки табака стало обязательным независимо от размера ритейлера. Штрафов пока нет, можно осваиваться, но с 1 июля законодательно будет запрещено выпускать табачную продукцию без маркировки, а розничные точки будут обязаны передавать данные о продажах маркированного табака в ОФД. Распродавать остатки закон не запрещает, однако планируется сделать это до 1 июля 2020 года: регуляторы рынка ожидают, что к данному сроку все остатки будут распроданы, а если они все еще у вас – пеняйте на себя.
Время на пилотирование было, но и после введения обязательной маркировки бизнесу дают возможность освоиться: подход не пытаются изменить в одночасье. Возникали ли какие-то проблемы у розничных точек в ходе эксплуатации системы маркировки табака за время пилота и за тот месяц, когда система начала работать в обязательном порядке? Конечно же, сложнее всего первопроходцам пилотного этапа. «Участники пилота собирают все шишки, но также получают бонусы от технологических партнеров. Для «Дримкас» как производителя касс, ОФД и разработчика ПО такие клиенты особенно ценны: они позволяют улучшить пользовательский опыт для сотен тысяч других клиентов», – говорит Игорь Визгин.
Для всех остальных, по его словам, в конце пилотного этапа появляется готовая схема работы. Во время пилота сначала добавляют возможности, которые отвечают требованиям восьмидесяти процентов участников системы. Потом переходят к детальному рассмотрению исключительных ситуаций, чтобы закрыть требования оставшихся двадцати процентов. После этого система запускается на рынок, и только тогда стартует обязательный этап.
«С 1 марта 2019 года началась обязательная регистрация производителей и торговых точек в Национальной системе цифровой маркировки «Честный знак». За прошедший месяц у розничных точек возникла проблема: они не понимают, как это сделать, – замечает Игорь Визгин. – По закону нужно зарегистрироваться на сайте «Честного знака» с использованием усовершенствованной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Нас часто спрашивают, что такое «Честный знак» и УКЭП, как и где получить электронную подпись и как пройти регистрацию».
Честно говоря, звучит это немного странно: все это время компании-производители кассового оборудования, бизнес-сервисы, операторы фискальных данных и сам оператор маркировки в лице компании ЦРПТ постоянно занимались просвещением населения: проводили вебинары, устраивали бесплатные очные конференции с вопросами и ответами, причем не только в Москве.
Но есть нюанс
Но даже если ритейлер подкован теоретически, это не избавляет его от сложностей, возникающих на практике. «На начальном этапе эксперимента были проблемы со скоростью считывания кодов маркировки на определенных моделях сканеров на кассах и на определенных видах продукции, – рассказывает Илья Чертков. – Качество печати кодов маркировки на продукции на данный момент улучшилось, но, к сожалению, с некоторыми моделями сканеров ничего уже сделать нельзя, их необходимо менять». Такую ситуацию отметили и в «АТОЛ». По данным компании, по результатам пилотного этапа маркировки табачных изделий серьезных неустранимых недостатков системы выявлено не было. Но в начале пилота в точках розничной продажи возникали сложности с низкой скоростью или считыванием кода, потому что на пачках сигарет он изображен очень мелко. Чтобы решить эту проблему, производители сканирующего оборудования выпустили необходимые прошивки и дали рекомендации по настройке сканеров. «Еще одной проблемой стала прозрачная упаковка пачек сигарет: из-за нее коды не всегда хорошо читались, особенно когда они размещались на сгибах этой упаковки», – добавляет Алексей Шабанов.
Для того чтобы избежать подобных сложностей, необходимо тщательно подойти к выбору сканера штрихкода. «Мы рекомендуем выбирать оборудование только проверенных производителей – это значительно уменьшит количество отказов при сканировании. Экономия в пару тысяч рублей при покупке дешевого китайского сканера может обернуться большим количеством ошибок в процессе реализации табачных изделий. Следует также помнить, что проект по маркировке глобальный и в будущем будет масштабирован на другие группы товаров, поэтому лучше потратиться на сканер уже сейчас», – говорит Анатолий Каменский, генеральный директор компании «Баркод Маркет».
На пилотном этапе могла быть обнаружена и недостаточность функционала внутри системы. В свое время при внедрении ЕГАИС у предпринимателей возникало множество вопросов по поводу действий в конкретных ситуациях. А как обстоит дело с маркировкой табака? «ГИС «Маркировка» не работает со всеми возможными ситуациями, происходящими в торговой точке. Система отслеживает прием товара, продажу и отдельные складские и розничные процедуры, которых достаточно для работы огромной сети и небольшого магазина, – объясняет Игорь Визгин. – В отличие от ЕГАИС в системе маркировки табака после приема товара его можно свободно перемещать между магазинами. Система не требует регистров и отчетов о перемещении остатков. Если товар на складе оказывается с браком или теряется, магазин сообщает в систему маркировки о списании. Для списания могут быть разные причины: истечение срока годности, порча товара, хищение, брак. Их достаточно для разных ситуаций. Если товар вдруг съели крысы, это не требует новой причины выбытия из оборота «съедено крысами», это просто порча товара».
Мы спросили у ритейлера в лице «Ашана», реализован ли в информационной системе маркировки до конца функционал взаимодействия с ситуациями, происходящими в торговой точке. «Все возможные ситуации по работе функционала, которые возникают при обороте табачной продукции, описаны и реализованы в Информационной системе маркировки и оборота табачной продукции (ИС МОТП). Остается вопрос тестирования взаимодействия с данной системой по разным каналам (через веб-интерфейс, с помощью API-запросов и так далее)», – прокомментировал Илья Чертков.
Немного оптимизма
Можно переживать о минусах, а можно сфокусироваться на плюсах, которые дает маркировка. Конечно, наиболее оптимистично на систему смотрят разработчики. «Цифровая платформа ЦРПТ позволит государству как собирать информацию по всем игрокам рынка, так и предлагать технологичные системы, открывающие дополнительные возможности для развития бизнеса. Разработчики платформы говорят, что российский track & trace благодаря синергии с онлайн-кассами, базами ФНC и ФТС не будет иметь аналогов. Использование цифровых технологий позволяет эффективно бороться с теневой экономикой. Внедрение системы сплошной цифровой маркировки и прослеживания создает условия, при которых нахождение в «серой» зоне становится невыгодным для бизнеса. Эта система защищает легальный бизнес, помогает бороться с теневым рынком, позволяет государству существенно повысить собираемость налогов и, что особенно важно, защищает потребителя», – отмечает Ян Витров.
Как рассказали в ЦРПТ, на базе «Честного знака» к 2024 году будет создана единая национальная цифровая система сплошной маркировки и прослеживания товаров. Платформа «Честного знака» ЦРПТ сделает конечного потребителя товара ключевым участником цифровой системы, предоставляя ему возможность в режиме онлайн контролировать подлинность приобретаемой продукции и сообщать о выявленном нелегальном товаре, используя бесплатное приложение для мобильного телефона. Эта система построена на цифровой технологии, позволяющей максимально быстро и удобно подключать к ней другие товарные группы, адаптировать и «разворачивать» на другие проекты. На ее базе будет создана цифровая система экономики доверия, которая позволит повысить прозрачность рынков, вытеснив нелегальную продукцию. Легальный бизнес, совместно с которым ЦРПТ прорабатывает механизм внедрения в каждой товарной категории, при минимальных инвестициях и практически без вмешательства в операционные процессы получает значительный прорыв в цифровизации и, как следствие, снижение издержек, а также новую долю рынка и защиту своего бренда и репутации.
Помимо достаточно быстрых позитивных результатов (увеличение объемов качественной продукции и снижение количества контрафакта) маркировка имеет большой потенциал в долгосрочной перспективе. «Предполагается, что она повысит прозрачность рынка и защитит бизнес от нечестной конкуренции, будет способствовать росту доверия потребителей к бренду, а главное, поможет создавать новые цифровые продукты и сервисы, которые позволят бизнесу развиваться и улучшать качество жизни покупателей», – говорит Юлия Русинова.
По мнению многих автоматизаторов, именно маркировка может заставить бизнес «зашевелиться». «Маркировка товаров позволит оптимизировать товароучетную систему предприятия, наладить все процессы по приему, инвентаризации и отгрузке товаров, – уверен Дмитрий Болтунов. – Зачастую у торговых точек эти процессы не регламентированы из-за отсутствия товароучетного программного обеспечения. Но даже если ПО уже имеется на предприятии, то упомянутые процессы не используются или используются не на 100%». Далеко не все производители идут в ногу с прогрессом. Внедрение маркировки должно их подтолкнуть к применению новых технологий. «До сих пор многие небольшие предприятия и индивидуальные предприниматели, например, наносят штрихкод на свою продукцию, только если поставляют продукцию в крупные торговые сети или если этого требует законодательство. Если же нет, то весь учет ведется «на коленке», маркируются товары маркером от руки, – рассказывает Анатолий Каменский. – Введение общей маркировки должно дать толчок к повсеместному внедрению технологий учета. В перспективе это должно привести к снижению расходов предпринимателей».

Маркировка стимулирует более эффективное построение бизнес-процессов. Оптимизация процессов движения товара приводит и к сокращению издержек всех участников цепочки. «Основным инструментом такой оптимизации в маркировке выступает электронный документооборот между участниками товаропроводящей цепи. Уход от бумаги и связанного с ней хранения архивов, от принтеров и их обслуживания приводит к ускорению самого процесса движения документов», – говорит Максим Коробов, руководитель проекта по маркировке табачной продукции компании Taxcom. С ним согласна Юлия Русинова: «Электронный документооборот требует времени и усилий на его освоение. Однако последующее упрощение работы с документацией легко покрывает первоначальные издержки». Максим Коробов считает, что благодаря формализованным машиночитаемым данным в электронных документах и чеках у малого бизнеса появляется возможность получить точные данные о состоянии своих финансов и предприятия в целом. Это и информация по оборачиваемости товара, и прогнозы по продажам, следовательно, и по своим поставщикам. Кроме того, я уверен, что банки скоро начнут запрашивать данные из электронных документов и чеков для построения более точных скоринговых моделей, что в итоге позволит снизить кредитные ставки для ряда компаний».
Маркировка является стимулом для внедрения полноценной системы оперативного управленческого учета. «Практика показывает, что внедрение такой системы позволяет сократить издержки минимум на треть за счет оптимизации внутренних процессов в компании, – добавляет Дмитрий Болтунов. – В основном экономия происходит за счет фонда оплаты труда, когда, к примеру, вместо десяти человек инвентаризацию могут проводить всего трое и за гораздо меньший срок. Еще одна точка экономии лежит в области анализа товарооборота, который не позволяет закупать, производить заведомо залежалый товар или продукцию с низкой маржинальностью».
«Маркировка может инициировать внедрение новых технологий в бизнес-процессы, что актуально в первую очередь в средних и мелких компаниях, – считает Анатолий Каменский. – Например, использование групповой упаковки может существенно сократить время на прием и отгрузку продукции. В крупных компаниях, скорее всего, подобные процессы применялись и ранее».
Участники смогут сократить число звеньев цепи поставок, тогда цена закупки у конечного звена станет меньше. «В минимальной схеме у цепочки три звена: производитель, оптовик, розница. Но это только в теории, – поясняет Игорь Визгин. – В жизни цепочка включает одного производителя и одну розничную точку, а оптовиков – бесконечное количество. Система отслеживания цепочки товара на каждом шаге поможет выяснить, сколько оптовиков между началом и концом цепочки. Кроме того, информационная система позволит точнее понимать спрос и распределение товара по розничным точкам. Внедрение обязательной маркировки предполагает, что производитель получит информацию обо всех остатках произведенной им продукции на рынке».
Для крупного и среднего бизнеса с большой пропускной способностью маркировка дает возможность существенно экономить время обслуживания клиентов. «Это происходит за счет наличия в коде марки максимальной розничной цены (МРЦ). Раньше продавцу нужно было считать с упаковки штрихкод, перевернуть ее, посмотреть цену и вручную ее ввести. Теперь цена проставится автоматически», – поясняет Юлия Русинова.
Компания ЦРПТ ранее публиковала новость о том, что внесение максимальной розничной цены в состав цифрового кода Data Matrix позволяет увеличить скорость продажи пачки сигарет в два раза. В X5 Retail Group провели эксперимент: сравнили скорость продажи упаковки с линейным кодом и упаковки с цифровым кодом маркировки и данными о МРЦ. Когда на продукте размещен линейный код, кассир дополнительно проверяет цену и вносит информацию в систему вручную. Время на проход через кассу – 6,1 секунды. У цифрового кода это время составило 2,9 секунды. «Кроме повышения скорости, включение МРЦ в состав кода позволит избавиться от ошибок кассиров, которые могут приводить к штрафам. Сейчас случаев продажи сигарет по неправильной цене очень много. При введении маркировки их можно будет полностью избежать», – говорит Ян Витров, руководитель товарной группы «Табак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Ноша не тянет
Взаимодействие с новыми системами в попытках соответствовать букве закона может привести к повышению нагрузки на уже имеющиеся на предприятии информационные системы. Однако опыт «Ашана» показывает, что говорить об этом пока рано. «С учетом объемов информационных систем и решений увеличение нагрузки, связанной с внедрением маркировки табака, можно назвать очень низким. Но более детально и подробно можно будет сказать только через 1,5–2 года, – сообщает Илья Чертков. – На данный момент еще не вся продукция поступает маркированной, и лишь в 2020 году (с первого июля 2020 года) розничные магазины будут обязаны регистрировать не только вывод из оборота через кассовые системы и отправку данных ОФД, но и постановку продукции на баланс от поставщиков через ЭДО».
Пока нет особых нагрузок и у операторов. «Если мы говорим про ГИС «Маркировка», то система еще далека от пиковых нагрузок, – рассуждает Игорь Визгин. – Если же речь про обязательные для 54-ФЗ информационные системы, то по закону она одна – оператор фискальных данных (ОФД). «Дримкас» – тоже ОФД. Мы пока не заметили увеличения нагрузки, поскольку розничные точки обязаны передавать данные о продажах маркированного табака только с 1 июля 2019 года. Раньше ОФД передавал данные о продажах в ФНС, теперь еще отправляет информацию о проданном табаке в ГИС «Маркировка». Отдельные ОФД предлагают дополнительные функции, например отчеты о продажах для пользователя. Но обязанность ОФД – транслировать данные в ГИС «Маркировка», поэтому роль оператора в системе маркировки минимальна. Если говорить о существующих сервисах для розницы и опта, таких как кабинет «Дримкас», то в них добавляют функции для работы с маркировкой. Это не обязанность, а желание компаний сделать лучшее решение на этом рынке для своего сегмента. Такие сервисы готовы к нагрузке и заинтересованы в стабильной работе».
Единый каталог
Сейчас информация о товаре заносится во множество информационных систем. Создание единого каталога товаров должно устранить большинство таких систем. Именно это и планируется сделать в не столь отдаленном будущем. Параллельно с развитием системы маркировки и прослеживания Центр развития перспективных технологий занимается созданием национального каталога товаров – важной составляющей единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров. В ЦРПТ уточнили, что классификатор будет содержать достоверную, верифицированную информацию обо всех товарах, находящихся в обороте на российском рынке, а также впервые позволит собрать корректную статистику обо всех рынках. У каждого наименования продукции появятся свои уникальный код товара и цифровой паспорт, в котором в том числе будет храниться разрешительная документация в соответствии с требованиями российского законодательства.
ЦРПТ является исполнителем по наполнению каталога товаров, заказчики – пользователи платформы. В определении структуры и наполнении национального каталога уже принимают участие более 100 компаний, среди которых крупнейшие производители и ритейлеры. И хотя в России система прослеживания товаров внедряется быстрее, чем, скажем, в Европе, тем не менее кажется сомнительным, что все товары смогут промаркировать к 2024 году. Мы поинтересовались у экспертов, что имеют в виду, когда говорят о внедрении маркировки всех товаров к этой дате. Как сообщили в ЦРПТ, речь идет не только о товарах, по которым сейчас идут пилоты. Интерес к маркировке со стороны бизнеса огромен, и в компании получают запросы на проведение тестирования в различных отраслях – от чая и велосипедов до кабеля и оружия. В компании уверены, что успеть возможно: система была обкатана на первых группах товаров (обувь, лекарства и табак). Далее решение, которое первоначально создавалось как унифицированное, можно легко и быстро переносить практически на любые товарные группы. Напомним, что в ноябре 2018 в ЦРПТ перешла система маркировки лекарств, 1 июня 2019 года информационная система маркировки меховых изделий также перейдет в единую национальную систему маркировки и прослеживания. Распоряжением Правительства РФ № 791-р от 28 апреля 2018 года утвержден перечень первых 10 товарных групп, которые с 2019 года подлежат обязательной маркировке. Срок введения маркировки табачной продукции – 1 марта 2019 года, обуви и лекарств по программе высокозатратных нозологий – 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров – 1 декабря 2019 года, для всех лекарств – 1 января 2020 года. В опубликованном на днях распоряжении правительства о соглашении ГЧП к первой очереди внедрения маркировки отнесена и готовая молочная продукция. А также обозначены направления развития системы – новые товарные группы.
«Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уточнял, что к 2024 году маркировке будут подлежать все выпускаемые в оборот товары, – отмечает Алексей Шабанов. – Пилотные проекты идут не менее года, однако их проходит сразу много, причем не только в федеральном масштабе. Параллельно идут региональные проекты по маркировке, например, древесины в Иркутской области или икры в Астраханской области. Поскольку, судя по всему, маркировка товаров будет проводиться по одной схеме, со временем сложностей будет возникать меньше. Да и вполне возможно, что сроки всеобщей маркировки товаров в перспективе могут сдвинуться».
Как полагает Анатолий Каменский, сроки – вопрос сложный. «Сроки введения маркировки обуви перенесли. Сделали послабление для маркировки остатков, по сути позволив легализовать большую часть «серых» товаров. Многое зависит от скорости принятия законодательных актов правительством. В некоторых случаях у оператора системы возникают проблемы с поставкой оборудования для эмиссии кодов, и сроки также приходится переносить».
Союзники
Интересно, что к российскому проекту должны присоединиться и другие страны: участницы ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Два года назад представители коллегии ЕЭК заявляли, что для общего рынка подобное решение должно реализовываться во всех государствах союза синхронно, иначе оно будет неэффективно. Соглашение по маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ратифицированное всеми государствами – членами союза, вступило в законную силу в апреле этого года. Оно нацелено на снижение объемов теневой экономики, защиту потребителей и увеличение поступлений налогов в бюджеты благодаря эффективному контролю за оборотом товаров.
Как отмечают в ЦРПТ, система маркировки и прослеживания – это полноценный современный цифровой инструмент повышения прозрачности рынков. Создание единой цифровой платформы, интегрирующей национальные компоненты каждой из стран, позволит существенно нарастить темпы запуска систем идентификации в странах ЕАЭС и позволит применять общую консолидированную политику. Оно устанавливает порядок внедрения маркировки для того, чтобы в странах союза использовались единые форматы цифровых кодов, одинаково считываемые всеми участниками оборота и обеспечивающие свободное движения товаров внутри ЕАЭС. Соглашение позволит странам двигаться в одном направлении для достижения целей проекта – снижения объемов теневой экономики, гарантии безопасности граждан, развития легального бизнеса и применения общей консолидированной политики обмена информацией внутри ЕАЭС.
Как соответствовать требованиям по обязательной маркировке
• Приобрести усиленную квалифицированную электронную
подпись (УКЭП). Стоимость подписи начинается от 3000 руб. и действительна она в течение года. Новую подпись отдельно для маркировки делать не нужно, можно использовать ту, которая оформлялась ранее для регистрации онлайн-касс, сдачи отчетности или работе с ЕГАИС. В личном кабинете достаточно выбрать электронную подпись, нажать «Вход» и заполнить контактные данные.
• Зарегистрироваться в системе «Честный знак» с помощью УКЭП. Это бесплатно.
• Обновить кассовую программу. У некоторых производителей эта услуга платная. Есть производители, которых рамках договора обслуживания обновляют кассовую программу бесплатно. Независимо от того, внедряется ли система маркировки или нет, необходимо обновлять каждую программу, ведь любой программный продукт всегда совершенствуется.
• Обновить прошивку онлайн-кассы. Это услуга может быть платной или бесплатной. Все зависит от производителя. Ее стоимость начинается от 900 рублей. В целом обновлять прошивку необходимо для того, чтобы онлайн-касса всегда соответствовала закону.
• Подключиться к системе электронного документооборота с помощью УКЭП. Для розницы, которая будет в 99% случаев принимать универсальные передаточные документы, все входящие будут бесплатными. Если понадобится отправить какой-то документ, то нужно будет заплатить. В среднем такие тарифы стоят от 600 руб. в год.
• Поменять старый сканер на новый фотосканер. Код маркировки может считывать только двумерный сканер. Стоимость сканеров начинается от 2990 руб. Чтобы его правильно подобрать, необходимо посоветоваться со специалистами. Дело в том, что не все сканеры могут быстро и корректно считывать маленький по размерам код маркировки на пачке с табаком.
Законотворчество без остановки
Несмотря на то что обязательной система стала только 1 апреля, работа над процессами продолжается. Так, например, только 14 мая вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 года № 515 «О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров», где были установлены общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Например, были указаны правила формирования и нанесения средств идентификации, а также определен порядок создания и эксплуатации информационной системы мониторинга. Как сообщает «Парламентская газета», особенности маркировки конкретных товаров или групп товаров, а также внедрения информационной системы мониторинга для них будут утверждаться отдельными актами Правительства России.
[~DETAIL_TEXT] =>
К маркировке у нас начали привыкать: такого шума, какой вызвала первая волна нововведений, уже нет. Помогает и ощущение неотвратимости этого события, и тот факт, что похожие вещи вводятся не только у нас. Системы прослеживания некоторых групп товаров есть в США, Италии, Китае, Турции, Индии, Бразилии и других странах. И если в конце 2017 года единая система была только в планах, то теперь, когда маркируют все новые и новые группы товаров, становится ясно: проекту быть. Ближайшее внедрение, касающееся большинства ритейлеров, – маркировка табака.

Теперь не спрашивают, будут ли промаркированы все товары. Спрашивают: когда? «Знаковым должен стать 2024 год, когда запланировано введение маркировки всех социально значимых товаров, – рассказывает Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений компании «АТОЛ». – Уже сейчас пилотируется большое количество товарных групп: шины, парфюмерия, обувь, одежда, лекарства, табак, далее в планах минеральная вода, велосипеды, детское питание, кресла-коляски медицинского применения и многое другое». При этом Европу мы догнали и перегнали, во всяком случае по темпам: если маркировкой лекарств – всего одной товарной группой – во Франции пытаются заняться с 2011 года, при этом обязательное введение отложили на восемь лет, то у нас на пилот отводится около года, после чего следует приступать к маркировке в обязательном порядке.
В плюсах постоянно фигурирует борьба с контрафактом, при этом доля табака в незаконном обороте не кажется такой уж значительной: она составляет всего 8% (в третьем квартале 2018 года, по данным компании Nielsen), молочную продукцию и минеральную воду подделывают намного активнее. «Но давайте разделим: есть акцизные и есть обычные товары, – предлагает Алексей Шабанов, ведущий менеджер по продукции группы компаний «Пилот». – В случае первых контрафакт может привести к нежелательным проблемам, например, со здоровьем. И внедрение ЕГАИС в продуктовой рознице свело к нулю возможности покупки контрафакта через розничную сеть. А вот внедрение маркировки обуви, одежды несут неочевидные выгоды для бизнеса. Зато заметны сложности в плане увеличения расходов на производство, логистику и последующую реализацию. Например, многим ритейлерам может понадобиться создать новые или модернизировать существующие системы для работы с маркируемой продукцией».
В минусах именно это – расходы. Бизнес боится новых затрат, покупателей пугают ростом цен на маркированные группы товаров. Этот рост связывают с логичным желанием бизнесменов покрыть свои расходы за счет потребителей. При этом оператор национальной системы маркировки и прослеживания – компания ЦРПТ – заявляет, что розница не несет расходов, они ложатся только на производителя, который устанавливает оборудование для маркировки. При этом они ссылаются на данные партнеров. Так, по оценке компании «АТОЛ», суммарные расходы 95% ритейлеров не будут больше 5–7 тыс. руб., которые пойдут на приобретение 2D-сканера, если ранее он не использовался, и обновление программного обеспечения. По данным опроса «Левада-Центра», среди представителей торговли доля тех, кто уже сейчас использует 2D-сканеры, превышает 70%. В дальнейшем, как отмечают в ЦРПТ, технологии, разработанные сейчас для маркировки табака и обуви, можно будет применить ко всем товарным категориям. «Обновления могут потребовать только три компонента: касса, программное обеспечение и сканер. А в ряде случаев не возникнет необходимость даже в таких незначительных изменениях. Так, организации и предприниматели – пользователи фискальных регистраторов «АТОЛ», которые обновляли свои кассы в соответствии с повышением НДС до 20%, могут уже сейчас реализовывать маркированную продукцию без обновления ПО кассы», – поясняет Юлия Русинова.
«Глобальные проблемы, которые могли бы остановить работу торгового предприятия, нами не были зафиксированы, – подтверждает Дмитрий Болтунов, руководитель отдела сопровождения автоматизации розничной торговли компании «Первый Бит». – В основном это были локальные проблемы, связанные с обновлением ПО или онлайн-кассы, которые решались оперативно и не имели существенного влияния на работоспособность розничной точки. Более того, в большинстве случаев онлайн-кассы уже были готовы к работе с маркировкой, поскольку при переходе 1 января 2019 года на НДС 20% получили все необходимые изменения для фиксации выбытия из оборота табачной продукции. Товароучетное ПО тоже уже готово для работы с маркируемым табаком. К примеру, с помощью системы «1С:Розница» это можно было делать с ноября 2018 года».
Обновить программное обеспечение касс должны будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся плательщиками НДС. Однако к этому их обязывают изменения в ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ», связанные с переходом с 1 июля этого года с электронного способа расчета на безналичный, а не введение маркировки. «Стоимость апгрейда программного обеспечения, с которым работает кассир, зависит от ценовой политики производителя ПО, – углубляется в детали Юлия Русинова. – Владельцам некоторых касс, например, «АТОЛ SIGMA», за обновление программного обеспечения (даже при его необходимости) платить не придется, так как стоимость данной услуги включена в годовой тариф пользования продуктом».
«В целом розница на 90% готова к продаже маркируемого табака. О чем нужно точно побеспокоиться – это о том, чтобы заменить старый лазерный или светодиодный сканер на новый фотосканер, который способен считывать код Data Matrix», – замечает Дмитрий Болтунов. Как сообщила Юлия Русинова, изменения в работе со сканерами после введения обязательной маркировки табака также коснутся не всех. Согласно опросу «Левада-Центра», проведенному при поддержке «АТОЛ», 38% респондентов-представителей розницы уже используют 2D-сканеры. Например, бизнес, продающий алкоголь, как правило, продает и табачные изделия, следовательно, уже имеет 2D-сканер. В таком случае его необходимо только проверить и при необходимости настроить.
«Если говорить про расходы розницы, то они вырастут у неавтоматизированого бизнеса – у тех, кто работает без кассы и ведет учет в тетради, – заявляет Игорь Визгин, операционный директор компании «Дримкас». – У других представителей розничной торговли есть почти все необходимое. По закону с 2019 года практически у всех должна быть онлайн-касса. Если есть касса, то с большой вероятностью есть и УКЭП: электронная подпись нужна для постановки кассы на учет в налоговой и сдачи отчетности. Если есть касса, то, скорее всего, есть и договор с ОФД. Много вопросов приходит нам от предпринимателей, которые по закону не обязаны передавать данные о продажах в ОФД. В основном они работают в труднодоступной местности, без Интернета. Для них есть решение: они выгружают данные о продажах маркированных товаров на флешку и потом подают в систему маркировки. Мы участвовали в тестировании этого решения, для его работы остается только определить детали, например, как часто эта часть рынка должна передавать данные в систему».
Из сказанного можно сделать вывод, что основные траты по маркировке несут производители продукции, а не ритейл. Однако и тут есть нюансы. «Розница действительно не платит, например, за выпуск кодов маркировки, если продукция куплена у российских поставщиков и производителей. В случае с табаком это 100% ассортимента, – комментирует Илья Чертков, руководитель отдела сопровождения оборота алкоголя и маркированных товаров компании «Ашан Ритейл Россия». – Если же говорить о прочих группах товаров, то за коды маркировки платят также импортеры, и, если розничная сеть сама импортирует продукцию, то расходы по кодам маркировки несет уже именно она».
Полет нормальный
С 1 марта тесты закончены – началась работа. Подключение к системе маркировки табака стало обязательным независимо от размера ритейлера. Штрафов пока нет, можно осваиваться, но с 1 июля законодательно будет запрещено выпускать табачную продукцию без маркировки, а розничные точки будут обязаны передавать данные о продажах маркированного табака в ОФД. Распродавать остатки закон не запрещает, однако планируется сделать это до 1 июля 2020 года: регуляторы рынка ожидают, что к данному сроку все остатки будут распроданы, а если они все еще у вас – пеняйте на себя.
Время на пилотирование было, но и после введения обязательной маркировки бизнесу дают возможность освоиться: подход не пытаются изменить в одночасье. Возникали ли какие-то проблемы у розничных точек в ходе эксплуатации системы маркировки табака за время пилота и за тот месяц, когда система начала работать в обязательном порядке? Конечно же, сложнее всего первопроходцам пилотного этапа. «Участники пилота собирают все шишки, но также получают бонусы от технологических партнеров. Для «Дримкас» как производителя касс, ОФД и разработчика ПО такие клиенты особенно ценны: они позволяют улучшить пользовательский опыт для сотен тысяч других клиентов», – говорит Игорь Визгин.
Для всех остальных, по его словам, в конце пилотного этапа появляется готовая схема работы. Во время пилота сначала добавляют возможности, которые отвечают требованиям восьмидесяти процентов участников системы. Потом переходят к детальному рассмотрению исключительных ситуаций, чтобы закрыть требования оставшихся двадцати процентов. После этого система запускается на рынок, и только тогда стартует обязательный этап.
«С 1 марта 2019 года началась обязательная регистрация производителей и торговых точек в Национальной системе цифровой маркировки «Честный знак». За прошедший месяц у розничных точек возникла проблема: они не понимают, как это сделать, – замечает Игорь Визгин. – По закону нужно зарегистрироваться на сайте «Честного знака» с использованием усовершенствованной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Нас часто спрашивают, что такое «Честный знак» и УКЭП, как и где получить электронную подпись и как пройти регистрацию».
Честно говоря, звучит это немного странно: все это время компании-производители кассового оборудования, бизнес-сервисы, операторы фискальных данных и сам оператор маркировки в лице компании ЦРПТ постоянно занимались просвещением населения: проводили вебинары, устраивали бесплатные очные конференции с вопросами и ответами, причем не только в Москве.
Но есть нюанс
Но даже если ритейлер подкован теоретически, это не избавляет его от сложностей, возникающих на практике. «На начальном этапе эксперимента были проблемы со скоростью считывания кодов маркировки на определенных моделях сканеров на кассах и на определенных видах продукции, – рассказывает Илья Чертков. – Качество печати кодов маркировки на продукции на данный момент улучшилось, но, к сожалению, с некоторыми моделями сканеров ничего уже сделать нельзя, их необходимо менять». Такую ситуацию отметили и в «АТОЛ». По данным компании, по результатам пилотного этапа маркировки табачных изделий серьезных неустранимых недостатков системы выявлено не было. Но в начале пилота в точках розничной продажи возникали сложности с низкой скоростью или считыванием кода, потому что на пачках сигарет он изображен очень мелко. Чтобы решить эту проблему, производители сканирующего оборудования выпустили необходимые прошивки и дали рекомендации по настройке сканеров. «Еще одной проблемой стала прозрачная упаковка пачек сигарет: из-за нее коды не всегда хорошо читались, особенно когда они размещались на сгибах этой упаковки», – добавляет Алексей Шабанов.
Для того чтобы избежать подобных сложностей, необходимо тщательно подойти к выбору сканера штрихкода. «Мы рекомендуем выбирать оборудование только проверенных производителей – это значительно уменьшит количество отказов при сканировании. Экономия в пару тысяч рублей при покупке дешевого китайского сканера может обернуться большим количеством ошибок в процессе реализации табачных изделий. Следует также помнить, что проект по маркировке глобальный и в будущем будет масштабирован на другие группы товаров, поэтому лучше потратиться на сканер уже сейчас», – говорит Анатолий Каменский, генеральный директор компании «Баркод Маркет».
На пилотном этапе могла быть обнаружена и недостаточность функционала внутри системы. В свое время при внедрении ЕГАИС у предпринимателей возникало множество вопросов по поводу действий в конкретных ситуациях. А как обстоит дело с маркировкой табака? «ГИС «Маркировка» не работает со всеми возможными ситуациями, происходящими в торговой точке. Система отслеживает прием товара, продажу и отдельные складские и розничные процедуры, которых достаточно для работы огромной сети и небольшого магазина, – объясняет Игорь Визгин. – В отличие от ЕГАИС в системе маркировки табака после приема товара его можно свободно перемещать между магазинами. Система не требует регистров и отчетов о перемещении остатков. Если товар на складе оказывается с браком или теряется, магазин сообщает в систему маркировки о списании. Для списания могут быть разные причины: истечение срока годности, порча товара, хищение, брак. Их достаточно для разных ситуаций. Если товар вдруг съели крысы, это не требует новой причины выбытия из оборота «съедено крысами», это просто порча товара».
Мы спросили у ритейлера в лице «Ашана», реализован ли в информационной системе маркировки до конца функционал взаимодействия с ситуациями, происходящими в торговой точке. «Все возможные ситуации по работе функционала, которые возникают при обороте табачной продукции, описаны и реализованы в Информационной системе маркировки и оборота табачной продукции (ИС МОТП). Остается вопрос тестирования взаимодействия с данной системой по разным каналам (через веб-интерфейс, с помощью API-запросов и так далее)», – прокомментировал Илья Чертков.
Немного оптимизма
Можно переживать о минусах, а можно сфокусироваться на плюсах, которые дает маркировка. Конечно, наиболее оптимистично на систему смотрят разработчики. «Цифровая платформа ЦРПТ позволит государству как собирать информацию по всем игрокам рынка, так и предлагать технологичные системы, открывающие дополнительные возможности для развития бизнеса. Разработчики платформы говорят, что российский track & trace благодаря синергии с онлайн-кассами, базами ФНC и ФТС не будет иметь аналогов. Использование цифровых технологий позволяет эффективно бороться с теневой экономикой. Внедрение системы сплошной цифровой маркировки и прослеживания создает условия, при которых нахождение в «серой» зоне становится невыгодным для бизнеса. Эта система защищает легальный бизнес, помогает бороться с теневым рынком, позволяет государству существенно повысить собираемость налогов и, что особенно важно, защищает потребителя», – отмечает Ян Витров.
Как рассказали в ЦРПТ, на базе «Честного знака» к 2024 году будет создана единая национальная цифровая система сплошной маркировки и прослеживания товаров. Платформа «Честного знака» ЦРПТ сделает конечного потребителя товара ключевым участником цифровой системы, предоставляя ему возможность в режиме онлайн контролировать подлинность приобретаемой продукции и сообщать о выявленном нелегальном товаре, используя бесплатное приложение для мобильного телефона. Эта система построена на цифровой технологии, позволяющей максимально быстро и удобно подключать к ней другие товарные группы, адаптировать и «разворачивать» на другие проекты. На ее базе будет создана цифровая система экономики доверия, которая позволит повысить прозрачность рынков, вытеснив нелегальную продукцию. Легальный бизнес, совместно с которым ЦРПТ прорабатывает механизм внедрения в каждой товарной категории, при минимальных инвестициях и практически без вмешательства в операционные процессы получает значительный прорыв в цифровизации и, как следствие, снижение издержек, а также новую долю рынка и защиту своего бренда и репутации.
Помимо достаточно быстрых позитивных результатов (увеличение объемов качественной продукции и снижение количества контрафакта) маркировка имеет большой потенциал в долгосрочной перспективе. «Предполагается, что она повысит прозрачность рынка и защитит бизнес от нечестной конкуренции, будет способствовать росту доверия потребителей к бренду, а главное, поможет создавать новые цифровые продукты и сервисы, которые позволят бизнесу развиваться и улучшать качество жизни покупателей», – говорит Юлия Русинова.
По мнению многих автоматизаторов, именно маркировка может заставить бизнес «зашевелиться». «Маркировка товаров позволит оптимизировать товароучетную систему предприятия, наладить все процессы по приему, инвентаризации и отгрузке товаров, – уверен Дмитрий Болтунов. – Зачастую у торговых точек эти процессы не регламентированы из-за отсутствия товароучетного программного обеспечения. Но даже если ПО уже имеется на предприятии, то упомянутые процессы не используются или используются не на 100%». Далеко не все производители идут в ногу с прогрессом. Внедрение маркировки должно их подтолкнуть к применению новых технологий. «До сих пор многие небольшие предприятия и индивидуальные предприниматели, например, наносят штрихкод на свою продукцию, только если поставляют продукцию в крупные торговые сети или если этого требует законодательство. Если же нет, то весь учет ведется «на коленке», маркируются товары маркером от руки, – рассказывает Анатолий Каменский. – Введение общей маркировки должно дать толчок к повсеместному внедрению технологий учета. В перспективе это должно привести к снижению расходов предпринимателей».

Маркировка стимулирует более эффективное построение бизнес-процессов. Оптимизация процессов движения товара приводит и к сокращению издержек всех участников цепочки. «Основным инструментом такой оптимизации в маркировке выступает электронный документооборот между участниками товаропроводящей цепи. Уход от бумаги и связанного с ней хранения архивов, от принтеров и их обслуживания приводит к ускорению самого процесса движения документов», – говорит Максим Коробов, руководитель проекта по маркировке табачной продукции компании Taxcom. С ним согласна Юлия Русинова: «Электронный документооборот требует времени и усилий на его освоение. Однако последующее упрощение работы с документацией легко покрывает первоначальные издержки». Максим Коробов считает, что благодаря формализованным машиночитаемым данным в электронных документах и чеках у малого бизнеса появляется возможность получить точные данные о состоянии своих финансов и предприятия в целом. Это и информация по оборачиваемости товара, и прогнозы по продажам, следовательно, и по своим поставщикам. Кроме того, я уверен, что банки скоро начнут запрашивать данные из электронных документов и чеков для построения более точных скоринговых моделей, что в итоге позволит снизить кредитные ставки для ряда компаний».
Маркировка является стимулом для внедрения полноценной системы оперативного управленческого учета. «Практика показывает, что внедрение такой системы позволяет сократить издержки минимум на треть за счет оптимизации внутренних процессов в компании, – добавляет Дмитрий Болтунов. – В основном экономия происходит за счет фонда оплаты труда, когда, к примеру, вместо десяти человек инвентаризацию могут проводить всего трое и за гораздо меньший срок. Еще одна точка экономии лежит в области анализа товарооборота, который не позволяет закупать, производить заведомо залежалый товар или продукцию с низкой маржинальностью».
«Маркировка может инициировать внедрение новых технологий в бизнес-процессы, что актуально в первую очередь в средних и мелких компаниях, – считает Анатолий Каменский. – Например, использование групповой упаковки может существенно сократить время на прием и отгрузку продукции. В крупных компаниях, скорее всего, подобные процессы применялись и ранее».
Участники смогут сократить число звеньев цепи поставок, тогда цена закупки у конечного звена станет меньше. «В минимальной схеме у цепочки три звена: производитель, оптовик, розница. Но это только в теории, – поясняет Игорь Визгин. – В жизни цепочка включает одного производителя и одну розничную точку, а оптовиков – бесконечное количество. Система отслеживания цепочки товара на каждом шаге поможет выяснить, сколько оптовиков между началом и концом цепочки. Кроме того, информационная система позволит точнее понимать спрос и распределение товара по розничным точкам. Внедрение обязательной маркировки предполагает, что производитель получит информацию обо всех остатках произведенной им продукции на рынке».
Для крупного и среднего бизнеса с большой пропускной способностью маркировка дает возможность существенно экономить время обслуживания клиентов. «Это происходит за счет наличия в коде марки максимальной розничной цены (МРЦ). Раньше продавцу нужно было считать с упаковки штрихкод, перевернуть ее, посмотреть цену и вручную ее ввести. Теперь цена проставится автоматически», – поясняет Юлия Русинова.
Компания ЦРПТ ранее публиковала новость о том, что внесение максимальной розничной цены в состав цифрового кода Data Matrix позволяет увеличить скорость продажи пачки сигарет в два раза. В X5 Retail Group провели эксперимент: сравнили скорость продажи упаковки с линейным кодом и упаковки с цифровым кодом маркировки и данными о МРЦ. Когда на продукте размещен линейный код, кассир дополнительно проверяет цену и вносит информацию в систему вручную. Время на проход через кассу – 6,1 секунды. У цифрового кода это время составило 2,9 секунды. «Кроме повышения скорости, включение МРЦ в состав кода позволит избавиться от ошибок кассиров, которые могут приводить к штрафам. Сейчас случаев продажи сигарет по неправильной цене очень много. При введении маркировки их можно будет полностью избежать», – говорит Ян Витров, руководитель товарной группы «Табак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Ноша не тянет
Взаимодействие с новыми системами в попытках соответствовать букве закона может привести к повышению нагрузки на уже имеющиеся на предприятии информационные системы. Однако опыт «Ашана» показывает, что говорить об этом пока рано. «С учетом объемов информационных систем и решений увеличение нагрузки, связанной с внедрением маркировки табака, можно назвать очень низким. Но более детально и подробно можно будет сказать только через 1,5–2 года, – сообщает Илья Чертков. – На данный момент еще не вся продукция поступает маркированной, и лишь в 2020 году (с первого июля 2020 года) розничные магазины будут обязаны регистрировать не только вывод из оборота через кассовые системы и отправку данных ОФД, но и постановку продукции на баланс от поставщиков через ЭДО».
Пока нет особых нагрузок и у операторов. «Если мы говорим про ГИС «Маркировка», то система еще далека от пиковых нагрузок, – рассуждает Игорь Визгин. – Если же речь про обязательные для 54-ФЗ информационные системы, то по закону она одна – оператор фискальных данных (ОФД). «Дримкас» – тоже ОФД. Мы пока не заметили увеличения нагрузки, поскольку розничные точки обязаны передавать данные о продажах маркированного табака только с 1 июля 2019 года. Раньше ОФД передавал данные о продажах в ФНС, теперь еще отправляет информацию о проданном табаке в ГИС «Маркировка». Отдельные ОФД предлагают дополнительные функции, например отчеты о продажах для пользователя. Но обязанность ОФД – транслировать данные в ГИС «Маркировка», поэтому роль оператора в системе маркировки минимальна. Если говорить о существующих сервисах для розницы и опта, таких как кабинет «Дримкас», то в них добавляют функции для работы с маркировкой. Это не обязанность, а желание компаний сделать лучшее решение на этом рынке для своего сегмента. Такие сервисы готовы к нагрузке и заинтересованы в стабильной работе».
Единый каталог
Сейчас информация о товаре заносится во множество информационных систем. Создание единого каталога товаров должно устранить большинство таких систем. Именно это и планируется сделать в не столь отдаленном будущем. Параллельно с развитием системы маркировки и прослеживания Центр развития перспективных технологий занимается созданием национального каталога товаров – важной составляющей единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров. В ЦРПТ уточнили, что классификатор будет содержать достоверную, верифицированную информацию обо всех товарах, находящихся в обороте на российском рынке, а также впервые позволит собрать корректную статистику обо всех рынках. У каждого наименования продукции появятся свои уникальный код товара и цифровой паспорт, в котором в том числе будет храниться разрешительная документация в соответствии с требованиями российского законодательства.
ЦРПТ является исполнителем по наполнению каталога товаров, заказчики – пользователи платформы. В определении структуры и наполнении национального каталога уже принимают участие более 100 компаний, среди которых крупнейшие производители и ритейлеры. И хотя в России система прослеживания товаров внедряется быстрее, чем, скажем, в Европе, тем не менее кажется сомнительным, что все товары смогут промаркировать к 2024 году. Мы поинтересовались у экспертов, что имеют в виду, когда говорят о внедрении маркировки всех товаров к этой дате. Как сообщили в ЦРПТ, речь идет не только о товарах, по которым сейчас идут пилоты. Интерес к маркировке со стороны бизнеса огромен, и в компании получают запросы на проведение тестирования в различных отраслях – от чая и велосипедов до кабеля и оружия. В компании уверены, что успеть возможно: система была обкатана на первых группах товаров (обувь, лекарства и табак). Далее решение, которое первоначально создавалось как унифицированное, можно легко и быстро переносить практически на любые товарные группы. Напомним, что в ноябре 2018 в ЦРПТ перешла система маркировки лекарств, 1 июня 2019 года информационная система маркировки меховых изделий также перейдет в единую национальную систему маркировки и прослеживания. Распоряжением Правительства РФ № 791-р от 28 апреля 2018 года утвержден перечень первых 10 товарных групп, которые с 2019 года подлежат обязательной маркировке. Срок введения маркировки табачной продукции – 1 марта 2019 года, обуви и лекарств по программе высокозатратных нозологий – 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров – 1 декабря 2019 года, для всех лекарств – 1 января 2020 года. В опубликованном на днях распоряжении правительства о соглашении ГЧП к первой очереди внедрения маркировки отнесена и готовая молочная продукция. А также обозначены направления развития системы – новые товарные группы.
«Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уточнял, что к 2024 году маркировке будут подлежать все выпускаемые в оборот товары, – отмечает Алексей Шабанов. – Пилотные проекты идут не менее года, однако их проходит сразу много, причем не только в федеральном масштабе. Параллельно идут региональные проекты по маркировке, например, древесины в Иркутской области или икры в Астраханской области. Поскольку, судя по всему, маркировка товаров будет проводиться по одной схеме, со временем сложностей будет возникать меньше. Да и вполне возможно, что сроки всеобщей маркировки товаров в перспективе могут сдвинуться».
Как полагает Анатолий Каменский, сроки – вопрос сложный. «Сроки введения маркировки обуви перенесли. Сделали послабление для маркировки остатков, по сути позволив легализовать большую часть «серых» товаров. Многое зависит от скорости принятия законодательных актов правительством. В некоторых случаях у оператора системы возникают проблемы с поставкой оборудования для эмиссии кодов, и сроки также приходится переносить».
Союзники
Интересно, что к российскому проекту должны присоединиться и другие страны: участницы ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Два года назад представители коллегии ЕЭК заявляли, что для общего рынка подобное решение должно реализовываться во всех государствах союза синхронно, иначе оно будет неэффективно. Соглашение по маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ратифицированное всеми государствами – членами союза, вступило в законную силу в апреле этого года. Оно нацелено на снижение объемов теневой экономики, защиту потребителей и увеличение поступлений налогов в бюджеты благодаря эффективному контролю за оборотом товаров.
Как отмечают в ЦРПТ, система маркировки и прослеживания – это полноценный современный цифровой инструмент повышения прозрачности рынков. Создание единой цифровой платформы, интегрирующей национальные компоненты каждой из стран, позволит существенно нарастить темпы запуска систем идентификации в странах ЕАЭС и позволит применять общую консолидированную политику. Оно устанавливает порядок внедрения маркировки для того, чтобы в странах союза использовались единые форматы цифровых кодов, одинаково считываемые всеми участниками оборота и обеспечивающие свободное движения товаров внутри ЕАЭС. Соглашение позволит странам двигаться в одном направлении для достижения целей проекта – снижения объемов теневой экономики, гарантии безопасности граждан, развития легального бизнеса и применения общей консолидированной политики обмена информацией внутри ЕАЭС.
Как соответствовать требованиям по обязательной маркировке
• Приобрести усиленную квалифицированную электронную
подпись (УКЭП). Стоимость подписи начинается от 3000 руб. и действительна она в течение года. Новую подпись отдельно для маркировки делать не нужно, можно использовать ту, которая оформлялась ранее для регистрации онлайн-касс, сдачи отчетности или работе с ЕГАИС. В личном кабинете достаточно выбрать электронную подпись, нажать «Вход» и заполнить контактные данные.
• Зарегистрироваться в системе «Честный знак» с помощью УКЭП. Это бесплатно.
• Обновить кассовую программу. У некоторых производителей эта услуга платная. Есть производители, которых рамках договора обслуживания обновляют кассовую программу бесплатно. Независимо от того, внедряется ли система маркировки или нет, необходимо обновлять каждую программу, ведь любой программный продукт всегда совершенствуется.
• Обновить прошивку онлайн-кассы. Это услуга может быть платной или бесплатной. Все зависит от производителя. Ее стоимость начинается от 900 рублей. В целом обновлять прошивку необходимо для того, чтобы онлайн-касса всегда соответствовала закону.
• Подключиться к системе электронного документооборота с помощью УКЭП. Для розницы, которая будет в 99% случаев принимать универсальные передаточные документы, все входящие будут бесплатными. Если понадобится отправить какой-то документ, то нужно будет заплатить. В среднем такие тарифы стоят от 600 руб. в год.
• Поменять старый сканер на новый фотосканер. Код маркировки может считывать только двумерный сканер. Стоимость сканеров начинается от 2990 руб. Чтобы его правильно подобрать, необходимо посоветоваться со специалистами. Дело в том, что не все сканеры могут быстро и корректно считывать маленький по размерам код маркировки на пачке с табаком.
Законотворчество без остановки
Несмотря на то что обязательной система стала только 1 апреля, работа над процессами продолжается. Так, например, только 14 мая вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 года № 515 «О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров», где были установлены общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Например, были указаны правила формирования и нанесения средств идентификации, а также определен порядок создания и эксплуатации информационной системы мониторинга. Как сообщает «Парламентская газета», особенности маркировки конкретных товаров или групп товаров, а также внедрения информационной системы мониторинга для них будут утверждаться отдельными актами Правительства России.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => К маркировке у нас начали привыкать: такого шума, какой вызвала первая волна нововведений, уже нет. Помогает и ощущение неотвратимости этого события, и тот факт, что похожие вещи вводятся не только у нас. Ближайшее внедрение, касающееся большинства ритейлеров, – маркировка табака. [~PREVIEW_TEXT] => К маркировке у нас начали привыкать: такого шума, какой вызвала первая волна нововведений, уже нет. Помогает и ощущение неотвратимости этого события, и тот факт, что похожие вещи вводятся не только у нас. Ближайшее внедрение, касающееся большинства ритейлеров, – маркировка табака. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 3491 [TIMESTAMP_X] => 25.07.2019 15:04:57 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 787 [WIDTH] => 1183 [FILE_SIZE] => 538033 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/22b [FILE_NAME] => 22b0f7a46c3f8fb71023644a863a77ef.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_454099450.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 03545334c490b49be8e9ef717d0dc29d [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/22b/22b0f7a46c3f8fb71023644a863a77ef.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/22b/22b0f7a46c3f8fb71023644a863a77ef.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/22b/22b0f7a46c3f8fb71023644a863a77ef.jpg [ALT] => Дело – табак [TITLE] => Дело – табак ) [~PREVIEW_PICTURE] => 3491 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => delo-tabak [~CODE] => delo-tabak [EXTERNAL_ID] => 5042 [~EXTERNAL_ID] => 5042 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 26.06.2019 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Дело – табак [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Дело – табак [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => К маркировке у нас начали привыкать: такого шума, какой вызвала первая волна нововведений, уже нет. Помогает и ощущение неотвратимости этого события, и тот факт, что похожие вещи вводятся не только у нас. Ближайшее внедрение, касающееся большинства ритейлеров, – маркировка табака. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Дело – табак [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Дело – табак | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [14] => Array ( [ID] => 4961 [~ID] => 4961 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Тяжелая ноша [~NAME] => Тяжелая ноша [ACTIVE_FROM_X] => 2019-05-22 18:06:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2019-05-22 18:06:00 [ACTIVE_FROM] => 22.05.2019 18:06:00 [~ACTIVE_FROM] => 22.05.2019 18:06:00 [TIMESTAMP_X] => 22.05.2019 19:10:06 [~TIMESTAMP_X] => 22.05.2019 19:10:06 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/tyazhelaya-nosha/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/tyazhelaya-nosha/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Когда по улицам столицы замелькали потоки желтых и зеленых курток курьеров с едой, невооруженным глазом стало видно: доставка еды так востребована клиентами, что ритейлу остаться в стороне от этой тенденции было бы странно. Впрочем, цифры показывают то же самое: за прошедший год рынок продаж продовольствия онлайн в России вырос почти в полтора раза (до 23 млрд руб.). Это заключают аналитики INFOLine в исследовании Russia Top Online Food Retail.

Слова «в полтора раза» выглядят неплохо, но рост кажется большим только потому, что до этого момента практически никакого роста не было вовсе. Еще несколько лет назад на ниве доставки продуктов питания подвизался только «Утконос». Однако за последнее время в этот сегмент вышли практически все крупные федеральные игроки продуктового ритейла.
При этом организация онлайн-витрины и доставка – дело не такое уж легкое, каким оно может показаться на первый взгляд. Омниканальность не должна становится самоцелью, необходимо соблюдать приемлемый баланс между выручкой и расходами на используемые каналы сбыта. «Развитие онлайн-канала продаж происходит для разных компаний с разным финансовым результатом. В первое время в любом случае онлайн-канал будет существовать за счет офлайна, но со временем он либо выйдет на самоокупаемость и начнет приносить прибыль, либо станет дополнительным способом поддержания имиджа ритейлера. Не секрет, что за последние десять лет крупнейшие игроки офлайн-продуктовой розницы пытались выйти в онлайн и делали даже несколько таких попыток, – говорит Дмитрий Смирнов, директор по комплексным продажам компании КРОК. – А сегодня эти фактически вновь создаваемые онлайн-каналы торговых сетей все равно являются лишь сервисным дополнением к офлайн-продажам. Они не могут похвастаться ни оборотом, ни особой маржинальностью. Неудачный опыт и многочисленные попытки интернет-продаж говорят о том, что даже крупные игроки рынка не могут позволить себе подобные дорогостоящие «игрушки». Именно поэтому нужен разумный баланс между выручкой и расходами каналов продаж. Кроме этого, важно удержать клиента в более маржинальных каналах, так как дополнительные каналы, по сути, каннибализируют своего же лояльного офлайн-клиента».
Курьеры на трициклах
В чем же проблемы с самой доставкой? Казалось бы, нанимай курьеров, и дело в шляпе: пусть носят продукты с распределительного центра на дом клиентам. Но все не так просто. Организация доставки требует как аппаратного обеспечения, так и автоматизации. Начнем с простого – с технического оснащения персонала. Оно зависит от того, какую модель будет использовать ритейлер. Если модель предусматривает возможность оплаты товаров только на сайте магазина, то ему не понадобится ни ККТ, ни банковский терминал. «Однако такая стратегия заведомо проигрышная, – парирует Андрей Мурадов, старший менеджер по продукции группы компаний «Пилот». – Лишь небольшая доля людей готова заранее оплачивать покупки. Чаще они хотят сначала убедиться, что курьер привез заказанные продукты, и они надлежащего качества, например, фрукты не помяты, яйца не разбиты, а йогурт со вкусом именно малины, а не киви. В этом случае работникам службы доставки необходимо вручить кассу «три в одном»: она включает удобный для работы планшет, контрольно-кассовую технику и банковский терминал. Это решение я считаю наиболее универсальным, поскольку курьеру не придется таскать разрозненные устройства, и он без проблем сможет принимать оплату от покупателей и распечатывать чек».
Чтобы курьеры добирались вовремя, нужно продумать их способ передвижения по городу. Как пояснил Дмитрий Смирнов, ритейлеру необходимо понять, какие продукты питания исходя из условий хранения он планирует доставлять. Будут ли это только продукты, которые могут храниться при комнатной температуре, или же повезут скоропортящуюся или замороженную еду. Нужно определиться, сколько температурных режимов нужно будет учитывать при доставке и, опираясь на это, уже подбирать оснащение. Такие моменты необходимо очень хорошо просчитывать, чтобы не испортить продукты, имидж или же не попасть под пристальное внимание надзорных организаций.
Еще один критерий, не менее важный при выборе оснащения и транспорта курьера, – планируемый вес заказа. Если заказы будут одного нормального температурного режима, весом до 3–5 кг, то курьера можно оснащать самокатом или трициклом. Но вряд ли на таком транспорте ему будет удобно доставлять упаковки воды, мешки сахара или коробки с консервами. «Также надо учитывать возможный разброс массогабаритных характеристик заказов, температурных режимов хранения товара и продолжительности маршрутов доставки, учитывая при этом еще дорожную ситуацию, погодные и климатические условия и планируемые сроки доставки. Скорее всего, основным средством транспорта для мегаполисов в нашей стране будет малолитражный автомобиль. Однако в спектр курьерского транспорта могут входить еще и легкие грузовики, и вело-, мототранспорт для теплого времени года», – добавляет Дмитрий Смирнов.
Внутренние механизмы
Что касается автоматизации процесса, то здесь есть вещи необходимые, а есть системы, без которых можно обойтись, по крайней мере в начале пути. Так, по мнению Дмитрия Смирнова, автоматизация службы доставки не является камнем преткновения для развития дополнительного канала продаж. Если ритейлер может собрать и обработать заказы, то ему на первых порах будет необходимо зафиксировать в своей информационной системе, что заказ получен курьером доставки и уже не находится на складе. А у курьера должна быть возможность принять оплату за заказ удобным для клиента способом, целиком или частично (в случае возврата) и выдать фискальный чек. Следовательно, на первом этапе необходимым средством автоматизации доставки будет только мобильная касса. А вот следующим шагом логично внедрять систему взаимодействия с курьерами, трекинг заказа с отображением его клиенту и указанием примерного времени доставки, а также возможностью связи с диспетчером или с курьером для корректировки места, времени и деталей доставки.
Данный этап автоматизации влияет на имидж и дает клиенту положительный опыт. Если же говорить о более «тяжелой» и ресурсоемкой составляющей в виде системы планирования и оптимизации маршрутов, о так называемой системе управления «последней милей», то, как считает Дмитрий Смирнов, ее лучше оставить на потом: «Данная система будет полезна с целью оптимизации затрат ритейлера, создания предсказуемой, масштабируемой и эффективной доставки, но при этом потребует уже какой-то начальной статистики и исторического опыта, чтобы минимизировать работы по внедрению и настройке. Эти данные как раз и рекомендуется собирать в период пользования только базовой автоматизацией доставки».
«На старте точно можно обойтись без интеграции бизнеса по доставке в общую ИТ-инфраструктуру предприятия, – соглашается с коллегой Сергей Баженов, генеральный директор компании «Клеверенс», – потому что это будет долго и дорого».
Ритейлеры, которые осуществляют доставку товаров со своих распределительных центров, внедряют систему управления транспортом (Transportation Management System – TMS). Об этом рассказывает Дмитрий Рыбаков, генеральный директор компании ConsID: «TMS-система интегрируется со складской системой и позволяет автоматически формировать рейсы для доставки с учетом множества ограничений и правил для расчета маршрутов: по времени и дистанции, характеристикам транспорта, временным окнам, зонам и приоритетности клиентов и т.д. Все это повышает скорость и точность доставки заказов. Помимо обеспечения клиентского сервиса TMS-система предоставляет прозрачную информацию ритейлеру о себестоимости перевозок, которая учитывает все прямые и косвенные затраты, включая расход ГСМ, ремонты, заработную плату, штрафов ГИБДД и т.п. Система также помогает консолидировать заказы и оптимально загружать транспорт с учетом множества факторов, что сокращает количество рейсов и пробег». По его словам, развитие TMS-системы может быть продолжено, например, в части интеграции с системой GPS-мониторинга транспорта, что позволяет сравнивать плановые маршруты с фактическими, отслеживать точность выполнения водителями рейсов, контролировать расход топлива.
План действий
Если говорить о других системах, то интересный кейс представило агентство цифровой трансформации «Улей». Они осуществили проект, взяв за основу «Битрикс 24» (модули CRM, «Задачи», «Уведомления»), и превратили решение в систему управления сервисом доставки продуктов из 26 гипермаркетов по девяти российским городам. Заказчиком выступила сеть «Самбери» с Дальнего Востока России. В стандартную процедуру заказа продуктов на сайте компании добавили несколько изюминок. Система сама предлагает покупателю аналоги товаров, чтобы он смог подумать и выбрать. Если клиент подбирает товары так, чтобы приготовить какое-то определенное блюдо, то он может указать ключевой продукт, без которого он вообще не будет покупать все остальное. Например, без свеклы не сварить борща. Следовательно, указываем свеклу как ключ. Если свеклы тут нет, то и сметану, и говядину на кости покупать смысла нет, выбираем что-то другое.
Среди сложностей, которые необходимо было преодолеть, различие цен и ассортимента в разных торговых точках сети в разных городах. Приняли решение сделать так, чтобы покупатель отмечал на сайте свой город и гипермаркет, откуда ему будут доставлять покупку или где он планирует забрать ее сам. При этом система указывает ему ту цену на товар, которая является максимальной для этого города. Не очень приятно для покупателя, но хорошо для продавца.
Что касается службы доставки гипермаркета, то она была выделена в отдельное подразделение со своими кассирами, менеджерами и сотрудниками колл-центра. Соответственно, и отчетность по проекту отдельна от общего объема продаж и финансового потока. «Улей» подчеркивает, что проект пока пилотный, и дополнительный функционал в решение можно будет добавлять позже и по мере необходимости, при этом не затрагивая основную цепочку сопровождения заказа.
«Самый правильный способ быстро организовать подбор и доставку заказов для продуктового ритейла – это воспользоваться малой автоматизацией и готовыми решениями, – комментирует Сергей Баженов. – Доставка продуктов из магазинов развивается очень быстро, и делать ее в общем контуре большой системы ERP займет годы. А вы же не хотите, чтобы ваша отчетность или вообще вся система упала из-за какой-то доставки».
По словам Сергея Баженова, западные компании обычно делают так: в подсобке отводится место для терминалов сбора данных, на которые «падают» заказы для подбора. На телефон сотрудника приходят SMS о том, что ему надо пойти и собрать новые заказы. Сотрудник магазина берет терминал сбора данных, небольшой мобильный принтер, пакеты, тележку, открывает заказы и начинает ходить по залу, сканировать штрихкоды и класть товары в корзину. Программа показывает на экране номера заказов и список покупок, все это очень похоже на self-shopping. Когда заказы собраны, сотрудник идет на кассу и переходит в режим проверки заказов. Он открывает первый заказ, видит список товаров, и начинает по очереди выкладывать товары на ленту, перед этим опять их сканируя. Если товар предназначен для другого заказа, то программа «ругается», и сотрудник временно возвращает продукт назад, в корзину. Одновременно с этим кассир берет товары с ленты и сканирует их в чек. Когда весь заказ пробит, сотрудник печатает на принтере этикетки с содержимым заказа и штрихкодом. Эти этикетки он наклеит на пакеты с заказом. Этикетки печатаются именно на этом этапе, потому что часть заказа может быть не собрана и потому что неизвестно, сколько будет пакетов. Наконец, покупка пробивается на кассе, чек кладется внутрь одного из пакетов, пакеты завязываются и заклеиваются теми самыми этикетками со штрихкодом. Пакеты выставляются в отдельную зону, откуда их будет забирать курьер. У курьера есть другая похожая программа на смартфоне, которая позволяет ему сканировать штрихкоды с этикеток на пакетах и понять, его ли это пакеты.
Минимализм или максимализм?
И вот теперь, когда мы перечислили несколько основных этапов выстраивания собственной системы доставки, скажем: можно обойтись и без них. «Тренды рынка направлены на делегирование многих задач и проектов через сервисы аутсорса. Доставка товаров – не исключение, – говорит Виктор Курсалин, аналитик компании kt.team. – У нас был опыт интеграции сервисов доставки для крупнейших производителей и ритейлеров, при этом выбор способа реализации доставки зависел не только от желания упростить внутренние бизнес-процессы, но и от специфики самих товаров. Продукты питания включают в себя группы скоропортящихся товаров, поэтому требования к их доставке будут включать наличие рефрижераторов у доставщика. Хрупкие товары мы вряд ли бы стали отправлять через «Почту России» с ее уже сложившейся плохой репутацией. К одежде требований по хранению уже меньше, значит, и к оператору доставки технических требований может быть меньше».
Можно обойтись без всего и спокойно аутсорсить «последнюю милю». Так считает Станислав Косоруков, партнер компании Omnic, и напоминает: «Тот, кто создает собственную службу доставки, должен разработать и внедрить не менее пяти-семи новых бизнес-процессов».
Свои услуги ритейлерам и одновременно конечным клиентам предлагают сразу несколько сервисов. У продуктового сегмента одним из самых востребованных стал iGoods, который сотрудничает с «Метро», «Лентой», «Каруселью», SPAR и Selgros. «Интеграция с PaaS-существующими игроками вроде iGoods определенно дает свои плюсы. Ритейлер может быстро запустить новую услугу, при этом интеграция не займет много времени и сил, не требуется больших доработок и изменений процессов внутри, – разъясняет Илья Аристов, руководитель проектов ритейл-практики компании DataArt. – Но минусы тоже есть. Вы будете полностью зависеть от такого партнера, который вряд ли захочет дорабатывать решение именно под ваши нужды».

Создавать свою службу доставки «с нуля» затратно и хлопотно. Если ритейлер только задумывается о выходе в онлайн с услугой доставки, то имеет смысл выбрать внешнюю компанию по тендеру (обычно выбирают сразу двух таких аутсорсеров для создания между ними конкуренции). В случае низкой удовлетворенности сервисами доставки можно будет либо поменять операторов, либо организовать собственную службу доставки. В аутсорсинговом подходе кроме очевидных преимуществ есть ряд недостатков. Подробностями делится Дмитрий Смирнов. По его убеждению, один из таких недостатков заключается в том, что компания-аутсорсер мало заботится об имидже заказчика, она больше заинтересована в минимизации затрат, выполнении контрактных обязательств и соглашения об уровне сервиса. А ведь от качества и профессионального отношения аутсорсера к делу зависит имидж ритейлера-заказчика. И в случае недовольства конечного клиента ритейлеру будет непросто предъявлять аутсорсеру претензии и доказать невыполнение договорных обязательств. Это является одним из важных аргументов в пользу полностью управляемой собственной службы доставки. И чем больше ритейлер дорожит своей репутацией, тем с большей вероятностью он будет создавать службу доставки у себя. Это больше вопрос имиджа, чем размера ритейлера. Кардинально сместить чашу весов в пользу аутсорсера сможет в таком случае только вопрос цены.
Как полагает Илья Аристов, у собственной службы доставки есть пространство для развития. Мало того что ритейлер, пользующийся собственным решением, может не зависеть от сторонних партнеров (вспомните, как отвратительная служба доставки портит впечатления даже от самого доброжелательного и удобного магазина), он получает дополнительное преимущество: гибкость и возможность развивать решение в соответствии с задачами бизнеса. Некоторые компании даже задумываются о создании новой ниши на рынке, реализации глобальных целей: «Так получилось с развитием сети доставки продуктов Ocado, нашего клиента в Великобритании, – рассказывает Илья Аристов. – Они начинали как онлайн-магазин доставки продуктов, у них не было собственных физических магазинов. Потом они создали свою платформу, сделали полностью роботизированный склад по сбору заказов, а сейчас разделили два направления. Теперь у них есть Ocado-ритейл и Ocado-инжиниринг. Первые занимаются все той же доставкой продуктов, а вторые продают технологическую платформу, причем оба бизнеса успешны».
Глядя на то, как «Яндекс», будучи изначально чисто ИТ-компанией, развернулся и внедрился в самые разные сферы: от частного извоза до доставки еды, а буквально несколько дней назад даже анонсировал покупку сервиса самостоятельного сканирования и оплаты товаров в офлайн-магазинах, слова об обратном развитии для ритейла (от продажи еды к продаже собственных технологических платформ) уже не кажутся слишком крамольной идеей. Похоже, что те времена, когда каждая компания занималась своим, строго определенным делом, уходят навсегда.
Хромаем на обе ноги
Журналисты сейчас любят порассуждать о том, как на наших глазах меняются технологии доставки и мир вместе с ними. Илон Маск предлагает построить вакуумный поезд (hyperloop), в котором транспортные капсулы с товарами могут лететь со скоростью до 1000–1200 км/ч. Amazon, без которого не может обойтись ни одна статья о мире будущего, с января тестирует своего Amazon Scout – робота, который будет ездить от дома к дому и привозить заказанные продукты. Больше пяти лет назад замахнулась на доставку пиццы дронами отечественная «Додо пицца». Дроны пиццерии летали недолго: они столкнулись не только с техническими проблемами, но и с местной прокуратурой. И в этом вся мысль данной главы. Нам еще рано думать про фантастические решения. У нас простые вещи не работают. Например, банальное ожидание курьера чаще всего превращается в мини-квест.
Когда говоришь об этом с экспертами, они всегда осторожно замечают, что покупателям не очень удобно ждать курьера несколько часов. На самом деле – и все, кто заказывает хоть что-то в Интернете, об этом знают – это серьезная проблема, и зачастую покупатели просто не хотят связываться с доставкой. Курьер может приехать в шесть утра вместо шести вечера. Он может принимать только наличные, несмотря на то, что в заказе указано «оплата банковской картой» (вы искали когда-нибудь наличные в шесть утра?). И вообще он может много чего, чего покупателю не хотелось бы. На вопрос, почему вы приезжаете в 10 утра, когда временной интервал в заявке с 13.00 до 16.00, служба доставки флегматично отвечает, что вот так вот решили побыстрее привезти. Или «просто курьер сейчас как раз в вашем районе». Так что речь не о том, чтобы немного подождать курьера – не все из покупателей настолько заняты, не будем лукавить. Речь о невозможности планировать свой день, когда ждешь доставки.
Думается, что технология, которую на Западе называют click & collect, а у нас, если по-простому, то самовывоз – это пока единственное технологическое решение, которое действительно развивается. Онлайн-заказ с самовывозом из магазина или постамата начинался как история для непродуктовых магазинов. Мы видели подобное внедрение, например, у магазина косметики «Л’Этуаль», а сейчас этот вариант распространяется и на фуд-сегмент. «Поставьте себя на место покупателя: вам удобно в свободную минуту во время рабочего дня выбрать и заказать продукты, но не оформлять доставку, а забрать товары из магазина. Ведь на работе может возникнуть форс-мажор или после нее появятся какие-то неотложные дела, которые способны помешать в нужное время добраться до дома. С click & collect не стоит беспокоиться о том, что нужно находиться там в определенный период времени. И эта технология заодно снимает неудобство, связанное с доставкой. Очень редко ритейлеры готовы сказать, во сколько именно приедет курьер. Обычно предлагается выбрать лишь период в два-три часа», – замечает Андрей Мурадов.
О скором широком распространении click & collect среди продуктовых магазинов говорит и рост интереса ритейлеров к постаматам (продуктоматам). Сегодня это уже не просто шкаф с ячейками, в них встроены и ячейки с температурным режимом хранения, что снимает для продуктовых ритейлеров головную боль за организацию самовывоза свежих продуктов питания. Как добавляет Андрей Мурадов, опыт европейских ритейлеров показывает, что продуктовые точки продаж и вовсе могут функционировать только в формате click & collect. Французская сеть Carrefour активно открывает магазины click & collect: покупатель на сайте выбирает товары, а затем приходит за ними в небольшой пункт выдачи.
По мнению Станислава Косорукова, покупательская аудитория у нас делится на две части. Первая – это те, кто заказывает большими чеками курьером домой, делает объемные ежемесячные закупки (от консервированных продуктов до тяжелых бутылей воды). Вторая – те, кто заказывает еду в постаматы более маленьким чеком для быстрого потребления: сегодня или на завтра. У этого сегмента большой потенциал, но пока есть ограничения для прорывного роста. «Основной барьер – это недостаточно развитая инфраструктура, логистика для доставки продуктов питания прямо в руки тогда, когда удобно потребителю, – отмечает Станислав Косоруков. – Один из вариантов решения такой проблемы – это постаматы с температурным режимом, устанавливаемые прямо в подъездах и холлах жилых домов. Статистика показывает, что через четыре месяца после установки такого устройства количество заказов от жильцов именно этого подъезда увеличивается от 2 до 17% заказов со всего дома».
Самое больше преимущество этого канала – это экономия на операции в два-четыре раза по сравнению с курьерской доставкой, а также гибкость времени доставки. «Для одного из наших заказчиков, Carrefour Drive, мы в Париже на парковке супермаркета разместили постамат, из которого клиент, не выходя из машины, забирает свой заказ по дороге домой», – делится опытом Станислав Косоруков.
А вот Дмитрий Смирнов не так уверен в успехе постаматов. По его мнению, данный способ выдачи вряд ли получит широкое распространение в силу своей неуниверсальности, связанной с температурным режимом, габаритами заказа, невозможностью точно рассчитать цену заказа до окончания сборки. Другое дело – удаленный заказ и получение его клиентом непосредственно в офлайн-магазине, без очереди. Главная цель – минимизация времени покупателя на пребывание в торговой точке. Целевая аудитория – участники «маятниковой миграции», а также лояльные клиенты, не желающие тратить время на сборку товарной корзины и стояние в очередях, в частности, в выходные дни. Процент таких клиентов может быть достаточно высоким. «Для больших форматов – супер- и гипермаркетов – для снижения пиковых нагрузок и увеличения проходимости магазина технология click & collect будет иметь определенный смысл, – рассуждает Дмитрий Смирнов. – Для малых форматов такая технология менее интересна в связи с недостатком места для организации зоны хранения и выдачи заказов. Однако контингент клиентов маленьких магазинов, как правило, постоянный, проживающий в основном в зоне шаговой доступности от них. Поэтому ту же основную для клиента задачу – экономию времени – решит организация сборки и быстрой доставки заказа курьером клиенту за небольшую плату или бесплатно в зависимости от суммы заказа».
Овраги практики
Технология click & collect не выглядит сложной, если смотреть на нее глазами покупателя. Изнутри все не так просто. «Опрошенные нами ритейлеры называли несколько сложностей внедрения, – делится Андрей Мурадов. – Одной сети магазинов оказалось нелегко сделать так, чтобы онлайн-заказы видели продавцы офлайн-магазинов. Поэтому порой случались казусы: пока клиент ехал за заказанным товаром, его успевали продать. Наш клиент – федеральная сеть магазинов детских товаров – столкнулась со сложностью соответствия данных по остаткам в учетной системе их фактическому наличию. Поэтому в процессе отработки технологии ритейлеру пришлось исключать из заказов остатки старых коллекций, единичные остатки по отдельным категориям».
Несмотря на очевидную привлекательность технологии click & collect, подобных трудностей в организации данного канала продаж достаточно. Это является одним из препятствий для повсеместного внедрения технологии. Так, Дмитрий Смирнов полагает, что с точки зрения ИТ и современных платформ создание интернет-витрины для покупателя (со всей необходимой «обвязкой» в виде личного кабинета, с возможностью удаленной оплаты, чатом с пользователем, синхронизацией с CRM и торговой системой магазина для «наполнения» витрины) не представляет собой чрезмерно затратной задачи. Реализовать и в дальнейшем поддерживать данную систему можно как усилиями собственной команды специалистов, так и с помощью аутсорсеров. Сложности начинаются при организации и «связке» бизнес-процессов с ИТ-системой.
Например, синхронизация интернет-витрины с торговой системой магазина – не самая сложная в реализации вещь. Вопрос в другом: как показать покупателю реальные остатки того или иного товара в магазине? Показывать текущие остатки с учетом подсобных помещений или же ограничиться торговым залом? А как учесть те товары, которые покупатели взяли с полок, но пока не оплатили на кассе? Количество таких товаров может быть достаточно большим. Может случиться даже так, что на остатках в магазине (и в интернет-витрине) товар имеется, а вот ни на полках, ни в подсобке его нет. Как быть, что сообщать клиенту, кто будет с ним общаться по этому поводу: робот (чат-бот) или человек? Вопросов много.
Другая важная задача – сборка заказов. «Это дополнительный процесс для магазина, – объясняет Дмитрий Смирнов. – Перед ритейлером стоит проблема: привлекать ли ему специальный персонал или же обойтись текущим, но который не особо обучен. Есть и, скажем так, проблема морального характера. Для привлечения интернет-покупателей ритейлер, как правило, будет заботиться о качестве товара, которым будет комплектоваться заказ. На складе будут организовываться специальные зоны под это или же с полок будет «вымываться» самый презентабельный и «красивый» товар. А что делать тому покупателю, что специально приехал в магазин и лично выбирает себе товар? Отмечаются случаи возникновения реальных конфликтов в торговом зале между покупателями и сборщиками заказов в борьбе за лучший товар. Это действительно мощный удар по лояльности клиента. Причем того клиента, который приносит реальную маржу ритейлеру. Получается, что в попытке угнаться за тенденцией, хайпом под видом предоставления «нового клиентского опыта» и часто мифического привлечения новых клиентов ритейлер лишается основных покупателей, ради которых и были построены и пока еще существуют «каменные» магазины».

Идем дальше: заказы собраны, а где их хранить? Дмитрий Смирнов рассуждает: «Создавать под это отдельную зону, организовывать в ней выделенные места для температурного хранения или выделять в температурных зонах подсобки (не в торговом же зале держать собранные заказы) отдельные стеллажи для интернет-заказов? Соответственно, при наличии больших торговых площадей только для того, чтобы полностью собрать, казалось бы, готовый заказ, может потребоваться дополнительное время ожидания клиента».
Много проблем связано и с отказом от заказа или его части, законными требованиями клиентами показать товар лицом или же его заменить, рекламациями. Ну и «финальный гвоздь» – где и как оплачивать заказы? «Если в заказе есть весовой товар, то только после сборки заказа станет известна его сумма, – замечает Дмитрий Смирнов. – Возможно, в это время у клиента уже не будет возможности его оплатить. К тому же не каждый покупатель доверяет платежным онлайн-системам. Следовательно, должна быть опция оплаты заказа на месте без очереди (клиент приехал получить заказ, а не собирать его и не терять время в очереди на оплату). Либо для онлайн-покупок нужно выделить отдельную кассу, либо привлекать отдельного работника с мобильной кассой. То есть для каждого процесса click & collect необходимо искать отдельное решение, которое еще и может оказаться неокончательным. И это тоже подводный камень технологии».
Пан или пропал
Успешность сlick & collect зависит от сети магазина. «Если крупные игроки рынка с множеством офлайн-точек начнут повсеместно внедрять эту систему – это значительно упростит жизнь многим клиентам. Ритейлерам же это дает возможность апсейла на точке продавцами, зная пристрастия и потребности клиентов (мы же анализируем каждое его действие, верно?). При выдаче товара мы можем прогнозировать, что ему может понадобиться вместе с пакетом пельменей (сметана, кетчуп или лавровый лист), можно предложить клиенту товар дня, исходя из его прошлых покупок, а в пятницу или субботу напомнить о любимом сорте вина второй половинки (реферальные и бонусные системы помогут связать членов семьи)», – комментирует Виктор Курсалин.
При этом следует понимать, что внедрение нового для магазина процесса click & collect изменяет и процессы, и геометрию магазина. Рассказывает Дмитрий Смирнов: «Выделяются зоны для хранения заказов, отдельные зоны для выдачи. Соответственно, в магазине либо появляется команда работников, которые занимаются только работой с интернет-заказами, либо в сборке заказов с соответствующим приоритетом участвуют те же самые сотрудники магазина. В процессе сборки заказа требуется резервирование товара под онлайн-заказ. Такой товар должен либо не попадать со склада в торговый зал, либо сразу же сниматься с полки. Порой, когда выкладкой и сборкой заказов занимается один и тот же работник, возможны «перекосы» в сторону либо сборки заказа, либо снятия позиции под предлогом отсутствия в торговом зале. Если же заказами занимаются специально обученные сотрудники, то не исключены конфликты между ними и покупателями или работниками, занимающимися выкладкой. Здесь требуется четко регламентировать все процессы торгового зала, расставить приоритеты расхода товарного запаса, контролировать его резервирование и выполнение установленных регламентов. Следует понимать, что внедрением процесса click & collect задача создания интернет-канала продаж не ограничивается: его поддержание и развитие также требуют времени и денег».
Примеров успешных внедрений технологии click & collect в мире немало, были попытки внедрения и на российском рынке. «Чтобы говорить об успешности реализации технологии, требуется иметь надежные метрики: показатели, на основе которых можно измерить вклад отдельного канала продаж в бизнес ритейлера, – продолжает мысль Дмитрий Смирнов. – Создание и применение таких метрик – достаточно нетривиальная задача, которая вкупе со сложностями внедрения самой технологии часто не позволяет ритейлерам открыто заявлять об успешности ее внедрения. Особенно в текущей рыночной ситуации. Наверное поэтому успешный опыт внедрения в нашем продуктовом ритейле технологии click & collect пока не на слуху».
Пока самая большая преграда развития этого направления – это недооценка сложности процессов и внедрения данного продукта. Click & collect для ритейла – это целый бизнес. «Построить его не менее сложно, чем офлайн-магазину запустить свой собственный интернет-магазин. У нас были случаи, когда клиенты приобретали только продукт без внедрения. Через полгода они или закрывали направление, или обращались к консультанта м», – обрисовывает ситуацию Станислав Косоруков.
Возможно, выгодной может стать стратегия совмещения, когда ритейлер внедряет у себя как классическую доставку продуктов до покупателя (на дом), так и самовывоз. «Покупатели ждут, что ритейлер предоставит им удобный шопинг. Это одна из немногочисленных возможностей для региональных или небольших ритейлеров конкурировать с федеральными гигантами. Поэтому, если есть возможность, локальный магазин должен предоставлять обе услуги: и доставлять товары на дом, и разрешать самовывоз, – говорит Андрей Мурадов. – Обычно я рекомендую ритейлерам внимательно изучать аудиторию, которая будет посещать торговую точку, и уже посредством такого опроса выявлять ее нужды и ожидания. Причем желательно учитывать не только жителей домов, расположенных поблизости, но и работников локальных бизнес-центров. Ведь, по сути, для магазина не так важно, доставлять продукты на дом человеку или ему в офис».
Доставка продуктов питания курьером или с помощью click & collect – это разные каналы доставки для разных типов заказов. «Статистика показывает, что 80% тех, кто сейчас заказывает продукты в постаматы, ни разу не пользовались доставкой курьером. Покупателю нужен выбор», – подытоживает Станислав Косоруков.
Алиса, ступай в магазин!
Из всех футуристичных решений одно кажется более реальным, нежели все остальные. Это голосовые помощники. По прогнозам, в 2019 году одной из главных тенденций в западном ритейле, прежде всего в e-commerce, станет заказ товаров и услуг именно через такого помощника.
Применение голосовых помощников вместе с традиционными интернет-витринами – вполне логичный тренд. В частности, для тех клиентов, кто не желает тратить время на набор текста и муки поиска информации, а хочет получить ответ здесь и сейчас. Появление подобных помощников в инструментарии отечественных ритейлеров – вопрос месяцев или даже дней. В этом уверен Дмитрий Смирнов: «Данная технология, возможно, несколько увеличит расходы ритейлера, но позволит ему выглядеть более технологичным на фоне конкурентов. А также привлечет заинтересованных покупателей. По крайней мере пока голосовой помощник не станет явлением повсеместным, из серии «так и должно быть». Но здесь следует понимать, что голосовой помощник – один из интерфейсов интернет-витрины, некая прослойка, стоящая между покупателем и продавцом в самом начале жизненного цикла заказа, или комментатор прохождения заказа по этапам жизненного цикла. Но это не инструмент на стороне продавца, регулирующий или как-то иначе влияющий на его внутренние процессы, в том числе на применение технологий и процессы сборки и доставки заказа. В конце цепочки жизненного цикла заказа все равно стоит человек: курьер или выдающий заказ продавец в магазине. Здесь, по-видимому, тоже нет места голосовому помощнику. Разве что подать рекламацию или выразить недовольство или, наоборот, восхищение качеством обслуживания и товаром».
«Я не исключаю возможности, что «Яндекс» может пролоббировать внедрение своего голосового помощника Алисы в мобильные приложения ритейлеров. Думаю, произойдет это или нет, мы уже точно узнаем в течение этого года», – предлагает немного подождать Андрей Мурадов.
Равнение на общепит
Исследование Nielsen показало, что в 2018 году средний чек за заказанную в Интернете еду практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах. Аналитики посчитали, что в ноябре 2018 года респонденты заказывали еду онлайн на 1250 рублей, а в местах общественного питания – на 1240 рублей.
Наибольший процент онлайн-потребителей заявили, что покупали одежду (52%), продукты для красоты и ухода за собой (35%), билеты на мероприятия (32%), электронику (32%), книги, музыку, прессу (32%), мобильные устройства (31%) и доставку готовой еды из ресторанов или мил-китов на дом (30%). Среди продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) помимо средств по уходу за собой в лидерах детские товары (их приобретали 19% опрошенных), товары для животных (13%) и чистящие средства для дома (9%).
[~DETAIL_TEXT] =>
Когда по улицам столицы замелькали потоки желтых и зеленых курток курьеров с едой, невооруженным глазом стало видно: доставка еды так востребована клиентами, что ритейлу остаться в стороне от этой тенденции было бы странно. Впрочем, цифры показывают то же самое: за прошедший год рынок продаж продовольствия онлайн в России вырос почти в полтора раза (до 23 млрд руб.). Это заключают аналитики INFOLine в исследовании Russia Top Online Food Retail.

Слова «в полтора раза» выглядят неплохо, но рост кажется большим только потому, что до этого момента практически никакого роста не было вовсе. Еще несколько лет назад на ниве доставки продуктов питания подвизался только «Утконос». Однако за последнее время в этот сегмент вышли практически все крупные федеральные игроки продуктового ритейла.
При этом организация онлайн-витрины и доставка – дело не такое уж легкое, каким оно может показаться на первый взгляд. Омниканальность не должна становится самоцелью, необходимо соблюдать приемлемый баланс между выручкой и расходами на используемые каналы сбыта. «Развитие онлайн-канала продаж происходит для разных компаний с разным финансовым результатом. В первое время в любом случае онлайн-канал будет существовать за счет офлайна, но со временем он либо выйдет на самоокупаемость и начнет приносить прибыль, либо станет дополнительным способом поддержания имиджа ритейлера. Не секрет, что за последние десять лет крупнейшие игроки офлайн-продуктовой розницы пытались выйти в онлайн и делали даже несколько таких попыток, – говорит Дмитрий Смирнов, директор по комплексным продажам компании КРОК. – А сегодня эти фактически вновь создаваемые онлайн-каналы торговых сетей все равно являются лишь сервисным дополнением к офлайн-продажам. Они не могут похвастаться ни оборотом, ни особой маржинальностью. Неудачный опыт и многочисленные попытки интернет-продаж говорят о том, что даже крупные игроки рынка не могут позволить себе подобные дорогостоящие «игрушки». Именно поэтому нужен разумный баланс между выручкой и расходами каналов продаж. Кроме этого, важно удержать клиента в более маржинальных каналах, так как дополнительные каналы, по сути, каннибализируют своего же лояльного офлайн-клиента».
Курьеры на трициклах
В чем же проблемы с самой доставкой? Казалось бы, нанимай курьеров, и дело в шляпе: пусть носят продукты с распределительного центра на дом клиентам. Но все не так просто. Организация доставки требует как аппаратного обеспечения, так и автоматизации. Начнем с простого – с технического оснащения персонала. Оно зависит от того, какую модель будет использовать ритейлер. Если модель предусматривает возможность оплаты товаров только на сайте магазина, то ему не понадобится ни ККТ, ни банковский терминал. «Однако такая стратегия заведомо проигрышная, – парирует Андрей Мурадов, старший менеджер по продукции группы компаний «Пилот». – Лишь небольшая доля людей готова заранее оплачивать покупки. Чаще они хотят сначала убедиться, что курьер привез заказанные продукты, и они надлежащего качества, например, фрукты не помяты, яйца не разбиты, а йогурт со вкусом именно малины, а не киви. В этом случае работникам службы доставки необходимо вручить кассу «три в одном»: она включает удобный для работы планшет, контрольно-кассовую технику и банковский терминал. Это решение я считаю наиболее универсальным, поскольку курьеру не придется таскать разрозненные устройства, и он без проблем сможет принимать оплату от покупателей и распечатывать чек».
Чтобы курьеры добирались вовремя, нужно продумать их способ передвижения по городу. Как пояснил Дмитрий Смирнов, ритейлеру необходимо понять, какие продукты питания исходя из условий хранения он планирует доставлять. Будут ли это только продукты, которые могут храниться при комнатной температуре, или же повезут скоропортящуюся или замороженную еду. Нужно определиться, сколько температурных режимов нужно будет учитывать при доставке и, опираясь на это, уже подбирать оснащение. Такие моменты необходимо очень хорошо просчитывать, чтобы не испортить продукты, имидж или же не попасть под пристальное внимание надзорных организаций.
Еще один критерий, не менее важный при выборе оснащения и транспорта курьера, – планируемый вес заказа. Если заказы будут одного нормального температурного режима, весом до 3–5 кг, то курьера можно оснащать самокатом или трициклом. Но вряд ли на таком транспорте ему будет удобно доставлять упаковки воды, мешки сахара или коробки с консервами. «Также надо учитывать возможный разброс массогабаритных характеристик заказов, температурных режимов хранения товара и продолжительности маршрутов доставки, учитывая при этом еще дорожную ситуацию, погодные и климатические условия и планируемые сроки доставки. Скорее всего, основным средством транспорта для мегаполисов в нашей стране будет малолитражный автомобиль. Однако в спектр курьерского транспорта могут входить еще и легкие грузовики, и вело-, мототранспорт для теплого времени года», – добавляет Дмитрий Смирнов.
Внутренние механизмы
Что касается автоматизации процесса, то здесь есть вещи необходимые, а есть системы, без которых можно обойтись, по крайней мере в начале пути. Так, по мнению Дмитрия Смирнова, автоматизация службы доставки не является камнем преткновения для развития дополнительного канала продаж. Если ритейлер может собрать и обработать заказы, то ему на первых порах будет необходимо зафиксировать в своей информационной системе, что заказ получен курьером доставки и уже не находится на складе. А у курьера должна быть возможность принять оплату за заказ удобным для клиента способом, целиком или частично (в случае возврата) и выдать фискальный чек. Следовательно, на первом этапе необходимым средством автоматизации доставки будет только мобильная касса. А вот следующим шагом логично внедрять систему взаимодействия с курьерами, трекинг заказа с отображением его клиенту и указанием примерного времени доставки, а также возможностью связи с диспетчером или с курьером для корректировки места, времени и деталей доставки.
Данный этап автоматизации влияет на имидж и дает клиенту положительный опыт. Если же говорить о более «тяжелой» и ресурсоемкой составляющей в виде системы планирования и оптимизации маршрутов, о так называемой системе управления «последней милей», то, как считает Дмитрий Смирнов, ее лучше оставить на потом: «Данная система будет полезна с целью оптимизации затрат ритейлера, создания предсказуемой, масштабируемой и эффективной доставки, но при этом потребует уже какой-то начальной статистики и исторического опыта, чтобы минимизировать работы по внедрению и настройке. Эти данные как раз и рекомендуется собирать в период пользования только базовой автоматизацией доставки».
«На старте точно можно обойтись без интеграции бизнеса по доставке в общую ИТ-инфраструктуру предприятия, – соглашается с коллегой Сергей Баженов, генеральный директор компании «Клеверенс», – потому что это будет долго и дорого».
Ритейлеры, которые осуществляют доставку товаров со своих распределительных центров, внедряют систему управления транспортом (Transportation Management System – TMS). Об этом рассказывает Дмитрий Рыбаков, генеральный директор компании ConsID: «TMS-система интегрируется со складской системой и позволяет автоматически формировать рейсы для доставки с учетом множества ограничений и правил для расчета маршрутов: по времени и дистанции, характеристикам транспорта, временным окнам, зонам и приоритетности клиентов и т.д. Все это повышает скорость и точность доставки заказов. Помимо обеспечения клиентского сервиса TMS-система предоставляет прозрачную информацию ритейлеру о себестоимости перевозок, которая учитывает все прямые и косвенные затраты, включая расход ГСМ, ремонты, заработную плату, штрафов ГИБДД и т.п. Система также помогает консолидировать заказы и оптимально загружать транспорт с учетом множества факторов, что сокращает количество рейсов и пробег». По его словам, развитие TMS-системы может быть продолжено, например, в части интеграции с системой GPS-мониторинга транспорта, что позволяет сравнивать плановые маршруты с фактическими, отслеживать точность выполнения водителями рейсов, контролировать расход топлива.
План действий
Если говорить о других системах, то интересный кейс представило агентство цифровой трансформации «Улей». Они осуществили проект, взяв за основу «Битрикс 24» (модули CRM, «Задачи», «Уведомления»), и превратили решение в систему управления сервисом доставки продуктов из 26 гипермаркетов по девяти российским городам. Заказчиком выступила сеть «Самбери» с Дальнего Востока России. В стандартную процедуру заказа продуктов на сайте компании добавили несколько изюминок. Система сама предлагает покупателю аналоги товаров, чтобы он смог подумать и выбрать. Если клиент подбирает товары так, чтобы приготовить какое-то определенное блюдо, то он может указать ключевой продукт, без которого он вообще не будет покупать все остальное. Например, без свеклы не сварить борща. Следовательно, указываем свеклу как ключ. Если свеклы тут нет, то и сметану, и говядину на кости покупать смысла нет, выбираем что-то другое.
Среди сложностей, которые необходимо было преодолеть, различие цен и ассортимента в разных торговых точках сети в разных городах. Приняли решение сделать так, чтобы покупатель отмечал на сайте свой город и гипермаркет, откуда ему будут доставлять покупку или где он планирует забрать ее сам. При этом система указывает ему ту цену на товар, которая является максимальной для этого города. Не очень приятно для покупателя, но хорошо для продавца.
Что касается службы доставки гипермаркета, то она была выделена в отдельное подразделение со своими кассирами, менеджерами и сотрудниками колл-центра. Соответственно, и отчетность по проекту отдельна от общего объема продаж и финансового потока. «Улей» подчеркивает, что проект пока пилотный, и дополнительный функционал в решение можно будет добавлять позже и по мере необходимости, при этом не затрагивая основную цепочку сопровождения заказа.
«Самый правильный способ быстро организовать подбор и доставку заказов для продуктового ритейла – это воспользоваться малой автоматизацией и готовыми решениями, – комментирует Сергей Баженов. – Доставка продуктов из магазинов развивается очень быстро, и делать ее в общем контуре большой системы ERP займет годы. А вы же не хотите, чтобы ваша отчетность или вообще вся система упала из-за какой-то доставки».
По словам Сергея Баженова, западные компании обычно делают так: в подсобке отводится место для терминалов сбора данных, на которые «падают» заказы для подбора. На телефон сотрудника приходят SMS о том, что ему надо пойти и собрать новые заказы. Сотрудник магазина берет терминал сбора данных, небольшой мобильный принтер, пакеты, тележку, открывает заказы и начинает ходить по залу, сканировать штрихкоды и класть товары в корзину. Программа показывает на экране номера заказов и список покупок, все это очень похоже на self-shopping. Когда заказы собраны, сотрудник идет на кассу и переходит в режим проверки заказов. Он открывает первый заказ, видит список товаров, и начинает по очереди выкладывать товары на ленту, перед этим опять их сканируя. Если товар предназначен для другого заказа, то программа «ругается», и сотрудник временно возвращает продукт назад, в корзину. Одновременно с этим кассир берет товары с ленты и сканирует их в чек. Когда весь заказ пробит, сотрудник печатает на принтере этикетки с содержимым заказа и штрихкодом. Эти этикетки он наклеит на пакеты с заказом. Этикетки печатаются именно на этом этапе, потому что часть заказа может быть не собрана и потому что неизвестно, сколько будет пакетов. Наконец, покупка пробивается на кассе, чек кладется внутрь одного из пакетов, пакеты завязываются и заклеиваются теми самыми этикетками со штрихкодом. Пакеты выставляются в отдельную зону, откуда их будет забирать курьер. У курьера есть другая похожая программа на смартфоне, которая позволяет ему сканировать штрихкоды с этикеток на пакетах и понять, его ли это пакеты.
Минимализм или максимализм?
И вот теперь, когда мы перечислили несколько основных этапов выстраивания собственной системы доставки, скажем: можно обойтись и без них. «Тренды рынка направлены на делегирование многих задач и проектов через сервисы аутсорса. Доставка товаров – не исключение, – говорит Виктор Курсалин, аналитик компании kt.team. – У нас был опыт интеграции сервисов доставки для крупнейших производителей и ритейлеров, при этом выбор способа реализации доставки зависел не только от желания упростить внутренние бизнес-процессы, но и от специфики самих товаров. Продукты питания включают в себя группы скоропортящихся товаров, поэтому требования к их доставке будут включать наличие рефрижераторов у доставщика. Хрупкие товары мы вряд ли бы стали отправлять через «Почту России» с ее уже сложившейся плохой репутацией. К одежде требований по хранению уже меньше, значит, и к оператору доставки технических требований может быть меньше».
Можно обойтись без всего и спокойно аутсорсить «последнюю милю». Так считает Станислав Косоруков, партнер компании Omnic, и напоминает: «Тот, кто создает собственную службу доставки, должен разработать и внедрить не менее пяти-семи новых бизнес-процессов».
Свои услуги ритейлерам и одновременно конечным клиентам предлагают сразу несколько сервисов. У продуктового сегмента одним из самых востребованных стал iGoods, который сотрудничает с «Метро», «Лентой», «Каруселью», SPAR и Selgros. «Интеграция с PaaS-существующими игроками вроде iGoods определенно дает свои плюсы. Ритейлер может быстро запустить новую услугу, при этом интеграция не займет много времени и сил, не требуется больших доработок и изменений процессов внутри, – разъясняет Илья Аристов, руководитель проектов ритейл-практики компании DataArt. – Но минусы тоже есть. Вы будете полностью зависеть от такого партнера, который вряд ли захочет дорабатывать решение именно под ваши нужды».

Создавать свою службу доставки «с нуля» затратно и хлопотно. Если ритейлер только задумывается о выходе в онлайн с услугой доставки, то имеет смысл выбрать внешнюю компанию по тендеру (обычно выбирают сразу двух таких аутсорсеров для создания между ними конкуренции). В случае низкой удовлетворенности сервисами доставки можно будет либо поменять операторов, либо организовать собственную службу доставки. В аутсорсинговом подходе кроме очевидных преимуществ есть ряд недостатков. Подробностями делится Дмитрий Смирнов. По его убеждению, один из таких недостатков заключается в том, что компания-аутсорсер мало заботится об имидже заказчика, она больше заинтересована в минимизации затрат, выполнении контрактных обязательств и соглашения об уровне сервиса. А ведь от качества и профессионального отношения аутсорсера к делу зависит имидж ритейлера-заказчика. И в случае недовольства конечного клиента ритейлеру будет непросто предъявлять аутсорсеру претензии и доказать невыполнение договорных обязательств. Это является одним из важных аргументов в пользу полностью управляемой собственной службы доставки. И чем больше ритейлер дорожит своей репутацией, тем с большей вероятностью он будет создавать службу доставки у себя. Это больше вопрос имиджа, чем размера ритейлера. Кардинально сместить чашу весов в пользу аутсорсера сможет в таком случае только вопрос цены.
Как полагает Илья Аристов, у собственной службы доставки есть пространство для развития. Мало того что ритейлер, пользующийся собственным решением, может не зависеть от сторонних партнеров (вспомните, как отвратительная служба доставки портит впечатления даже от самого доброжелательного и удобного магазина), он получает дополнительное преимущество: гибкость и возможность развивать решение в соответствии с задачами бизнеса. Некоторые компании даже задумываются о создании новой ниши на рынке, реализации глобальных целей: «Так получилось с развитием сети доставки продуктов Ocado, нашего клиента в Великобритании, – рассказывает Илья Аристов. – Они начинали как онлайн-магазин доставки продуктов, у них не было собственных физических магазинов. Потом они создали свою платформу, сделали полностью роботизированный склад по сбору заказов, а сейчас разделили два направления. Теперь у них есть Ocado-ритейл и Ocado-инжиниринг. Первые занимаются все той же доставкой продуктов, а вторые продают технологическую платформу, причем оба бизнеса успешны».
Глядя на то, как «Яндекс», будучи изначально чисто ИТ-компанией, развернулся и внедрился в самые разные сферы: от частного извоза до доставки еды, а буквально несколько дней назад даже анонсировал покупку сервиса самостоятельного сканирования и оплаты товаров в офлайн-магазинах, слова об обратном развитии для ритейла (от продажи еды к продаже собственных технологических платформ) уже не кажутся слишком крамольной идеей. Похоже, что те времена, когда каждая компания занималась своим, строго определенным делом, уходят навсегда.
Хромаем на обе ноги
Журналисты сейчас любят порассуждать о том, как на наших глазах меняются технологии доставки и мир вместе с ними. Илон Маск предлагает построить вакуумный поезд (hyperloop), в котором транспортные капсулы с товарами могут лететь со скоростью до 1000–1200 км/ч. Amazon, без которого не может обойтись ни одна статья о мире будущего, с января тестирует своего Amazon Scout – робота, который будет ездить от дома к дому и привозить заказанные продукты. Больше пяти лет назад замахнулась на доставку пиццы дронами отечественная «Додо пицца». Дроны пиццерии летали недолго: они столкнулись не только с техническими проблемами, но и с местной прокуратурой. И в этом вся мысль данной главы. Нам еще рано думать про фантастические решения. У нас простые вещи не работают. Например, банальное ожидание курьера чаще всего превращается в мини-квест.
Когда говоришь об этом с экспертами, они всегда осторожно замечают, что покупателям не очень удобно ждать курьера несколько часов. На самом деле – и все, кто заказывает хоть что-то в Интернете, об этом знают – это серьезная проблема, и зачастую покупатели просто не хотят связываться с доставкой. Курьер может приехать в шесть утра вместо шести вечера. Он может принимать только наличные, несмотря на то, что в заказе указано «оплата банковской картой» (вы искали когда-нибудь наличные в шесть утра?). И вообще он может много чего, чего покупателю не хотелось бы. На вопрос, почему вы приезжаете в 10 утра, когда временной интервал в заявке с 13.00 до 16.00, служба доставки флегматично отвечает, что вот так вот решили побыстрее привезти. Или «просто курьер сейчас как раз в вашем районе». Так что речь не о том, чтобы немного подождать курьера – не все из покупателей настолько заняты, не будем лукавить. Речь о невозможности планировать свой день, когда ждешь доставки.
Думается, что технология, которую на Западе называют click & collect, а у нас, если по-простому, то самовывоз – это пока единственное технологическое решение, которое действительно развивается. Онлайн-заказ с самовывозом из магазина или постамата начинался как история для непродуктовых магазинов. Мы видели подобное внедрение, например, у магазина косметики «Л’Этуаль», а сейчас этот вариант распространяется и на фуд-сегмент. «Поставьте себя на место покупателя: вам удобно в свободную минуту во время рабочего дня выбрать и заказать продукты, но не оформлять доставку, а забрать товары из магазина. Ведь на работе может возникнуть форс-мажор или после нее появятся какие-то неотложные дела, которые способны помешать в нужное время добраться до дома. С click & collect не стоит беспокоиться о том, что нужно находиться там в определенный период времени. И эта технология заодно снимает неудобство, связанное с доставкой. Очень редко ритейлеры готовы сказать, во сколько именно приедет курьер. Обычно предлагается выбрать лишь период в два-три часа», – замечает Андрей Мурадов.
О скором широком распространении click & collect среди продуктовых магазинов говорит и рост интереса ритейлеров к постаматам (продуктоматам). Сегодня это уже не просто шкаф с ячейками, в них встроены и ячейки с температурным режимом хранения, что снимает для продуктовых ритейлеров головную боль за организацию самовывоза свежих продуктов питания. Как добавляет Андрей Мурадов, опыт европейских ритейлеров показывает, что продуктовые точки продаж и вовсе могут функционировать только в формате click & collect. Французская сеть Carrefour активно открывает магазины click & collect: покупатель на сайте выбирает товары, а затем приходит за ними в небольшой пункт выдачи.
По мнению Станислава Косорукова, покупательская аудитория у нас делится на две части. Первая – это те, кто заказывает большими чеками курьером домой, делает объемные ежемесячные закупки (от консервированных продуктов до тяжелых бутылей воды). Вторая – те, кто заказывает еду в постаматы более маленьким чеком для быстрого потребления: сегодня или на завтра. У этого сегмента большой потенциал, но пока есть ограничения для прорывного роста. «Основной барьер – это недостаточно развитая инфраструктура, логистика для доставки продуктов питания прямо в руки тогда, когда удобно потребителю, – отмечает Станислав Косоруков. – Один из вариантов решения такой проблемы – это постаматы с температурным режимом, устанавливаемые прямо в подъездах и холлах жилых домов. Статистика показывает, что через четыре месяца после установки такого устройства количество заказов от жильцов именно этого подъезда увеличивается от 2 до 17% заказов со всего дома».
Самое больше преимущество этого канала – это экономия на операции в два-четыре раза по сравнению с курьерской доставкой, а также гибкость времени доставки. «Для одного из наших заказчиков, Carrefour Drive, мы в Париже на парковке супермаркета разместили постамат, из которого клиент, не выходя из машины, забирает свой заказ по дороге домой», – делится опытом Станислав Косоруков.
А вот Дмитрий Смирнов не так уверен в успехе постаматов. По его мнению, данный способ выдачи вряд ли получит широкое распространение в силу своей неуниверсальности, связанной с температурным режимом, габаритами заказа, невозможностью точно рассчитать цену заказа до окончания сборки. Другое дело – удаленный заказ и получение его клиентом непосредственно в офлайн-магазине, без очереди. Главная цель – минимизация времени покупателя на пребывание в торговой точке. Целевая аудитория – участники «маятниковой миграции», а также лояльные клиенты, не желающие тратить время на сборку товарной корзины и стояние в очередях, в частности, в выходные дни. Процент таких клиентов может быть достаточно высоким. «Для больших форматов – супер- и гипермаркетов – для снижения пиковых нагрузок и увеличения проходимости магазина технология click & collect будет иметь определенный смысл, – рассуждает Дмитрий Смирнов. – Для малых форматов такая технология менее интересна в связи с недостатком места для организации зоны хранения и выдачи заказов. Однако контингент клиентов маленьких магазинов, как правило, постоянный, проживающий в основном в зоне шаговой доступности от них. Поэтому ту же основную для клиента задачу – экономию времени – решит организация сборки и быстрой доставки заказа курьером клиенту за небольшую плату или бесплатно в зависимости от суммы заказа».
Овраги практики
Технология click & collect не выглядит сложной, если смотреть на нее глазами покупателя. Изнутри все не так просто. «Опрошенные нами ритейлеры называли несколько сложностей внедрения, – делится Андрей Мурадов. – Одной сети магазинов оказалось нелегко сделать так, чтобы онлайн-заказы видели продавцы офлайн-магазинов. Поэтому порой случались казусы: пока клиент ехал за заказанным товаром, его успевали продать. Наш клиент – федеральная сеть магазинов детских товаров – столкнулась со сложностью соответствия данных по остаткам в учетной системе их фактическому наличию. Поэтому в процессе отработки технологии ритейлеру пришлось исключать из заказов остатки старых коллекций, единичные остатки по отдельным категориям».
Несмотря на очевидную привлекательность технологии click & collect, подобных трудностей в организации данного канала продаж достаточно. Это является одним из препятствий для повсеместного внедрения технологии. Так, Дмитрий Смирнов полагает, что с точки зрения ИТ и современных платформ создание интернет-витрины для покупателя (со всей необходимой «обвязкой» в виде личного кабинета, с возможностью удаленной оплаты, чатом с пользователем, синхронизацией с CRM и торговой системой магазина для «наполнения» витрины) не представляет собой чрезмерно затратной задачи. Реализовать и в дальнейшем поддерживать данную систему можно как усилиями собственной команды специалистов, так и с помощью аутсорсеров. Сложности начинаются при организации и «связке» бизнес-процессов с ИТ-системой.
Например, синхронизация интернет-витрины с торговой системой магазина – не самая сложная в реализации вещь. Вопрос в другом: как показать покупателю реальные остатки того или иного товара в магазине? Показывать текущие остатки с учетом подсобных помещений или же ограничиться торговым залом? А как учесть те товары, которые покупатели взяли с полок, но пока не оплатили на кассе? Количество таких товаров может быть достаточно большим. Может случиться даже так, что на остатках в магазине (и в интернет-витрине) товар имеется, а вот ни на полках, ни в подсобке его нет. Как быть, что сообщать клиенту, кто будет с ним общаться по этому поводу: робот (чат-бот) или человек? Вопросов много.
Другая важная задача – сборка заказов. «Это дополнительный процесс для магазина, – объясняет Дмитрий Смирнов. – Перед ритейлером стоит проблема: привлекать ли ему специальный персонал или же обойтись текущим, но который не особо обучен. Есть и, скажем так, проблема морального характера. Для привлечения интернет-покупателей ритейлер, как правило, будет заботиться о качестве товара, которым будет комплектоваться заказ. На складе будут организовываться специальные зоны под это или же с полок будет «вымываться» самый презентабельный и «красивый» товар. А что делать тому покупателю, что специально приехал в магазин и лично выбирает себе товар? Отмечаются случаи возникновения реальных конфликтов в торговом зале между покупателями и сборщиками заказов в борьбе за лучший товар. Это действительно мощный удар по лояльности клиента. Причем того клиента, который приносит реальную маржу ритейлеру. Получается, что в попытке угнаться за тенденцией, хайпом под видом предоставления «нового клиентского опыта» и часто мифического привлечения новых клиентов ритейлер лишается основных покупателей, ради которых и были построены и пока еще существуют «каменные» магазины».

Идем дальше: заказы собраны, а где их хранить? Дмитрий Смирнов рассуждает: «Создавать под это отдельную зону, организовывать в ней выделенные места для температурного хранения или выделять в температурных зонах подсобки (не в торговом же зале держать собранные заказы) отдельные стеллажи для интернет-заказов? Соответственно, при наличии больших торговых площадей только для того, чтобы полностью собрать, казалось бы, готовый заказ, может потребоваться дополнительное время ожидания клиента».
Много проблем связано и с отказом от заказа или его части, законными требованиями клиентами показать товар лицом или же его заменить, рекламациями. Ну и «финальный гвоздь» – где и как оплачивать заказы? «Если в заказе есть весовой товар, то только после сборки заказа станет известна его сумма, – замечает Дмитрий Смирнов. – Возможно, в это время у клиента уже не будет возможности его оплатить. К тому же не каждый покупатель доверяет платежным онлайн-системам. Следовательно, должна быть опция оплаты заказа на месте без очереди (клиент приехал получить заказ, а не собирать его и не терять время в очереди на оплату). Либо для онлайн-покупок нужно выделить отдельную кассу, либо привлекать отдельного работника с мобильной кассой. То есть для каждого процесса click & collect необходимо искать отдельное решение, которое еще и может оказаться неокончательным. И это тоже подводный камень технологии».
Пан или пропал
Успешность сlick & collect зависит от сети магазина. «Если крупные игроки рынка с множеством офлайн-точек начнут повсеместно внедрять эту систему – это значительно упростит жизнь многим клиентам. Ритейлерам же это дает возможность апсейла на точке продавцами, зная пристрастия и потребности клиентов (мы же анализируем каждое его действие, верно?). При выдаче товара мы можем прогнозировать, что ему может понадобиться вместе с пакетом пельменей (сметана, кетчуп или лавровый лист), можно предложить клиенту товар дня, исходя из его прошлых покупок, а в пятницу или субботу напомнить о любимом сорте вина второй половинки (реферальные и бонусные системы помогут связать членов семьи)», – комментирует Виктор Курсалин.
При этом следует понимать, что внедрение нового для магазина процесса click & collect изменяет и процессы, и геометрию магазина. Рассказывает Дмитрий Смирнов: «Выделяются зоны для хранения заказов, отдельные зоны для выдачи. Соответственно, в магазине либо появляется команда работников, которые занимаются только работой с интернет-заказами, либо в сборке заказов с соответствующим приоритетом участвуют те же самые сотрудники магазина. В процессе сборки заказа требуется резервирование товара под онлайн-заказ. Такой товар должен либо не попадать со склада в торговый зал, либо сразу же сниматься с полки. Порой, когда выкладкой и сборкой заказов занимается один и тот же работник, возможны «перекосы» в сторону либо сборки заказа, либо снятия позиции под предлогом отсутствия в торговом зале. Если же заказами занимаются специально обученные сотрудники, то не исключены конфликты между ними и покупателями или работниками, занимающимися выкладкой. Здесь требуется четко регламентировать все процессы торгового зала, расставить приоритеты расхода товарного запаса, контролировать его резервирование и выполнение установленных регламентов. Следует понимать, что внедрением процесса click & collect задача создания интернет-канала продаж не ограничивается: его поддержание и развитие также требуют времени и денег».
Примеров успешных внедрений технологии click & collect в мире немало, были попытки внедрения и на российском рынке. «Чтобы говорить об успешности реализации технологии, требуется иметь надежные метрики: показатели, на основе которых можно измерить вклад отдельного канала продаж в бизнес ритейлера, – продолжает мысль Дмитрий Смирнов. – Создание и применение таких метрик – достаточно нетривиальная задача, которая вкупе со сложностями внедрения самой технологии часто не позволяет ритейлерам открыто заявлять об успешности ее внедрения. Особенно в текущей рыночной ситуации. Наверное поэтому успешный опыт внедрения в нашем продуктовом ритейле технологии click & collect пока не на слуху».
Пока самая большая преграда развития этого направления – это недооценка сложности процессов и внедрения данного продукта. Click & collect для ритейла – это целый бизнес. «Построить его не менее сложно, чем офлайн-магазину запустить свой собственный интернет-магазин. У нас были случаи, когда клиенты приобретали только продукт без внедрения. Через полгода они или закрывали направление, или обращались к консультанта м», – обрисовывает ситуацию Станислав Косоруков.
Возможно, выгодной может стать стратегия совмещения, когда ритейлер внедряет у себя как классическую доставку продуктов до покупателя (на дом), так и самовывоз. «Покупатели ждут, что ритейлер предоставит им удобный шопинг. Это одна из немногочисленных возможностей для региональных или небольших ритейлеров конкурировать с федеральными гигантами. Поэтому, если есть возможность, локальный магазин должен предоставлять обе услуги: и доставлять товары на дом, и разрешать самовывоз, – говорит Андрей Мурадов. – Обычно я рекомендую ритейлерам внимательно изучать аудиторию, которая будет посещать торговую точку, и уже посредством такого опроса выявлять ее нужды и ожидания. Причем желательно учитывать не только жителей домов, расположенных поблизости, но и работников локальных бизнес-центров. Ведь, по сути, для магазина не так важно, доставлять продукты на дом человеку или ему в офис».
Доставка продуктов питания курьером или с помощью click & collect – это разные каналы доставки для разных типов заказов. «Статистика показывает, что 80% тех, кто сейчас заказывает продукты в постаматы, ни разу не пользовались доставкой курьером. Покупателю нужен выбор», – подытоживает Станислав Косоруков.
Алиса, ступай в магазин!
Из всех футуристичных решений одно кажется более реальным, нежели все остальные. Это голосовые помощники. По прогнозам, в 2019 году одной из главных тенденций в западном ритейле, прежде всего в e-commerce, станет заказ товаров и услуг именно через такого помощника.
Применение голосовых помощников вместе с традиционными интернет-витринами – вполне логичный тренд. В частности, для тех клиентов, кто не желает тратить время на набор текста и муки поиска информации, а хочет получить ответ здесь и сейчас. Появление подобных помощников в инструментарии отечественных ритейлеров – вопрос месяцев или даже дней. В этом уверен Дмитрий Смирнов: «Данная технология, возможно, несколько увеличит расходы ритейлера, но позволит ему выглядеть более технологичным на фоне конкурентов. А также привлечет заинтересованных покупателей. По крайней мере пока голосовой помощник не станет явлением повсеместным, из серии «так и должно быть». Но здесь следует понимать, что голосовой помощник – один из интерфейсов интернет-витрины, некая прослойка, стоящая между покупателем и продавцом в самом начале жизненного цикла заказа, или комментатор прохождения заказа по этапам жизненного цикла. Но это не инструмент на стороне продавца, регулирующий или как-то иначе влияющий на его внутренние процессы, в том числе на применение технологий и процессы сборки и доставки заказа. В конце цепочки жизненного цикла заказа все равно стоит человек: курьер или выдающий заказ продавец в магазине. Здесь, по-видимому, тоже нет места голосовому помощнику. Разве что подать рекламацию или выразить недовольство или, наоборот, восхищение качеством обслуживания и товаром».
«Я не исключаю возможности, что «Яндекс» может пролоббировать внедрение своего голосового помощника Алисы в мобильные приложения ритейлеров. Думаю, произойдет это или нет, мы уже точно узнаем в течение этого года», – предлагает немного подождать Андрей Мурадов.
Равнение на общепит
Исследование Nielsen показало, что в 2018 году средний чек за заказанную в Интернете еду практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах. Аналитики посчитали, что в ноябре 2018 года респонденты заказывали еду онлайн на 1250 рублей, а в местах общественного питания – на 1240 рублей.
Наибольший процент онлайн-потребителей заявили, что покупали одежду (52%), продукты для красоты и ухода за собой (35%), билеты на мероприятия (32%), электронику (32%), книги, музыку, прессу (32%), мобильные устройства (31%) и доставку готовой еды из ресторанов или мил-китов на дом (30%). Среди продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) помимо средств по уходу за собой в лидерах детские товары (их приобретали 19% опрошенных), товары для животных (13%) и чистящие средства для дома (9%).
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>
Когда по улицам столицы замелькали потоки желтых и зеленых курток курьеров с едой, невооруженным глазом стало видно: доставка еды так востребована клиентами, что ритейлу остаться в стороне от этой тенденции было бы странно. Впрочем, цифры показывают то же самое: за прошедший год рынок продаж продовольствия онлайн в России вырос почти в полтора раза (до 23 млрд руб.). Это заключают аналитики INFOLine в исследовании Russia Top Online Food Retail. [~PREVIEW_TEXT] => Когда по улицам столицы замелькали потоки желтых и зеленых курток курьеров с едой, невооруженным глазом стало видно: доставка еды так востребована клиентами, что ритейлу остаться в стороне от этой тенденции было бы странно. Впрочем, цифры показывают то же самое: за прошедший год рынок продаж продовольствия онлайн в России вырос почти в полтора раза (до 23 млрд руб.). Это заключают аналитики INFOLine в исследовании Russia Top Online Food Retail. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 3316 [TIMESTAMP_X] => 22.05.2019 19:10:06 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 518 [WIDTH] => 922 [FILE_SIZE] => 352571 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/3f5 [FILE_NAME] => 3f5cbc8cd290bec9fcd7a8232d888953.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1218121090.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 70449e24a52667f762eaf1e367b95f3a [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/3f5/3f5cbc8cd290bec9fcd7a8232d888953.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/3f5/3f5cbc8cd290bec9fcd7a8232d888953.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/3f5/3f5cbc8cd290bec9fcd7a8232d888953.jpg [ALT] => Тяжелая ноша [TITLE] => Тяжелая ноша ) [~PREVIEW_PICTURE] => 3316 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => tyazhelaya-nosha [~CODE] => tyazhelaya-nosha [EXTERNAL_ID] => 4961 [~EXTERNAL_ID] => 4961 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 22.05.2019 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Тяжелая ноша [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Тяжелая ноша [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Когда по улицам столицы замелькали потоки желтых и зеленых курток курьеров с едой, невооруженным глазом стало видно: доставка еды так востребована клиентами, что ритейлу остаться в стороне от этой тенденции было бы странно. Впрочем, цифры показывают то же самое: за прошедший год рынок продаж продовольствия онлайн в России вырос почти в полтора раза (до 23 млрд руб.). Это заключают аналитики INFOLine в исследовании Russia Top Online Food Retail. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Тяжелая ноша [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Тяжелая ноша | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [15] => Array ( [ID] => 4908 [~ID] => 4908 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Перевод с японского [~NAME] => Перевод с японского [ACTIVE_FROM_X] => 2019-04-16 21:31:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2019-04-16 21:31:00 [ACTIVE_FROM] => 16.04.2019 21:31:00 [~ACTIVE_FROM] => 16.04.2019 21:31:00 [TIMESTAMP_X] => 17.04.2019 23:23:59 [~TIMESTAMP_X] => 17.04.2019 23:23:59 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/perevod-s-yaponskogo/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/perevod-s-yaponskogo/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Муда, мура, андон и другие совсем не ругательные, а вовсе даже приличные иностранные слова, ошибочно кажущиеся такими знакомыми для русского уха... Если мы не лингвисты, то зачем они нам? Бизнес-тренеры уверяют – нужны! И производственные компании с ними согласны. Далеко не первый год первые лица корпораций учат, что же такое 5S, TPM и даже пока-йока. А теперь и ритейл начал вникать в эти дебри. Посмотрим на них поближе.

Все термины, которые мы только что перечислили, принадлежат системе Lean. Сама система Lean выросла из принципов работы японской компании Toyota. Абсолютно все, кто говорит про Lean или пишет про систему книги, начинает с этого: «Жила-была Toyota и жила она в стране, у которой почти не было природных ресурсов, да еще там только что завершилась Вторая мировая война; и все было бы плохо, но тут Toyota собралась и придумала, как ей жить и работать дальше, причем жить хорошо, а работать еще лучше».
Так появилась TPS, или Toyota Production System. На нее посмотрели американцы, пересказали у себя, назвали систему Lean. Но подождите, давайте вернемся обратно! И японцы не все сами придумали, они сначала посмотрели, что делают американцы и даже русские. И только тогда уже придумали. В общем, первые несколько страниц всех книг посвящены этой исторической кутерьме и связям в духе «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова».
После выяснений, кто кого родил, идут объяснения терминов. Встречаются такие логические построения, как «муда первого рода, муда второго рода и муда происходит вследствие муры». В общем, любой русскоязычный человек подтвердит, что в жизни именно так и бывает. Однако к пониманию сути системы его это не приблизит.
Все, больше ни одного непонятного термина всуе мы не употребим. На самом деле речь идет об очень простой вещи. Вы наверняка встречали практические советы для повседневной жизни, которые особенно ловкие товарищи объединяют в систему и начинают проповедовать, издавая красивые книги с картинками. Советы в духе «нет места в шкафу – выкинь то, что тебе мало»; «все равно места не хватает – сверни все футболки рулончиками»; «хочешь быстро находить ансамбли – разложи всю одежду по цветам»; «часто пользуешься – положи ближе»; «летом засунь свитера подальше». Рекомендации очевидные, не правда ли? Но посмотрите в свой шкаф. Там все разложено по цветам и сезонам? Или там куча, засунутая кое-как и грозящая обвалиться в любой момент, когда вы тянете на себя футболку из самого дальнего угла (и она там не в рулончик свернута, ой не в рулончик!).
Примерно такие же советы есть по вопросам организации труда и общего функционирования компании. Если их собрать в систему, то может получиться разное. В СССР возникла НОТ – научная организация труда. В США – Lean, или «бережливое производство». В Японии – TPS. Названия разные, а цель одна: улучшить рабочие места, рационализировать труд и правильно подготовить сотрудников к работе.
Про научную организацию труда у нас забыли, и, я думаю, нет нужды говорить, почему. Зато стали постепенно смотреть на запад и восток – а как у них? И перенимать методы. Сейчас не особенно разделяют системы TPS и Lean. Наоборот, Lean как система вобрала в себя все принципы и термины, поэтому дальше мы будем говорить только про нее.
За что нам платят?
В чем суть? В том, чтобы найти ресурсы к улучшению не снаружи, а внутри компании. Не покупать новые инструменты, не внедрять новые ИТ-системы, не раздувать штат, а найти внутри течь, дыру, через которые убегают деньги и силы, и тем самым сберечь и то и другое – отсюда термин «бережливое производство». В Lean этот процесс называется поиском потерь.
Для начала компания определяет для себя, что именно в ее деятельности составляет ценность для клиента, за что он готов ей платить, а что – просто побочный результат этой деятельности. Это лучше всего объяснять на каком-нибудь примере. Допустим, пассажир сел в такси и едет. Это для него – ценность, он именно за это и платит, за каждую минуту, проведенную в чужом автомобиле. Но вот посреди поездки таксист заехал на заправку, потому что кончился бензин. Пассажир ждет 15 минут. Он сидит все в той же машине, но ценность в это время для него полностью улетучилась. Хочет ли он оплатить таксисту эти 15 минут? Наоборот. Вот этот участок пути и есть потеря в обслуживании. Это очень наглядный пример. В корпорации же такие потери можно выискивать, находить потери неочевидные, вылавливать их по одной, как блох, и так до бесконечности. Отсюда вытекает следующий принцип Lean – непрерывные улучшения. Причем в этом процессе должны участвовать абсолютно все, кто работает в компании, и так всю жизнь. Lean – как зарядка по утрам. Нельзя сделать один раз в год и на этом успокоиться.
В системе еще много самых разных принципов. Например, ориентация на потребителя, гибкость, «вытягивающее производство» (когда говорят «нет» огромным запасам на складах, незавершенному производству, и «да» – работе под проект, под заказ, по надобности и по запросу отдела, чтобы ни одной ниточки даром не произвести и не выкинуть без пользы), определенный порядок на рабочем месте, визуализация, когда все подписано, отделено друг от друга, наглядно, когда картинки такие, что работник, глядя на них, не может ошибиться и что-то перепутать.
О таких подробностях лучше читать книги, потому что каждый принцип там разжеван и проиллюстрирован примерами из практики. Мы же лучше задумаемся вот о чем. Система выглядит разумно и здорово. Более того, она настолько соответствует здравому смыслу, что, узнавая о ее принципах, мы даже можем воскликнуть: о, так я примерно так и хотел сделать у себя! И самое приятное: неважно, где это «у себя». Lean как методология возникла на производстве, но оказалась применима к самым разным рабочим сферам: ее внедряют даже в больницах! «Ни у одной из методологий практически нет жестко зафиксированной области применения: SCRUM применяется для обучения детей в школе, а с помощью Lean повышается качество приема звонков колл-центра. Но на то, чтобы бизнес стал получать реальную ценность от кайдзена или холократии, уходит много ресурсов: ведь потребуются значительные изменения в принципах работы, образе мышления», – говорит Денис Напалков, бизнес-архитектор службы организационного развития компании ICL Services.
Ритейл не стал отставать от других и тоже обратил внимание на методологию. «Есть поветрия, а есть вещи долгосрочные, которые уже пережили не один десяток лет, и Lean Production – как раз такая вещь, – размышляет Евгений Рачков, директор консалтинговой группы Lean Consult. – Реально работающих концептуальных методик сейчас по большому счету всего три: это «Бережливое производство», «Шесть Сигм» и «Теория ограничений систем» Элияху Голдратта. Остальные живут от пяти до 15 лет: они приходят, ими увлекаются, на них зарабатывают, и они потихоньку растворяются. В то время как серьезные западные компании, даже среднего масштаба, но с западным мышлением, работают по принципам Lean. В США примерно 60% компаний внедряют у себя методологию. В Японии – около 30%. В России же сложно сказать, но боюсь, что это всего несколько процентов, больше не наберем».
«Пока в российской среде мало успешных кейсов, – соглашается Денис Тверской, руководитель направления «Дистанционное обучение» компании «Топ Менеджмент Консалт». – Хотя в производственном секторе Lean внедряется почти 20 лет, а в секторе сервиса/услуг – более 12 лет».
Если во всем мире так, почему же у нас не хотят последовать вполне разумной методологии? С одной стороны, вполне хотят. Так, разные производители внедряют у себя систему на производстве. Пивоваренная компания «Балтика» не только пытается работать по принципам Lean, но даже показывает результат другим организациям, периодически проводя на территории заводов экскурсии, в ходе которых желающие могут увидеть, как действует Lean на практике.
В основном принципы и инструменты Lean в компании «Балтика» внедряются в цепочке поставок: производстве и логистике. «В распоряжении данной концепции есть богатый инструментарий, который помогает разложить любой рутинный процесс на «молекулы», выявить тренды, закономерности, определить, как этот процесс должен быть организован в идеале и какие неэффективности присутствуют в каждом конкретном случае», – рассказывает Иван Комаров, начальник отдела по повышению эффективности бизнес-процессов функции производства региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика», части Carlsberg Group. По его словам, данная система включает в себя несколько основ, например, соответствие базовым принципам и стандартам компании, лидерство и организационный дизайн. В дополнение к этому существуют отдельные направления, каждое из которых нацелено на решение целого ряда задач: внедрить культуру безопасности и качества в компании, развить автономное техническое обслуживание оборудования, научиться видеть все потери и уметь устранять их, а также выстроить систему обучения и развития сотрудников, которая отвечает вызовам рынка и необходимым для этого навыкам и компетенциям.
Если говорить о ритейле, то здесь не остались в стороне самые крупные игроки рынка. «Практика Lean внедрена во всех странах присутствия Auchan Retail. В России она действует во всех форматах магазинов, – говорит Игорь Кривошеев, директор по проектам «Ашан Ритейл Россия». – Команда внедрения уже обучила более 1000 сотрудников магазинов основам Lean-менеджмента, благодаря которым они научились смотреть на свою работу через призму постоянного совершенствования. В рамках этого проекта были разработаны и внедрены стандарты, улучшающие работу магазинов в трех направлениях: менеджмент, организация и процессы. Внедрение Lean для деятельности сервисных служб (back-office) запускается в этом году».
Однако это всего несколько примеров. Количество проектов с Lean в ритейле можно пересчитать по пальцам одной руки.
Не винтики, а люди
Вернемся к первоначальному вопросу. Теория есть, и она работает на практике, только не у нас. В ходе Российской недели ритейла этим летом была проведена целая секция, посвященная Lean, но называлась она примечательно: «Бережливый ритейл – недооцененный в России тренд». Что является основной причиной такого невнимания? «Когда я десять лет начинал консультировать компании по методологии Lean, то полагал, что основные проблемы будут с нижним звеном, думал, что новые идеи работники будут саботировать, потому что они недостаточно образованные, «темные». Ничего подобного! Часто самые «темные» и негибкие товарищи находятся наверху», – констатирует Евгений Рачков.
«Lean management – это не только методология, но и образ мышления, – подчеркивает Игорь Кривошеев. – Изменить образ мышления за 6–10 недель внедрения невозможно, эта работа должна быть постоянной и регулярно рекламируемой, в первую очередь высшим руководством с применением действенных мотивационных инструментов».
У кого бы мы ни спрашивали, что нужно для внедрения, все эксперты говорили в один голос – только политическая воля руководства. «Основная проблема освоения Lean для любой компании, будь то ритейлер или производитель, такой как «Балтика», это приверженность руководства принципам этой концепции, – замечает Иван Комаров. – Руководство компании должно понимать фундаментальность этих постулатов. С самого начала важно заручиться поддержкой топ-менеджмента, первые люди компании должны всячески подчеркивать и распространять принципы Lean в своих посланиях и в корпоративной рутине, только тогда концепция начнет работать. Увлеченность Lean может быстро смениться разочарованием, потому что данная концепция не дает быстрых результатов, чего все обычно ждут. Руководители должны обладать определенной мудростью, чтобы не отказаться от заявленных принципов, когда увидят, что результаты появятся далеко не сразу».
Считается, что Lean у нас не приживается, потому что у нас не такие работники, не такая «почва» для нововедений и вообще все не такое, как в Японии (логично!). Полагают, что нам мешает российский менталитет. «У нас любят говорить, что нашим «танцорам» менталитет мешает. У меня есть на это возражение, – замечает Сергей Смирнов, генеральный директор Национального центра производительности. – На российский рынок с нашим якобы особым российским менталитетом приходят западные компании и спокойно строят тут компании, которые становятся вполне конкурентноспособными, с качественным продуктом».
Если мы посмотрим на историю Lean, то увидим: нигде не было легко внедрять новую методологию. Когда Ацуси Ниими, бывший президент Toyota, в Северной Америке обучал американских управленцев, то заметил, что самое трудное в этом деле было изменить их мышление. «Они хотели руководить, а не учить», – говорил он, в то время как в Toyota в Японии утверждали: «В первую очередь мы делаем не машины, а людей».
Если рыба гниет с головы, то вполне естественно предположить, что и оздоровление она должна начинать тоже с головы. «Если руководитель не разделяет ценности бережливого производства, если в его картине мира люди – это винтики, то ничего не выйдет в принципе, – уверен Евгений Рачков. – Вся бизнес-система должна самообучаться: от верхнего звена к нижнему. Все люди должны участвовать и думать. А винтики не думают, винтики исполняют свою маленькую роль».

Ищем выгоду для всех
У Lean есть как минимум несколько уровней реализации. Первый уровень – это та самая политическая воля руководителя. Именно руководитель задается вопросами о том, как сделать бизнес эффективнее; можно ли добиться улучшения показателей без дополнительных инвестиций в оборудование. Второй уровень – это межфункциональное взаимодействие. Об этом рассказывает Сергей Смирнов: «Внедрение Lean – это не проект отдельного подразделения, а проект всей команды в компании. Ведь у нас как бывает? Руководство решило внедрять, назначило пилотный участок и давай наводить там порядок. А вся остальная система работает так же, как и раньше, и смотрит на этих чудаков с неодобрением: мол, какие улучшения, тут работать надо, план горит! А ведь потери можно найти абсолютно во всех отделах, даже в каком-нибудь далеком HR-отделе, хотя они, казалось бы, ничего не производят и с покупателями не общаются. Но на каждом этапе по рекрутингу, по найму, по оформлению документов мы легко найдем кучу потерь. Если мы посмотрим на службу, которая отвечает за работу оборудования, то увидим, что потери и место для непрерывного улучшения есть и там».
Третий уровень – вовлечение всех сотрудников. Они должны четко увидеть, что получат лично они на своих рабочих местах, и должны понять, почему им стоит участвовать в проекте под названием Lean. «Многие работники говорят: «Не надо нас мотивировать. Прекратите демотивировать», – делится наблюдениями Сергей Смирнов. – Ведь тут есть один тонкий момент. Вот внесли они рационализаторское предложение, реально что-то улучшили и начали работать. Что происходит дальше? Знаете? А я вам скажу. Через три недели приходит нормировщик и пересматривает им нормы. Я спрашиваю: коллеги, а если вам вот так нормы пересмотрят, вы лично будете еще раз подавать рацпредложение? Или лучше будете сидеть тихо? Вы хотите получить экономическую прибыль, платя меньшие зарплаты? Или мы о другом все-таки говорим? Ведь на этом этапе можно легко обрубить любую творческую деятельность на местах».
Тише едешь – дальше будешь
Очевидно, что Lean дает хорошие результаты при высоком вовлечении топ-менеджмента компании, и при этом ей нужно время. «Мы пока еще не научились думать стратегически на несколько лет вперед, – объясняет Денис Тверской. – Новые возможности, которые нам открываются благодаря техническому прогрессу, заставляют думать о прибыли, которую можно получить прямо сейчас или хотя бы в ближайшем будущем. На бизнес влияет боязнь перемен, связанных с политикой, ситуацией и взаимоотношениями с другими странами. Мы боимся вкладывать капитал в развитие компании и повышение дохода в относительно рискованном будущем, если есть альтернатива получения прибыли быстро».
Как долго придется ждать? ««Когда мы говорим про культуру, мышление, то нужно понимать – это вещи очень инертные. Когда я внедрял систему «бережливого производства» в своих компаниях, то видел возникновение четких, устойчивых моделей поведения через полтора-два года, и это при учете того, что занимался этим последовательно и регулярно», – рассуждает Евгений Рачков.
В компании «Балтика» концепция Lean стала активно внедряться в производственную цепочку с 2012 года. Прошло почти семь лет. «За то время, пока мы внедряем бережливое производство, в компании произошли настоящие ментальные изменения. Даже непрофессионалы могут видеть различия между предприятием, которое на практике применяет концепцию бережливого производства, и тем, которое только декларирует ее внедрение, – воодушевлен Иван Комаров. – Теперь мы можем говорить о существенном развитии культуры безопасности и системы качества, росте производительности труда и надежности работы оборудования. Внедрение Lean позволило улучшить эргономику рабочих мест, снизить количество поломок, неисправностей и технических простоев на оборудовании, что влечет за собой сокращение издержек и рост производительности труда. Сама по себе Lean не дает результат моментально, и если вся компания привержена ее принципам, то первые плоды начинают появляться через несколько лет. Изменения в рабочих процессах «Балтики», связанные с внедрением Lean, сейчас заложены в «ДНК» компании, а такие вещи не происходят по щелчку пальцев».
«Российский бизнес привык мерить все дисконтными мерками, а в философии Lean надо мыслить тактически, – добавляет Антон Мартьянов, директор по цифровой трансформации, группа компаний D.O.L.G. – Кто будет первым, тот получит некое неожиданное для рынка конкурентное преимущество и вырвется в лидеры».
Учись, мой сын
Один из краеугольных камней Lean – это обучение сотрудников прямо на производстве (TWI, или Training Within Industry). «Программы TWI значительно повлияли на развитие концепции Lean. TWI можно назвать корнями Lean, хотя и не единственными, потому что отличительные черты бережливого производства сформировались под воздействием многих факторов. Применение TWI помогает в решении части проблем. Например, оно полезно в области обучения людей, совершенствования технологии работы, создания среды постоянных улучшений», – говорит Денис Напалков.
Обучение на производстве противостоит такому явлению, как «кривая жизнеспособности». Ее проводником в жизнь был американский бизнесмен Джек Уэлч, который помимо прочего 20 лет управлял компанией General Motors в качестве генерального директора. С одной стороны, ему принадлежат цитаты вроде «пока ты не лидер, твой успех в том, чтобы развивать себя; когда ты становишься лидером, твой успех в том, чтобы развивать других». С другой – господин Уэлч подсчитал, что в любой организации есть 10% «паршивых овец», от которых надо немедленно избавляться. Звучит в общем-то разумно. Но Джек Уэлч избавлялся от этих процентов каждый год, выискивая все новые 10% в уже просеянном коллективе. Компании, которые пытались действовать так же (некоторые до сих пор пытаются), довольно быстро обнаруживали все минусы подобного подхода. Джека Уэлча назвали «управленцем №1» по версии журнала Future, в то время как в народе его звали «нейтронным Джеком», сравнивая этот стиль управления с нейтронной бомбой, которая уничтожает все живое, а здания оставляет целыми. Но Уэлч не особенно волновался по поводу чьих-то там мнений. «Вы становитесь управленцем не для того, чтобы всем нравиться, а для того, чтобы управлять», – говорил он.
«За любым инцидентом на предприятии стоят навыки сотрудников, а точнее, их отсутствие. Но сотрудников нужно обучать, а не выкидывать за борт. А если ученик не научился, значит, инструктор не научил. Дело в том, что если я как инструктор соблюдаю стандарт обучения, а ученик достаточно мотивирован, то он не может не усвоить тот или иной навык. Бывает, что люди сомневаются, говорят, что бывают вообще необучаемые. Я им отвечаю – не бывает! Это вы не доработали, – восклицает Сергей Смирнов. – При этом я считаю, что нет и таких, которые не предрасположены к обучению других. Все люди могут обучать».
Lean Production – это прежде всего изменение культуры мышления и поведения. Чтобы достичь этого изменения, нужно заложить базу, подготовить почву, в том числе и с помощью TWI. «Но, наверное, вы и сами знаете, насколько в России «любят» инвестировать в персонал, – смеется Евгений Рачков. – Все боятся инвестировать в работника, который может убежать на сторону сразу после того, как компания в него вложится. Многие руководители считают, что в оборудование или даже в софт вкладываться надежнее – у них ног нет. Это основное препятствие для руководителя в данном вопросе, потому что вложиться в персонал – это вообще-то недешево».
По словам Сергея Смирнова, обучать сотрудников на производстве стоит даже тем ритейлерам, которые боятся вкладываться в обучение из-за текучки кадров. «Мы реализовывали у одного ритейлера программу TWI. Это основа, то, из чего выросла система Lean. Наша программа была направлена на анализ и развитие трудовых навыков сотрудников, потому что показатели компании, допустим, по количеству претензий от покупателей, являются вполне объективным критерием уровня подготовленности его работников. В рамках программы мы обучили директоров, те, в свою очередь, обучили продавцов и кассиров, и буквально на следующий день у них растет средний чек, повышается оценка лояльности клиентов (по сведениям от «тайных покупателей»). Если ритейлу страшно вкладываться в сотрудников из-за текучки, то пусть посмотрят на компанию McDonlald’s: громаднейшая сеть, 32 тыс. ресторанов по всему миру. И у них с текучкой кадров ситуация не лучше, чем у других: порядка 30%, и это все признают. При этом задача бизнеса – обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов в своем сегменте. И заметьте, они приходят в любую страну, с любым менталитетом и с любыми сотрудниками, а качество обеспечивают по стандарту. Потому что у них есть методы, которые обеспечивают быстрый и качественный ввод любого специалиста в дело. Через четыре – восемь часов сотрудник стоит и выполняет свои обязанности так, как положено».
А вот отзыв от фабрики «Большевик», чьи сотрудники прошли такое обучение. Рассказывает Дмитрий Шаченок, директор: «Я считаю, что мы научили людей обучать других. Это наш главный результат, что теперь, когда мы начали внедрять бережливое производство, становится особенно очевидно. Мы создали базу, поэтому традиционного шока, какой бывает от внедрения Lean, у нас не произошло».
TWI – это недостающее звено в системе бережливого производства. Во многих компаниях без TWI-программы просто не начинают вводить Lean, потому что не сработает. «Обучение Lean в чистом виде действительно даст слабый эффект, – говорит Денис Тверской. – Приведу пример, но не буду называть бренд, однако поверьте: он знаком большинству читателей. Компания с 2013 года пытается внедрить Lean. Взяли в штат достаточно успешного руководителя на высокую должность. Но у него не было практического опыта применения Lean, хотя теорию он знал на отлично. А средний менеджмент не владел управленческими навыками, но в своем сегменте они были отличными специалистами. К чему все это привело? Взятый на руководящий пост директор по Lean не смог донести важность и пользу этой технологии до всех руководителей среднего звена. А те, кто понял, уже не смогли распространить эти знания и воплотить в жизнь на своем уровне. Результатом стали только красивые картинки и листы аудитов двухмесячной давности. А ведь за все это компания заплатила немалые деньги».
Поле боя
Очень важно помнить, что методология – это не то же самое, что инструмент. Это не молоток, который либо забивает гвозди, либо лежит на полке. Для успешного освоения Lean в любой компании должно быть глубокое понимание методологии и сфер ее применения внутри организации. «Часто в компаниях внедряются отдельные инструменты Lean, которые без создания культуры постоянного улучшения либо не дают результатов совсем, либо имеют краткосрочный эффект», – делится опытом Игорь Кривошеев.
Есть у нас и еще одна проблема, которая мешает эффективному применению системы на практике. «В России есть особенность: мы нация, ориентированная на технику. Не на технологию, а именно на технику, обратите внимание! Мы можем подковать блоху, но не можем сделать технологию подковки блох, – рассуждает Евгений Рачков. – И поскольку мы нация техническая, то мы очень сильно любим всякие инструменты. Большинство запросов от бизнеса такие: «Дайте нам инструменты!» А в «бережливом производстве» суть не в инструментах. Инструменты, конечно, нужны и их достаточно много. Но главное в этой системе, на мой взгляд, – это сформировать культуру и мышление самоорганизующейся, самообучающейся и саморазвивающейся организации. И сделать это гораздо сложнее, чем просто освоить набор инструментов».
Когда говорят Lean или «бережливое производство», то, особенно у русскоговорящих, могут сложиться неверные представления: «Под словом Lean нужно понимать гораздо больше. Вводят понятие «производственная система», но из-за привычного звучания у незнающих складывается ощущение, что речь идет только о производстве. Поэтому лично я предпочитаю выражение «операционная эффективность», – объясняет Денис Тверской.
Lean – самый эффективный способ для снижения себестоимости продукции или услуги. По той причине, что именно эта методология позволяет очень оперативно реагировать на изменение рынка. Об этом говорит Денис Тверской: «Возьмем компанию Zara, которая является, безусловно, лидером в своем сегменте. А сегмент этот, как мы знаем, очень изменчив, ведь вещь, которая была в тренде, и ее покупали месяц назад, сегодня уже никому не нужна. Находясь в секторе масс-маркета, сложно работать «под заказ», так как время здесь крайне важно: не успел вывести новую коллекцию, клиенты пойдут и купят похожую модель у конкурентов, а когда она окажется у нас на прилавке, не будет никому нужна. Поэтому у компании Zara очень грамотно и правильно построена система обратной связи с клиентами, которая помогает быстро реагировать на изменение рынка. Под эту же систему построена и поделена на этапы потоковая система производства».
Чтобы не сложилось ощущения, что система неприменима нигде, кроме заводов, мы спросили у представителей компании «Ашан», каким образом именно продуктовый ритейл может применить у себя Lean? Не слишком ли это сложно на практике? Отвечает Игорь Кривошеев: «В современном ритейле есть собственное производство, логистика, клиентский сервис, e-commerce, взаимодействие с поставщиками, ИТ, а еще вдобавок ко всему неэффективно выстроенные процессы в back-office. Со всеми техническими заданиями процессов ритейл – это короткие повторяющиеся циклы со своими измеримыми показателями эффективности и со своей ценой. При этом работа над улучшениями в каждом из названных элементов не требует каких-то особенных знаний, которых нет внутри компании. Исходя из этих пунктов мы уже видим, что ритейл – это отличное поле применения Lean».
Краткий словарь некоторых терминов Lean
Поток создания ценности – все действия, как создающие ценность, так и не создающие ее: от разработки концепции продукта до запуска в производство и от принятия заказа до доставки, а также обработка информации, полученной от клиента, и операции по преобразованию продукта по мере его продвижения к клиенту.
Потери – любое действие, которое потребляет ресурсы, но не создает ценности для клиента.
Анализ узких мест – определение этапа производственного процесса, который снижает общую производительность, и проведение улучшений на этом этапе.
Система 5С – принципы организации рабочих мест с целью устранения потерь и стандартизации рабочих мест путем наведения порядка, поддержания чистоты на рабочих местах и соблюдения дисциплины персоналом.
Кайдзен – непрерывное улучшение. Японская практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни.
Канбан – визуализация рабочего процесса с помощью карточек. Карты нужны, чтобы команда всегда понимала, какие задачи могут подождать, а над какими необходимо работать прямо сейчас.
Пока-йока – защита от ошибок. Сотрудники не должны замалчивать и скрывать ошибки, дефекты, не должны относиться к ним как к нормальному явлению. Чем скорее обнаружится брак, дефект или ошибка – тем лучше для всех.
Виды потерь в системе Lean
• Ожидание
• Транспортировка
• Перемещения
• Перепроизводство
• Излишние запасы
• Излишняя обработка
• Дефекты
• Нереализованный потенциал сотрудников
Несколько факторов успеха для внедрения Lean (по версии компании «Ашан»)
1. Поддержка руководства. Внедрение Lean-мышления начинается с руководства компании. Это должно выражаться в целеполагании, управлении командой, ежедневных коммуникациях и демонстрации умения ее использования.
2. Мотивация внутренняя. Сотрудники должны понимать, зачем они это делают, и внутренне принять принцип постоянного улучшения. Для этого команда внедрения проводит замеры основных KPI деятельности до внедрения Lean и после. Как правило, положительный результат производит очень сильное впечатление на сотрудников магазина, и это дает первичный «заряд» для дальнейших действий в этом направлении.
3. Мотивация финансовая. Качество работы по Lean можно измерить. Пример: количество жалоб от клиентов, объем списаний в рублях, OOS (Out of stock), размер стока и т.д. Ежеквартальные улучшения по всем этим показателям должны быть непосредственно связаны с бонусной системой, ведь финансовая составляющая всегда была и будет мощным инструментом мотивации.
Практика магазинов «Ашан»
Внедрение Lean продиктовало следующие изменения на местах:
• Внедрены визуальные инструменты. Например, созданы информационные стенды для сотрудников в рабочей зоне магазина. Такие инструменты позволили оптимизировать нагрузку на сотрудников магазина, сопоставить графики, наладить коммуникацию между сменами, сделать доступными KPI деятельности магазина, осуществить краткосрочное планирование. За счет визуализации деятельность магазина становится прозрачной, и именно это является базой для определения областей, которые нуждаются в улучшении силами самих сотрудников каждого конкретного магазина.
• Проведена стандартизация процессов заказа, выкладки, списания, работы с промо и отсутствием товара на полке. Это позволяет магазинам обмениваться лучшими идеями и быть уверенными, что они применимы.
• Введена 5S (система организации рабочего пространства). Например, устроены выкатные ящики под полками, где хранятся инструменты, которыми ежедневно пользуются сотрудники торгового зала. Отведены места для хранения стремянок. Удобнее организована работа с палетами и штучным товаром на складах магазинов. Проделано множество подобных улучшений, и улучшения продолжают ежедневно внедряться сотрудниками магазинов, – все это без участия центрального офиса и привлечения сторонних консультантов.
Риски при внедрении Lean (по версии компании «Балтика»)
1. Нельзя становиться на неправильный путь, когда под видом Lean происходит просто сокращение операционных издержек без изменения бизнес-процессов. Происходит дискредитация бережливого производства, и наступает разочарование в этой концепции, персонал видит в ней лишь массовые сокращения.
2. Необходимо формирование стратегии внедрения, а не точечное использование Lean.
3. Нужно терпение, понимание того, что результат придет не быстро. Если сегодня мы закладываем фундамент, то плоды применения Lean сможем видеть только через несколько лет. Поэтому очень важно заложить этот фундамент в успешные для компании времена, когда на это есть ресурсы, а не во времена спада, когда руководство начинает задумываться о повышении эффективности и экономии.
Риски при внедрении Lean (по версии компании «Топ Менеджмент Консалт»)
1. Обучение персонала происходит ради флага с надписью «Мы внедряем Lean». Такая практика никогда не даст результата, вместо эффекта мы получим демотивацию персонала и неправильное понимание самой сути Lean.
2. Быстрое необдуманное применение всего подряд. В глазах инициаторов это может выглядеть блицкригом, тогда как в глазах персонала и компании – очередной безумной идеей руководства.
3. Ориентация на теорию/теоретика. Метод проб и ошибок можно рассматривать как альтернативу, но в ритейле, где своя специфика и высокие скорости реакции на клиента, такой подход губителен. Самое здравое решение – внедрение вместе с практиками, знающими рынок, среду и специфику.
[~DETAIL_TEXT] =>
Муда, мура, андон и другие совсем не ругательные, а вовсе даже приличные иностранные слова, ошибочно кажущиеся такими знакомыми для русского уха... Если мы не лингвисты, то зачем они нам? Бизнес-тренеры уверяют – нужны! И производственные компании с ними согласны. Далеко не первый год первые лица корпораций учат, что же такое 5S, TPM и даже пока-йока. А теперь и ритейл начал вникать в эти дебри. Посмотрим на них поближе.

Все термины, которые мы только что перечислили, принадлежат системе Lean. Сама система Lean выросла из принципов работы японской компании Toyota. Абсолютно все, кто говорит про Lean или пишет про систему книги, начинает с этого: «Жила-была Toyota и жила она в стране, у которой почти не было природных ресурсов, да еще там только что завершилась Вторая мировая война; и все было бы плохо, но тут Toyota собралась и придумала, как ей жить и работать дальше, причем жить хорошо, а работать еще лучше».
Так появилась TPS, или Toyota Production System. На нее посмотрели американцы, пересказали у себя, назвали систему Lean. Но подождите, давайте вернемся обратно! И японцы не все сами придумали, они сначала посмотрели, что делают американцы и даже русские. И только тогда уже придумали. В общем, первые несколько страниц всех книг посвящены этой исторической кутерьме и связям в духе «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова».
После выяснений, кто кого родил, идут объяснения терминов. Встречаются такие логические построения, как «муда первого рода, муда второго рода и муда происходит вследствие муры». В общем, любой русскоязычный человек подтвердит, что в жизни именно так и бывает. Однако к пониманию сути системы его это не приблизит.
Все, больше ни одного непонятного термина всуе мы не употребим. На самом деле речь идет об очень простой вещи. Вы наверняка встречали практические советы для повседневной жизни, которые особенно ловкие товарищи объединяют в систему и начинают проповедовать, издавая красивые книги с картинками. Советы в духе «нет места в шкафу – выкинь то, что тебе мало»; «все равно места не хватает – сверни все футболки рулончиками»; «хочешь быстро находить ансамбли – разложи всю одежду по цветам»; «часто пользуешься – положи ближе»; «летом засунь свитера подальше». Рекомендации очевидные, не правда ли? Но посмотрите в свой шкаф. Там все разложено по цветам и сезонам? Или там куча, засунутая кое-как и грозящая обвалиться в любой момент, когда вы тянете на себя футболку из самого дальнего угла (и она там не в рулончик свернута, ой не в рулончик!).
Примерно такие же советы есть по вопросам организации труда и общего функционирования компании. Если их собрать в систему, то может получиться разное. В СССР возникла НОТ – научная организация труда. В США – Lean, или «бережливое производство». В Японии – TPS. Названия разные, а цель одна: улучшить рабочие места, рационализировать труд и правильно подготовить сотрудников к работе.
Про научную организацию труда у нас забыли, и, я думаю, нет нужды говорить, почему. Зато стали постепенно смотреть на запад и восток – а как у них? И перенимать методы. Сейчас не особенно разделяют системы TPS и Lean. Наоборот, Lean как система вобрала в себя все принципы и термины, поэтому дальше мы будем говорить только про нее.
За что нам платят?
В чем суть? В том, чтобы найти ресурсы к улучшению не снаружи, а внутри компании. Не покупать новые инструменты, не внедрять новые ИТ-системы, не раздувать штат, а найти внутри течь, дыру, через которые убегают деньги и силы, и тем самым сберечь и то и другое – отсюда термин «бережливое производство». В Lean этот процесс называется поиском потерь.
Для начала компания определяет для себя, что именно в ее деятельности составляет ценность для клиента, за что он готов ей платить, а что – просто побочный результат этой деятельности. Это лучше всего объяснять на каком-нибудь примере. Допустим, пассажир сел в такси и едет. Это для него – ценность, он именно за это и платит, за каждую минуту, проведенную в чужом автомобиле. Но вот посреди поездки таксист заехал на заправку, потому что кончился бензин. Пассажир ждет 15 минут. Он сидит все в той же машине, но ценность в это время для него полностью улетучилась. Хочет ли он оплатить таксисту эти 15 минут? Наоборот. Вот этот участок пути и есть потеря в обслуживании. Это очень наглядный пример. В корпорации же такие потери можно выискивать, находить потери неочевидные, вылавливать их по одной, как блох, и так до бесконечности. Отсюда вытекает следующий принцип Lean – непрерывные улучшения. Причем в этом процессе должны участвовать абсолютно все, кто работает в компании, и так всю жизнь. Lean – как зарядка по утрам. Нельзя сделать один раз в год и на этом успокоиться.
В системе еще много самых разных принципов. Например, ориентация на потребителя, гибкость, «вытягивающее производство» (когда говорят «нет» огромным запасам на складах, незавершенному производству, и «да» – работе под проект, под заказ, по надобности и по запросу отдела, чтобы ни одной ниточки даром не произвести и не выкинуть без пользы), определенный порядок на рабочем месте, визуализация, когда все подписано, отделено друг от друга, наглядно, когда картинки такие, что работник, глядя на них, не может ошибиться и что-то перепутать.
О таких подробностях лучше читать книги, потому что каждый принцип там разжеван и проиллюстрирован примерами из практики. Мы же лучше задумаемся вот о чем. Система выглядит разумно и здорово. Более того, она настолько соответствует здравому смыслу, что, узнавая о ее принципах, мы даже можем воскликнуть: о, так я примерно так и хотел сделать у себя! И самое приятное: неважно, где это «у себя». Lean как методология возникла на производстве, но оказалась применима к самым разным рабочим сферам: ее внедряют даже в больницах! «Ни у одной из методологий практически нет жестко зафиксированной области применения: SCRUM применяется для обучения детей в школе, а с помощью Lean повышается качество приема звонков колл-центра. Но на то, чтобы бизнес стал получать реальную ценность от кайдзена или холократии, уходит много ресурсов: ведь потребуются значительные изменения в принципах работы, образе мышления», – говорит Денис Напалков, бизнес-архитектор службы организационного развития компании ICL Services.
Ритейл не стал отставать от других и тоже обратил внимание на методологию. «Есть поветрия, а есть вещи долгосрочные, которые уже пережили не один десяток лет, и Lean Production – как раз такая вещь, – размышляет Евгений Рачков, директор консалтинговой группы Lean Consult. – Реально работающих концептуальных методик сейчас по большому счету всего три: это «Бережливое производство», «Шесть Сигм» и «Теория ограничений систем» Элияху Голдратта. Остальные живут от пяти до 15 лет: они приходят, ими увлекаются, на них зарабатывают, и они потихоньку растворяются. В то время как серьезные западные компании, даже среднего масштаба, но с западным мышлением, работают по принципам Lean. В США примерно 60% компаний внедряют у себя методологию. В Японии – около 30%. В России же сложно сказать, но боюсь, что это всего несколько процентов, больше не наберем».
«Пока в российской среде мало успешных кейсов, – соглашается Денис Тверской, руководитель направления «Дистанционное обучение» компании «Топ Менеджмент Консалт». – Хотя в производственном секторе Lean внедряется почти 20 лет, а в секторе сервиса/услуг – более 12 лет».
Если во всем мире так, почему же у нас не хотят последовать вполне разумной методологии? С одной стороны, вполне хотят. Так, разные производители внедряют у себя систему на производстве. Пивоваренная компания «Балтика» не только пытается работать по принципам Lean, но даже показывает результат другим организациям, периодически проводя на территории заводов экскурсии, в ходе которых желающие могут увидеть, как действует Lean на практике.
В основном принципы и инструменты Lean в компании «Балтика» внедряются в цепочке поставок: производстве и логистике. «В распоряжении данной концепции есть богатый инструментарий, который помогает разложить любой рутинный процесс на «молекулы», выявить тренды, закономерности, определить, как этот процесс должен быть организован в идеале и какие неэффективности присутствуют в каждом конкретном случае», – рассказывает Иван Комаров, начальник отдела по повышению эффективности бизнес-процессов функции производства региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика», части Carlsberg Group. По его словам, данная система включает в себя несколько основ, например, соответствие базовым принципам и стандартам компании, лидерство и организационный дизайн. В дополнение к этому существуют отдельные направления, каждое из которых нацелено на решение целого ряда задач: внедрить культуру безопасности и качества в компании, развить автономное техническое обслуживание оборудования, научиться видеть все потери и уметь устранять их, а также выстроить систему обучения и развития сотрудников, которая отвечает вызовам рынка и необходимым для этого навыкам и компетенциям.
Если говорить о ритейле, то здесь не остались в стороне самые крупные игроки рынка. «Практика Lean внедрена во всех странах присутствия Auchan Retail. В России она действует во всех форматах магазинов, – говорит Игорь Кривошеев, директор по проектам «Ашан Ритейл Россия». – Команда внедрения уже обучила более 1000 сотрудников магазинов основам Lean-менеджмента, благодаря которым они научились смотреть на свою работу через призму постоянного совершенствования. В рамках этого проекта были разработаны и внедрены стандарты, улучшающие работу магазинов в трех направлениях: менеджмент, организация и процессы. Внедрение Lean для деятельности сервисных служб (back-office) запускается в этом году».
Однако это всего несколько примеров. Количество проектов с Lean в ритейле можно пересчитать по пальцам одной руки.
Не винтики, а люди
Вернемся к первоначальному вопросу. Теория есть, и она работает на практике, только не у нас. В ходе Российской недели ритейла этим летом была проведена целая секция, посвященная Lean, но называлась она примечательно: «Бережливый ритейл – недооцененный в России тренд». Что является основной причиной такого невнимания? «Когда я десять лет начинал консультировать компании по методологии Lean, то полагал, что основные проблемы будут с нижним звеном, думал, что новые идеи работники будут саботировать, потому что они недостаточно образованные, «темные». Ничего подобного! Часто самые «темные» и негибкие товарищи находятся наверху», – констатирует Евгений Рачков.
«Lean management – это не только методология, но и образ мышления, – подчеркивает Игорь Кривошеев. – Изменить образ мышления за 6–10 недель внедрения невозможно, эта работа должна быть постоянной и регулярно рекламируемой, в первую очередь высшим руководством с применением действенных мотивационных инструментов».
У кого бы мы ни спрашивали, что нужно для внедрения, все эксперты говорили в один голос – только политическая воля руководства. «Основная проблема освоения Lean для любой компании, будь то ритейлер или производитель, такой как «Балтика», это приверженность руководства принципам этой концепции, – замечает Иван Комаров. – Руководство компании должно понимать фундаментальность этих постулатов. С самого начала важно заручиться поддержкой топ-менеджмента, первые люди компании должны всячески подчеркивать и распространять принципы Lean в своих посланиях и в корпоративной рутине, только тогда концепция начнет работать. Увлеченность Lean может быстро смениться разочарованием, потому что данная концепция не дает быстрых результатов, чего все обычно ждут. Руководители должны обладать определенной мудростью, чтобы не отказаться от заявленных принципов, когда увидят, что результаты появятся далеко не сразу».
Считается, что Lean у нас не приживается, потому что у нас не такие работники, не такая «почва» для нововедений и вообще все не такое, как в Японии (логично!). Полагают, что нам мешает российский менталитет. «У нас любят говорить, что нашим «танцорам» менталитет мешает. У меня есть на это возражение, – замечает Сергей Смирнов, генеральный директор Национального центра производительности. – На российский рынок с нашим якобы особым российским менталитетом приходят западные компании и спокойно строят тут компании, которые становятся вполне конкурентноспособными, с качественным продуктом».
Если мы посмотрим на историю Lean, то увидим: нигде не было легко внедрять новую методологию. Когда Ацуси Ниими, бывший президент Toyota, в Северной Америке обучал американских управленцев, то заметил, что самое трудное в этом деле было изменить их мышление. «Они хотели руководить, а не учить», – говорил он, в то время как в Toyota в Японии утверждали: «В первую очередь мы делаем не машины, а людей».
Если рыба гниет с головы, то вполне естественно предположить, что и оздоровление она должна начинать тоже с головы. «Если руководитель не разделяет ценности бережливого производства, если в его картине мира люди – это винтики, то ничего не выйдет в принципе, – уверен Евгений Рачков. – Вся бизнес-система должна самообучаться: от верхнего звена к нижнему. Все люди должны участвовать и думать. А винтики не думают, винтики исполняют свою маленькую роль».

Ищем выгоду для всех
У Lean есть как минимум несколько уровней реализации. Первый уровень – это та самая политическая воля руководителя. Именно руководитель задается вопросами о том, как сделать бизнес эффективнее; можно ли добиться улучшения показателей без дополнительных инвестиций в оборудование. Второй уровень – это межфункциональное взаимодействие. Об этом рассказывает Сергей Смирнов: «Внедрение Lean – это не проект отдельного подразделения, а проект всей команды в компании. Ведь у нас как бывает? Руководство решило внедрять, назначило пилотный участок и давай наводить там порядок. А вся остальная система работает так же, как и раньше, и смотрит на этих чудаков с неодобрением: мол, какие улучшения, тут работать надо, план горит! А ведь потери можно найти абсолютно во всех отделах, даже в каком-нибудь далеком HR-отделе, хотя они, казалось бы, ничего не производят и с покупателями не общаются. Но на каждом этапе по рекрутингу, по найму, по оформлению документов мы легко найдем кучу потерь. Если мы посмотрим на службу, которая отвечает за работу оборудования, то увидим, что потери и место для непрерывного улучшения есть и там».
Третий уровень – вовлечение всех сотрудников. Они должны четко увидеть, что получат лично они на своих рабочих местах, и должны понять, почему им стоит участвовать в проекте под названием Lean. «Многие работники говорят: «Не надо нас мотивировать. Прекратите демотивировать», – делится наблюдениями Сергей Смирнов. – Ведь тут есть один тонкий момент. Вот внесли они рационализаторское предложение, реально что-то улучшили и начали работать. Что происходит дальше? Знаете? А я вам скажу. Через три недели приходит нормировщик и пересматривает им нормы. Я спрашиваю: коллеги, а если вам вот так нормы пересмотрят, вы лично будете еще раз подавать рацпредложение? Или лучше будете сидеть тихо? Вы хотите получить экономическую прибыль, платя меньшие зарплаты? Или мы о другом все-таки говорим? Ведь на этом этапе можно легко обрубить любую творческую деятельность на местах».
Тише едешь – дальше будешь
Очевидно, что Lean дает хорошие результаты при высоком вовлечении топ-менеджмента компании, и при этом ей нужно время. «Мы пока еще не научились думать стратегически на несколько лет вперед, – объясняет Денис Тверской. – Новые возможности, которые нам открываются благодаря техническому прогрессу, заставляют думать о прибыли, которую можно получить прямо сейчас или хотя бы в ближайшем будущем. На бизнес влияет боязнь перемен, связанных с политикой, ситуацией и взаимоотношениями с другими странами. Мы боимся вкладывать капитал в развитие компании и повышение дохода в относительно рискованном будущем, если есть альтернатива получения прибыли быстро».
Как долго придется ждать? ««Когда мы говорим про культуру, мышление, то нужно понимать – это вещи очень инертные. Когда я внедрял систему «бережливого производства» в своих компаниях, то видел возникновение четких, устойчивых моделей поведения через полтора-два года, и это при учете того, что занимался этим последовательно и регулярно», – рассуждает Евгений Рачков.
В компании «Балтика» концепция Lean стала активно внедряться в производственную цепочку с 2012 года. Прошло почти семь лет. «За то время, пока мы внедряем бережливое производство, в компании произошли настоящие ментальные изменения. Даже непрофессионалы могут видеть различия между предприятием, которое на практике применяет концепцию бережливого производства, и тем, которое только декларирует ее внедрение, – воодушевлен Иван Комаров. – Теперь мы можем говорить о существенном развитии культуры безопасности и системы качества, росте производительности труда и надежности работы оборудования. Внедрение Lean позволило улучшить эргономику рабочих мест, снизить количество поломок, неисправностей и технических простоев на оборудовании, что влечет за собой сокращение издержек и рост производительности труда. Сама по себе Lean не дает результат моментально, и если вся компания привержена ее принципам, то первые плоды начинают появляться через несколько лет. Изменения в рабочих процессах «Балтики», связанные с внедрением Lean, сейчас заложены в «ДНК» компании, а такие вещи не происходят по щелчку пальцев».
«Российский бизнес привык мерить все дисконтными мерками, а в философии Lean надо мыслить тактически, – добавляет Антон Мартьянов, директор по цифровой трансформации, группа компаний D.O.L.G. – Кто будет первым, тот получит некое неожиданное для рынка конкурентное преимущество и вырвется в лидеры».
Учись, мой сын
Один из краеугольных камней Lean – это обучение сотрудников прямо на производстве (TWI, или Training Within Industry). «Программы TWI значительно повлияли на развитие концепции Lean. TWI можно назвать корнями Lean, хотя и не единственными, потому что отличительные черты бережливого производства сформировались под воздействием многих факторов. Применение TWI помогает в решении части проблем. Например, оно полезно в области обучения людей, совершенствования технологии работы, создания среды постоянных улучшений», – говорит Денис Напалков.
Обучение на производстве противостоит такому явлению, как «кривая жизнеспособности». Ее проводником в жизнь был американский бизнесмен Джек Уэлч, который помимо прочего 20 лет управлял компанией General Motors в качестве генерального директора. С одной стороны, ему принадлежат цитаты вроде «пока ты не лидер, твой успех в том, чтобы развивать себя; когда ты становишься лидером, твой успех в том, чтобы развивать других». С другой – господин Уэлч подсчитал, что в любой организации есть 10% «паршивых овец», от которых надо немедленно избавляться. Звучит в общем-то разумно. Но Джек Уэлч избавлялся от этих процентов каждый год, выискивая все новые 10% в уже просеянном коллективе. Компании, которые пытались действовать так же (некоторые до сих пор пытаются), довольно быстро обнаруживали все минусы подобного подхода. Джека Уэлча назвали «управленцем №1» по версии журнала Future, в то время как в народе его звали «нейтронным Джеком», сравнивая этот стиль управления с нейтронной бомбой, которая уничтожает все живое, а здания оставляет целыми. Но Уэлч не особенно волновался по поводу чьих-то там мнений. «Вы становитесь управленцем не для того, чтобы всем нравиться, а для того, чтобы управлять», – говорил он.
«За любым инцидентом на предприятии стоят навыки сотрудников, а точнее, их отсутствие. Но сотрудников нужно обучать, а не выкидывать за борт. А если ученик не научился, значит, инструктор не научил. Дело в том, что если я как инструктор соблюдаю стандарт обучения, а ученик достаточно мотивирован, то он не может не усвоить тот или иной навык. Бывает, что люди сомневаются, говорят, что бывают вообще необучаемые. Я им отвечаю – не бывает! Это вы не доработали, – восклицает Сергей Смирнов. – При этом я считаю, что нет и таких, которые не предрасположены к обучению других. Все люди могут обучать».
Lean Production – это прежде всего изменение культуры мышления и поведения. Чтобы достичь этого изменения, нужно заложить базу, подготовить почву, в том числе и с помощью TWI. «Но, наверное, вы и сами знаете, насколько в России «любят» инвестировать в персонал, – смеется Евгений Рачков. – Все боятся инвестировать в работника, который может убежать на сторону сразу после того, как компания в него вложится. Многие руководители считают, что в оборудование или даже в софт вкладываться надежнее – у них ног нет. Это основное препятствие для руководителя в данном вопросе, потому что вложиться в персонал – это вообще-то недешево».
По словам Сергея Смирнова, обучать сотрудников на производстве стоит даже тем ритейлерам, которые боятся вкладываться в обучение из-за текучки кадров. «Мы реализовывали у одного ритейлера программу TWI. Это основа, то, из чего выросла система Lean. Наша программа была направлена на анализ и развитие трудовых навыков сотрудников, потому что показатели компании, допустим, по количеству претензий от покупателей, являются вполне объективным критерием уровня подготовленности его работников. В рамках программы мы обучили директоров, те, в свою очередь, обучили продавцов и кассиров, и буквально на следующий день у них растет средний чек, повышается оценка лояльности клиентов (по сведениям от «тайных покупателей»). Если ритейлу страшно вкладываться в сотрудников из-за текучки, то пусть посмотрят на компанию McDonlald’s: громаднейшая сеть, 32 тыс. ресторанов по всему миру. И у них с текучкой кадров ситуация не лучше, чем у других: порядка 30%, и это все признают. При этом задача бизнеса – обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов в своем сегменте. И заметьте, они приходят в любую страну, с любым менталитетом и с любыми сотрудниками, а качество обеспечивают по стандарту. Потому что у них есть методы, которые обеспечивают быстрый и качественный ввод любого специалиста в дело. Через четыре – восемь часов сотрудник стоит и выполняет свои обязанности так, как положено».
А вот отзыв от фабрики «Большевик», чьи сотрудники прошли такое обучение. Рассказывает Дмитрий Шаченок, директор: «Я считаю, что мы научили людей обучать других. Это наш главный результат, что теперь, когда мы начали внедрять бережливое производство, становится особенно очевидно. Мы создали базу, поэтому традиционного шока, какой бывает от внедрения Lean, у нас не произошло».
TWI – это недостающее звено в системе бережливого производства. Во многих компаниях без TWI-программы просто не начинают вводить Lean, потому что не сработает. «Обучение Lean в чистом виде действительно даст слабый эффект, – говорит Денис Тверской. – Приведу пример, но не буду называть бренд, однако поверьте: он знаком большинству читателей. Компания с 2013 года пытается внедрить Lean. Взяли в штат достаточно успешного руководителя на высокую должность. Но у него не было практического опыта применения Lean, хотя теорию он знал на отлично. А средний менеджмент не владел управленческими навыками, но в своем сегменте они были отличными специалистами. К чему все это привело? Взятый на руководящий пост директор по Lean не смог донести важность и пользу этой технологии до всех руководителей среднего звена. А те, кто понял, уже не смогли распространить эти знания и воплотить в жизнь на своем уровне. Результатом стали только красивые картинки и листы аудитов двухмесячной давности. А ведь за все это компания заплатила немалые деньги».
Поле боя
Очень важно помнить, что методология – это не то же самое, что инструмент. Это не молоток, который либо забивает гвозди, либо лежит на полке. Для успешного освоения Lean в любой компании должно быть глубокое понимание методологии и сфер ее применения внутри организации. «Часто в компаниях внедряются отдельные инструменты Lean, которые без создания культуры постоянного улучшения либо не дают результатов совсем, либо имеют краткосрочный эффект», – делится опытом Игорь Кривошеев.
Есть у нас и еще одна проблема, которая мешает эффективному применению системы на практике. «В России есть особенность: мы нация, ориентированная на технику. Не на технологию, а именно на технику, обратите внимание! Мы можем подковать блоху, но не можем сделать технологию подковки блох, – рассуждает Евгений Рачков. – И поскольку мы нация техническая, то мы очень сильно любим всякие инструменты. Большинство запросов от бизнеса такие: «Дайте нам инструменты!» А в «бережливом производстве» суть не в инструментах. Инструменты, конечно, нужны и их достаточно много. Но главное в этой системе, на мой взгляд, – это сформировать культуру и мышление самоорганизующейся, самообучающейся и саморазвивающейся организации. И сделать это гораздо сложнее, чем просто освоить набор инструментов».
Когда говорят Lean или «бережливое производство», то, особенно у русскоговорящих, могут сложиться неверные представления: «Под словом Lean нужно понимать гораздо больше. Вводят понятие «производственная система», но из-за привычного звучания у незнающих складывается ощущение, что речь идет только о производстве. Поэтому лично я предпочитаю выражение «операционная эффективность», – объясняет Денис Тверской.
Lean – самый эффективный способ для снижения себестоимости продукции или услуги. По той причине, что именно эта методология позволяет очень оперативно реагировать на изменение рынка. Об этом говорит Денис Тверской: «Возьмем компанию Zara, которая является, безусловно, лидером в своем сегменте. А сегмент этот, как мы знаем, очень изменчив, ведь вещь, которая была в тренде, и ее покупали месяц назад, сегодня уже никому не нужна. Находясь в секторе масс-маркета, сложно работать «под заказ», так как время здесь крайне важно: не успел вывести новую коллекцию, клиенты пойдут и купят похожую модель у конкурентов, а когда она окажется у нас на прилавке, не будет никому нужна. Поэтому у компании Zara очень грамотно и правильно построена система обратной связи с клиентами, которая помогает быстро реагировать на изменение рынка. Под эту же систему построена и поделена на этапы потоковая система производства».
Чтобы не сложилось ощущения, что система неприменима нигде, кроме заводов, мы спросили у представителей компании «Ашан», каким образом именно продуктовый ритейл может применить у себя Lean? Не слишком ли это сложно на практике? Отвечает Игорь Кривошеев: «В современном ритейле есть собственное производство, логистика, клиентский сервис, e-commerce, взаимодействие с поставщиками, ИТ, а еще вдобавок ко всему неэффективно выстроенные процессы в back-office. Со всеми техническими заданиями процессов ритейл – это короткие повторяющиеся циклы со своими измеримыми показателями эффективности и со своей ценой. При этом работа над улучшениями в каждом из названных элементов не требует каких-то особенных знаний, которых нет внутри компании. Исходя из этих пунктов мы уже видим, что ритейл – это отличное поле применения Lean».
Краткий словарь некоторых терминов Lean
Поток создания ценности – все действия, как создающие ценность, так и не создающие ее: от разработки концепции продукта до запуска в производство и от принятия заказа до доставки, а также обработка информации, полученной от клиента, и операции по преобразованию продукта по мере его продвижения к клиенту.
Потери – любое действие, которое потребляет ресурсы, но не создает ценности для клиента.
Анализ узких мест – определение этапа производственного процесса, который снижает общую производительность, и проведение улучшений на этом этапе.
Система 5С – принципы организации рабочих мест с целью устранения потерь и стандартизации рабочих мест путем наведения порядка, поддержания чистоты на рабочих местах и соблюдения дисциплины персоналом.
Кайдзен – непрерывное улучшение. Японская практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни.
Канбан – визуализация рабочего процесса с помощью карточек. Карты нужны, чтобы команда всегда понимала, какие задачи могут подождать, а над какими необходимо работать прямо сейчас.
Пока-йока – защита от ошибок. Сотрудники не должны замалчивать и скрывать ошибки, дефекты, не должны относиться к ним как к нормальному явлению. Чем скорее обнаружится брак, дефект или ошибка – тем лучше для всех.
Виды потерь в системе Lean
• Ожидание
• Транспортировка
• Перемещения
• Перепроизводство
• Излишние запасы
• Излишняя обработка
• Дефекты
• Нереализованный потенциал сотрудников
Несколько факторов успеха для внедрения Lean (по версии компании «Ашан»)
1. Поддержка руководства. Внедрение Lean-мышления начинается с руководства компании. Это должно выражаться в целеполагании, управлении командой, ежедневных коммуникациях и демонстрации умения ее использования.
2. Мотивация внутренняя. Сотрудники должны понимать, зачем они это делают, и внутренне принять принцип постоянного улучшения. Для этого команда внедрения проводит замеры основных KPI деятельности до внедрения Lean и после. Как правило, положительный результат производит очень сильное впечатление на сотрудников магазина, и это дает первичный «заряд» для дальнейших действий в этом направлении.
3. Мотивация финансовая. Качество работы по Lean можно измерить. Пример: количество жалоб от клиентов, объем списаний в рублях, OOS (Out of stock), размер стока и т.д. Ежеквартальные улучшения по всем этим показателям должны быть непосредственно связаны с бонусной системой, ведь финансовая составляющая всегда была и будет мощным инструментом мотивации.
Практика магазинов «Ашан»
Внедрение Lean продиктовало следующие изменения на местах:
• Внедрены визуальные инструменты. Например, созданы информационные стенды для сотрудников в рабочей зоне магазина. Такие инструменты позволили оптимизировать нагрузку на сотрудников магазина, сопоставить графики, наладить коммуникацию между сменами, сделать доступными KPI деятельности магазина, осуществить краткосрочное планирование. За счет визуализации деятельность магазина становится прозрачной, и именно это является базой для определения областей, которые нуждаются в улучшении силами самих сотрудников каждого конкретного магазина.
• Проведена стандартизация процессов заказа, выкладки, списания, работы с промо и отсутствием товара на полке. Это позволяет магазинам обмениваться лучшими идеями и быть уверенными, что они применимы.
• Введена 5S (система организации рабочего пространства). Например, устроены выкатные ящики под полками, где хранятся инструменты, которыми ежедневно пользуются сотрудники торгового зала. Отведены места для хранения стремянок. Удобнее организована работа с палетами и штучным товаром на складах магазинов. Проделано множество подобных улучшений, и улучшения продолжают ежедневно внедряться сотрудниками магазинов, – все это без участия центрального офиса и привлечения сторонних консультантов.
Риски при внедрении Lean (по версии компании «Балтика»)
1. Нельзя становиться на неправильный путь, когда под видом Lean происходит просто сокращение операционных издержек без изменения бизнес-процессов. Происходит дискредитация бережливого производства, и наступает разочарование в этой концепции, персонал видит в ней лишь массовые сокращения.
2. Необходимо формирование стратегии внедрения, а не точечное использование Lean.
3. Нужно терпение, понимание того, что результат придет не быстро. Если сегодня мы закладываем фундамент, то плоды применения Lean сможем видеть только через несколько лет. Поэтому очень важно заложить этот фундамент в успешные для компании времена, когда на это есть ресурсы, а не во времена спада, когда руководство начинает задумываться о повышении эффективности и экономии.
Риски при внедрении Lean (по версии компании «Топ Менеджмент Консалт»)
1. Обучение персонала происходит ради флага с надписью «Мы внедряем Lean». Такая практика никогда не даст результата, вместо эффекта мы получим демотивацию персонала и неправильное понимание самой сути Lean.
2. Быстрое необдуманное применение всего подряд. В глазах инициаторов это может выглядеть блицкригом, тогда как в глазах персонала и компании – очередной безумной идеей руководства.
3. Ориентация на теорию/теоретика. Метод проб и ошибок можно рассматривать как альтернативу, но в ритейле, где своя специфика и высокие скорости реакции на клиента, такой подход губителен. Самое здравое решение – внедрение вместе с практиками, знающими рынок, среду и специфику.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Муда, мура, андон и другие совсем не ругательные, а вовсе даже приличные иностранные слова, ошибочно кажущиеся такими знакомыми для русского уха... Если мы не лингвисты, то зачем они нам? Бизнес-тренеры уверяют – нужны! И производственные компании с ними согласны. Далеко не первый год первые лица корпораций учат, что же такое 5S, TPM и даже пока-йока. А теперь и ритейл начал вникать в эти дебри. Посмотрим на них поближе. [~PREVIEW_TEXT] => Муда, мура, андон и другие совсем не ругательные, а вовсе даже приличные иностранные слова, ошибочно кажущиеся такими знакомыми для русского уха... Если мы не лингвисты, то зачем они нам? Бизнес-тренеры уверяют – нужны! И производственные компании с ними согласны. Далеко не первый год первые лица корпораций учат, что же такое 5S, TPM и даже пока-йока. А теперь и ритейл начал вникать в эти дебри. Посмотрим на них поближе. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 3162 [TIMESTAMP_X] => 17.04.2019 23:23:59 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 511 [WIDTH] => 795 [FILE_SIZE] => 287205 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/089 [FILE_NAME] => 089b30964c1606d0a4c46e812994db2b.jpg [ORIGINAL_NAME] => avtomat.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => ac8d5b0baa93c46791e27e35d8da2a48 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/089/089b30964c1606d0a4c46e812994db2b.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/089/089b30964c1606d0a4c46e812994db2b.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/089/089b30964c1606d0a4c46e812994db2b.jpg [ALT] => Перевод с японского [TITLE] => Перевод с японского ) [~PREVIEW_PICTURE] => 3162 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => perevod-s-yaponskogo [~CODE] => perevod-s-yaponskogo [EXTERNAL_ID] => 4908 [~EXTERNAL_ID] => 4908 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 16.04.2019 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Перевод с японского [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Перевод с японского [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Муда, мура, андон и другие совсем не ругательные, а вовсе даже приличные иностранные слова, ошибочно кажущиеся такими знакомыми для русского уха... Если мы не лингвисты, то зачем они нам? Бизнес-тренеры уверяют – нужны! И производственные компании с ними согласны. Далеко не первый год первые лица корпораций учат, что же такое 5S, TPM и даже пока-йока. А теперь и ритейл начал вникать в эти дебри. Посмотрим на них поближе. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Перевод с японского [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Перевод с японского | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [16] => Array ( [ID] => 4889 [~ID] => 4889 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Мотор вместо сердца [~NAME] => Мотор вместо сердца [ACTIVE_FROM_X] => 2019-04-09 13:06:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2019-04-09 13:06:00 [ACTIVE_FROM] => 09.04.2019 13:06:00 [~ACTIVE_FROM] => 09.04.2019 13:06:00 [TIMESTAMP_X] => 10.04.2019 21:33:38 [~TIMESTAMP_X] => 10.04.2019 21:33:38 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/motor-vmesto-serdtsa/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/motor-vmesto-serdtsa/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
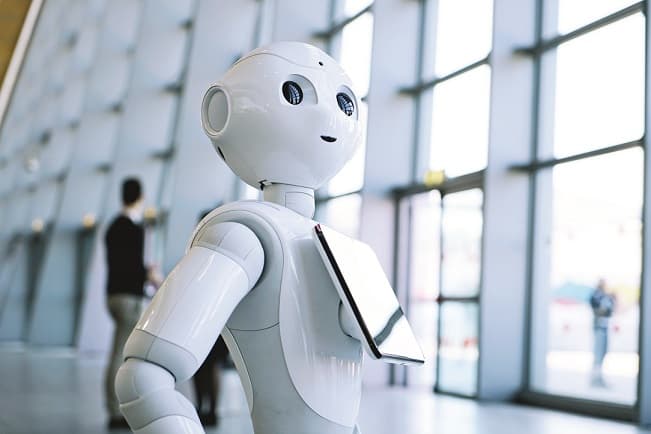
И это притом что робототехника используется человеком очень давно. «Первые упоминания, дошедшие до наших времен, датируются эпохой Древней Греции: в то время на маяке острова Фарос стояли позолоченные фигуры, которые ярко освещались ночью и громко дудели, давая ориентир морякам, а также в определенные промежутки времени отбивали склянки. Однако сам термин «робот» (от чешского robota – «подневольный труд»), появился только в первой половине прошлого века с легкой руки писателя Карела Чапека после публикации его книги «Р. У. Р.» («Россумские универсальные роботы», 1920)», – вспоминает историю Дмитрий Смирнов, директор по комплексным продажам компании «КРОК».
«Ярко освещаются и громко дудят» – Древней Греции уже нет, а роботы все те же. Те мечты, которые, казалось, вот-вот станут реальностью, так и остались мечтами: роботы не умеют нормально ходить, хорошо говорить, даже с откликом и распознаванием у них сложности. «Основная проблема робототехники в том, что большинство задач, легких для человека, сложны для компьютера, – объясняет Станислав Ашманов, основатель и генеральный директор компании «Нейросети Ашманова», генеральный директор «Лаборатории Наносемантика». – Проблема не в механике, не в создании продвинутых манипуляторов, а в программном обеспечении. Чтобы интегрироваться в человеческое общество, использоваться повсеместно, роботам нужно хорошо распознавать предметы и события окружающего мира. В лабораторных условиях (или условиях, близких к ним) машины работают хорошо, например, на конвейере или на складе. А вот на дороге, в магазине или торговом центре – нет».
Настоящих андроидов – таких, какими их представляют нам блокбастеры, то есть почти неотличимых от человека, с полноценным, а не так называемым искусственным интеллектом, делать пока никто и не собирается. А зачем? «Если мы говорим о том уровне развития технологий, какой можно увидеть в футуристических фильмах, то до этого нам еще очень далеко. Ни наше поколение, ни наши дети, ни даже, наверное, внуки не застанут такого технического прогресса, – прогнозирует Наталья Орлова, эксперт потребительского рынка, генеральный директор группы компаний TDI. – Сейчас активно ведутся работы по внедрению ИИ в различные сферы и структуры, внедряются роботизированные системы, но это лишь частные случаи, которые не могут стать массовыми по нескольким причинам. Во-первых, роботизированные системы недостаточно совершенны, они не могут существовать автономно и обслуживать себя самостоятельно. К тому же они являются достаточно дорогими, как при покупке, так и при содержании или обслуживании.
Во-вторых, внедрение технологий требует значительных затрат на создание инфрастуктуры, материальных и временных ресурсов на обучение персонала».
При этом мы постоянно читаем о новых и новых роботах – тут сделали робот-смартфон в виде маленькой и миленькой куклы, там создали робота-манекенщицу, здесь даже провели первую в мире олимпиаду для роботов. Однако по большей части это яркие одиночные проекты. «Активная роботизация происходит в США, где роботы готовят еду, а дроны привозят людям горячую еду за несколько минут. Пиццерия Zume Pizza из Калифорнии пошла еще дальше и разработала технологию, позволяющую печь пиццу в пути. Это возможно благодаря установленным в машинах доставки печам с дистанционным управлением. Так клиент получает горячую пиццу, приготовленную пять минут назад. Несмотря на то что пока роботизация является дорогостоящим удовольствием, в долгосрочной перспективе роботы могут сэкономить бизнесу значительные суммы, – оптимистично настроена Людмила Алямовская, коммерческий директор Tillypad. – Недавно в калифорнийской кофейне бариста заменили роботом, который приготовил 120 чашек капучино за час. На Западе уже никого не увидишь наличием роботизированного шеф-повара или официанта в ресторане, не говоря уж об «умной» доставке. Машины могут работать 24/7, им не нужны отдых, заработная плата или отпуск».
Но на тему роботизации можно посмотреть и по-другому, не представляя себе робота-переводчика из «Звездных войн». Мы на самом деле окружены роботами, которые делают за нас работу, только мы их не замечаем. Кофеварка варит кофе, стиральная машина замачивает, стирает и сушит белье. Наконец, по дому ползают роботы-пылесосы. «За последние десятилетия роботизация настолько прочно вошла в нашу жизнь, что мы воспринимаем ее как данность, а не как роботов. К примеру, персональный компьютер, сотовый телефон, кофемолка. Эти, казалось бы, обыденные вещи, являются ярким примером роботов, которых мы таковыми не считаем. Поэтому говорить о том, что мы не видим повсеместного применения роботов, некорректно, – уверен Кирилл Филенков, ведущий аналитик направления роботизации компании Bell Integrator. – Проблема в том, что мы пресытились современными технологиями и под понятием «робот» понимаем машину, способную думать и принимать решения. Основным сдерживающим фактором создания и повсеместного распространения таких роботов является лишь несовершенство современных технологий, искусственного интеллекта и нейронных сетей».
Как только технология внедряется в жизнь среднестатистического пользователя, она сразу становится слишком обыденной, чтобы удивлять. Люди ждут по меньшей мере Терминатора, чтобы признать – роботы среди нас! «Сейчас роботы (в широком смысле: системы, которые выполняют работу человека) есть везде. От смартфона до автоматизированного управления складом и всей компанией, – говорит Антон Беренцев, директор «Лаборатории интеллектуальных роботов». – Роботы – это ведь совсем не обязательно «говорящая голова» или человекоподобное существо. Часто это программа, которая даже не имеет телесного облика, но уже умеет выполнять конкретные операции. Польза от таких интеллектуальных роботов колоссальная. Понятно, что робот не болеет, но он может охватить и учесть нечеловеческое количество информации и дать более точное, эффективное и своевременное решение. И очевиден устойчивый тренд в придании роботам интеллекта».
Но какие задачи можно роботизировать в ритейле? «Во-первых, это автоматизированный контроль полок (выкладка, отслеживание заполнения, соответствие товара ценнику) на основе роботизированной тележки с использованием оптико-электронного комплекса. Такое решение позволяет заметно снизить число мерчандайзеров в торговом зале. Системы на основе машинного зрения (технологии видеоаналитики) дают возможность снизить затраты на персонал благодаря точному планированию загрузки кассового узла. В будущем возможна полная замена кассира на системы самообслуживания. Кроме того, это еще и уже хорошо известные автоматизированные складские системы-автопогрузчики, системы сортировки и другие аналогичные решения», – рассуждает Дмитрий Смирнов.
Роботы и интеллект
Прежде чем мы начнем говорить о пользе современных роботов для компаний и, в частности, для ритейла, давайте рассмотрим вот этот вопрос: роботы и искусственный интеллект – это одно и то же, симбиоз или совершенно разные вещи? «Под роботом обычно имеются в виду мехатронные системы, они не полностью программные. А искусственный интеллект – это любые методы и алгоритмы по решению интеллектуальных задач, ранее решаемых только людьми. Собственно, программы с искусственным интеллектом позволяют разрабатывать умных роботов. Без них возможны лишь простые робототехнические системы, основанные на выполнении последовательностей заранее заданных действий», – говорит Станислав Ашманов.
Роботы и искусственный интеллект – это не одно и то же, однако две технологии могут применяться в одном продукте. «Технологии искусственного интеллекта уже сейчас широко используются в системах доставки для расчета оптимальных маршрутов и прогнозирования спроса на товары и загруженности транспорта. Самые передовые решения сочетают в себе несколько инновационных технологий. Уже сейчас британский продовольственный онлайн-ритейлер Ocado работает над рядом проектов, которые интегрируют в себе роботизацию, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, – рассказывает Дмитрий Рыбаков, генеральный директор ConsID. – Например, компания инвестирует в разработку робота-манипулятора, предназначенного для распознавания и сортировки легко повреждаемых продуктов, таких как овощи и фрукты».
По словам Кирилла Филенкова, роботы плотно связаны с алгоритмами, поэтому большие скачки в развитии искусственного интеллекта, нейронных сетей неизбежно влекут за собой развитие роботов. Однако не для всех роботов необходимы сложные алгоритмы принятия решений. К примеру, те же сборочные ленты на заводах. Там алгоритм стандартизован и не меняется.
«Робот – это механическое устройство, выполняющее определенные операции, которое действует по заранее заложенной программе. Исходя из этого определения робот совсем не обязательно должен быть наделен искусственным интеллектом. Однако для того, чтобы робот приносил максимальную пользу, он должен уметь принимать решения без участия человека. Поэтому почти все роботы уже используют технологии машинного обучения или интегрируются с ними», – поясняет Дмитрий Петров, эксперт iCluster, генеральный директор ГК «ЛАД».
Скорее всего, развитие роботов будет идти и дальше по пути интеграции механизмов с технологиями искусственного интеллекта, поэтому в этой статье мы не будем проводить слишком жестких границ. «Робот действует по определенным алгоритмам, которые в него заложены. Искусственный интеллект – это куда более продвинутая технология, это системы, которые способны «мыслить» определенным способом, эти системы не программируются, а «обучаются». Но интеграция давно началась: существуют чат-боты с применением нейросетей, способные обработать запрос на естественном языке и в зависимости от типа запроса совершить определенное действие; аппаратные роботы, способные общаться на естественном языке, распознавать лица и многое другое», – перечисляет Дмитрий Хливецкий, руководитель направления департамента бизнес-решений группы компаний Softline в Сибири и на Дальнем Востоке.
Труженики склада
Когда говорят о роботах в ритейле, все сразу же вспоминают не какие-нибудь интеллектуальные прямоходящие машины, а компанию Amazon с ее знаменитыми роботизированными складами, наводненными сотней тысяч логистических роботов. Так ритейлер справляется с миллионами заказов, которые нужно обрабатывать ежедневно и очень быстро. «Если в торговом зале магазина покупателя не встречает говорящий робот-консультант (например, российский Promobot), это не значит, что прогресс сюда не добрался – основными сферами для роботизации стали логистика и складской учет. Автоматизированные склады торгового онлайн-гиганта Amazon впечатляют: десятки маленьких роботов-погрузчиков размером с бытовой пылесос ловко подхватывают тяжелые стеллажи с товарами и подвозят их к операторам, которые достают нужные предметы из ячеек, – описывает Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений компании «АТОЛ». – Десятки таких машин одновременно транспортируют стеллажи в ограниченном пространстве, не сталкиваясь: роботы согласуют свои маршруты друг с другом во избежание ДТП».
Вслед за этим торговым гигантом компании по всему миру начинают задумываться о внедрении у себя схожих технологий. «Немецкая сеть магазинов одежды Adler использует несколько роботов Tory, которые занимаются учетом вещей на складах и в торговых залах. Каждую ночь Tory едет вдоль полок, сканируя RFID-метки на товарах, и составляет точный отчет о складских запасах. Пока этой задачей занимались люди, учет проводился лишь раз в неделю, занимал много времени и не всегда был безошибочным. Tory сканирует метки в 10 раз быстрее, чем это делает человек, а в долгосрочной перспективе помогает сэкономить за счет отказа от ночных оплачиваемых смен сотрудников», – объясняет Юлия Русинова.
В Японии у fashion-ритейлера Uniqlo есть склады, где работают только роботы. В России наполовину роботизированный склад собираются сделать в сети «Леонардо», о чем компания объявила летом 2018 года. Крупные ритейлеры уже готовы технологически к использованию роботизированных систем. «Помимо Amazon роботов на складах активно используют и другие крупные зарубежные игроки, например, JD.com, Alibaba, Ocado, IKEA. Драйвером роста рынка роботов в этой сфере становится развитие онлайн-торговли и ужесточение конкуренции, – говорит Дмитрий Рыбаков. – Эффекты от роботизации склада достаточно очевидны: сокращение расходов на персонал, увеличение скорости выполнения операций, исключение ошибок при обработке товара. Эти вещи в итоге влияют на качество оказываемого клиентам сервиса. Однако в России подобные системы пока неактуальны по финансовым причинам. Это связано в первую очередь с необходимостью больших инвестиций в проекты и с долгим сроком их окупаемости. Российские ритейлеры, которые ищут новые возможности по оптимизации складской логистики, пока относятся к роботизированным системам с большой осторожностью, предпочитая максимизировать эффекты от использования имеющихся систем управления складом (WMS)».
Сегодня большинство проектов, связанных с использованием роботов и искусственного интеллекта, пока находятся на стадии разработки, а предлагаемые готовые решения либо слишком дороги, либо сыроваты и не имеют достаточного опыта эксплуатации. «Отработанных технологий нет, – заявляет Алексей Прыгин, исполнительный директор компании «МаксиПост». – Чтобы наладить обычный сортер для склада, приходится убить кучу времени, что уж говорить про каких-то роботов? Сейчас к каждому такому роботу придется приставлять следящего за ним и исправляющего его ошибки работника склада. На такие траты денег и человеческих ресурсов пока никто не готов. Но на самом деле технологии очень востребованы. Все, что связано с сортировкой, упаковкой, распределением товара, – это cфера, требующая технологических инноваций. Чем меньше ручного труда, чем меньше ошибок, связанных с усталостью, недосмотром, чем больше роботов и автоматики – тем лучше. Здесь все однозначно. Рынку такие решения нужны. Вопрос лишь в том, кто первый предложит бизнесу подходящее решение».
По словам Алексея Прыгина, разработки ведутся в том числе и у нас в стране: «Например, один стартап разрабатывает роботов, которые перемещают стеллажи с нужными товарами к комплектовщику, что позволяет заменить одним оператором 6–7 человек на складе. Это в итоге повышает производительность склада и сокращает стоимость сборки заказа. Хорошая перспектива? Да, конечно, но пока ее можно оценить только теоретически. Для того чтобы этому или любому другому аналогичному решению найти дорогу к заказчику, ему нужно заручиться поддержкой инвесторов, но для начала тщательно протестировать свою разработку в «полях», на большом объеме товаров».
Вкалывают роботы, а не человек?
Роботы и хоть сколько-то интеллектуальные системы – это дорого. Показательна дискуссия, которая возникла вокруг новости с заголовком: «Amazon использовал украинцев вместо искусственного интеллекта». Скандал разразился тогда, когда в прессу просочилась информация о том, что в одном из проектов, купленных недавно компанией у – сюрприз! – совладельца российской Mail.Ru Group, вместо искусственного интеллекта, который должен был невозмутимо и невидимо обрабатывать в своих темных недрах видео из домов, трудились сотрудники из Украины, которые не только просматривали видео с камер наблюдения в рабочих целях, но и весьма по-человечески обсуждали увиденное с коллегами.
Получается, что люди до сих пор дешевле роботов, тогда как последние в теории должны как раз-таки снизить издержки работодателя, а не вгонять его в траты. «Да, нанимать людей зачастую дешевле, чем разрабатывать алгоритмы анализа данных или роботов, – соглашается Станислав Ашманов. – Есть целая индустрия по предоставлению услуг дешевой удаленной рабочей силы, например, для задач анализа видео, разметки данных, ответов на вопросы. Индийские фирмы мне регулярно пишут, предлагают свои услуги. Есть интересная цитата, которую я обычно вспоминаю в этом контексте: «Зачем нужны дорогие человекоподобные роботы, если есть много дешевых роботоподобных людей?» На мой взгляд, совсем не все людские профессии будут заменены искусственным интеллектом. Например, выглядит сомнительным, что замена водителя на автопилот осмысленна, если вообще возможна в ближайшие пять лет. А вот заменять высококвалифицированных специалистов, «белых воротничков», очень выгодно. Есть даже российские проекты, нацеленные на разработку специализированных роботов-юристов, которые должны заменить юристов-паралигалов».
При этом по уровню сложности выполняемой работы роботы могут заменить весь персонал торговых точек. «В США начинают работать первые полностью роботизированные магазины. Но весь вопрос в том, сможет ли это стать массовым явлением. Я считаю, что не сможет. В ближайшее десятилетие точно. Открывать роботизированные торговые точки могут позволить себе только гиганты рынка, имеющие достаточно большую прибыль. Средние и мелкие ритейлеры не смогут себе позволить такой роскоши, потому что человеческая рабочая сила обходится в несколько раз дешевле», – уверена Наталья Орлова.
Сейчас высок уровень ожиданий от искусственного интеллекта и роботов, и все это на фоне огромного количества мемов про то, как под робота маскируют живого человека, считает Антон Беренцев. «Тем не менее есть много успешных примеров, где искусственный интеллект работает точно и успешно, например, в вопросе правильного распределения документов. Документы разные, маршруты их движения и согласования разные и постоянно меняются. Да, обычно с ними работает человек, но ИИ это сделает быстрее и без всякого перерыва на отдых, – отмечает он. – Остается вопрос стоимости. Сейчас роботов создают и настраивают ИТ-специалисты или консалтинговые компании. В результате мы получаем локальное решение, которое сделано ну очень дорогими людьми. Переломить ситуацию может только типовое решение, в котором мы могли бы сразу подключать ИИ в нужный процесс. Звучит как фантастика, но это единственный путь, когда мы сможем существенно снизить стоимость его применения. А стоимость специалистов-людей для его создания неуклонно растет и будет расти далее».
В том, что люди дороги, согласен с коллегой и Сергей Юдовский, генеральный директор ЦРИИ: «Люди всегда будут дороже роботов в плане возможности выполнения конкретных доступных людям задач. Столько инвестиций уходит в автономную доставку грузов, потому что водители-люди дороже, чем использование алгоритмов и оборудования в самопилотируемых грузовиках. Еще, например, робот, патрулирующий сейчас улицы Сан-Франциско и других американских городов, обходится дешевле людей-охранников». По его мнению, роботизация всегда случается там, где люди дороже роботов. Роботы берут на себя как неквалифицированный (дальнобойщики, охранники, посудомойки), так и весьма квалифицированный труд: работа с важными документами, финансовыми транзакциями, юридическими вопросами.
«Что касается этого скандала с Amazon, тут дело немного в другом, – поясняет Сергей Юдовский. – Участие людей в выполнении поставленных перед роботами и ИИ задач является обязательным компонентом роботизации, можно сказать, ключевым для успеха. В данном случае для тренировки и донастройки нейронной сети необходима ручная разметка данных в видеопотоке». Кстати, именно так и объяснили произошедшее в Amazon сами руководители оскандалившегося проекта, после чего пресса успокоилась.
Роботы точно будут дешевле людей, но для этого должны произойти некоторые изменения: «Ситуация поменяется, как только на рынке появится достойная конкуренция, причем важно, чтобы решения и технологии были хорошо отработаны. Сейчас роботы – это крайне наукоемкий товар. Многие вещи бизнесу все еще проще делать руками, но это временно», – полагает Дмитрий Хливецкий. Дмитрий Петров поясняет, что технология во многом сдерживается недостаточными возможностями вычислительных мощностей, так как многие роботы используют технологии машинного обучения, что требует мощных вычислительных ресурсов.
«По прогнозам аналитиков, мировой рынок складской робототехники будет расти в ближайшие пять лет на 10–15% в год, что должно повлиять на снижение стоимости технологий, – уверяет Дмитрий Рыбаков. – Рост доступности технологий и более развитый искусственный интеллект определенно переломят ситуацию как минимум в сфере e-commerce, где скорость обработки и доставки заказов – ключевое конкурентное преимущество компаний».
Бойцы невидимого фронта
Если роботы в физическом мире встречаются не повсеместно, то роботы мира софтверного мира – дело другое. RPA (Robotic process automation, автоматизация процессов с помощью роботов) – это программные роботы, которые запоминают действия пользователей, а затем создают на основе этого наблюдения список задач для автоматизации. Этих роботов мы не видим, а они есть, и их действительно много. «Если говорить об этом рынке, рынке автоматизации цифровых процессов программными роботами, то такие лидеры рынка, как UiPath, показывают рост в более чем 300% последние три-четыре года, а объем инвестиций в эту технологию, про которую почти никто не знал еще пару дет назад, перевалил за миллиард к концу 2018 года. В России уже сейчас «трудоустроены» тысячи RPA-роботов, крупнейшими работодателями которых являются Сбербанк, «Киви» и другие финансовые организации», – рассказывает Сергей Юдовский. По его словам, RPA-роботизация была проведена в X5 Retail Group, в результате чего часть процессов по обработке документов была возложена на роботов. Освободившиеся сотрудники-люди были перенаправлены на выполнение более сложных управленческих и творческих задач. Проект роботизации получил в своей области премию, обогнав таких конкурентов, как «Гринатом» и «Северсталь».
«Таких роботов может позволить себе даже небольшая компания, – обнадеживает Дмитрий Хливецкий. – Данная технология позволяет имитировать работу человека в программном обеспечении, избавляя сотрудников от необходимости производить рутинные операции (например, вручную считать ТМЦ). Robotic Process Automation сейчас активно развивается на российском рынке. У нас сейчас реализуется масса проектов по внедрению программных роботов: создаются системы автоматического анализа данных и принятия решений, роботы помогают оптимизировать склад, товарные выкладки, определить ассортимент, разгрузить бухгалтерию».
Еще одна недорогая технология, которую массы не ассоциируют с роботами, – это чат-боты. Вот уж кто действительно стал настолько привычен и вездесущ, что даже попал в мемы вроде «20 действий, которые тебе придется совершить до того, как тебя пустят посмотреть сайт». Сейчас чат-боты – непременное условие оформления сайта почти у каждого, даже самого небольшого ритейлера.
Поговори со мной
Робокассы – еще один очевидный тренд в ритейле. «Уже сейчас крупными мировыми компаниями внедряются робокассы, обсуждаются проекты, когда люди будут класть товар в корзину, оснащенную системой, способной определить содержимое и стоимость. В этом случае нам и касса не нужна. Появляются роботы-помощники, работающие в торговом зале. Пока им не хватает автономности и функционала, но это вопрос времени. В Японии примеры подобных магазинов есть уже сейчас», – рассказывает Дмитрий Хливецкий
X5 Retail Group в конце 2018 года планировал закончить тестовый проект по внедрению в магазины говорящих касс, сообщая в пресс-релизе, что новые кассы смогут увеличить количество постоянно работающих касс в магазинах, сократить очереди, особенно в часы пик, и организовать более активную работу сотрудников в торговых залах. По предварительным прогнозам после тестирования с помощью касс самообслуживания будут оплачивать порядка 50% покупок. Пока «Выручай-кассы», как их назвали в компании, были установлены в двух «Пятерочках», затем зоны для самостоятельной оплаты собирались внедрить еще в 10 магазинах. Итоги пилота X5 пока не обнародовал и не прокомментировал.
Другой кейс приводит Сергей Левашов, директор Центра бизнес-анализа ГК «РАМАКС»: «Российские торговые сети, например, «Глобус», применяют на практике кассы самообслуживания. Их нельзя назвать роботизированными в полном смысле слова, поскольку покупатели самостоятельно сканируют товар при помощи портативного устройства, выдаваемого при входе в торговый зал, но функция кассира уже переведена в ведение программно-аппаратного комплекса, который содержит устройство для распознания товара, считыватели, платежный терминал, а также другие системы для работы с товарами».
Робокассы – роботы без интеллекта, но зато формы у них могут быть вполне человекообразные. Во всяком случае, такие экземпляры тоже есть на отечественном рынке. «Расскажем о нашем проекте, роботе-кассире Waybot, который был создан специалистами компании INPAS совместно с Банком «Центр-инвест» и студентами Донского государственного технического университета (ДГТУ), – делится подробностями Анжела Петрухнова, руководитель проектов INPAS. – Наш робот-кассир продает билеты в Ростовском зоопарке. Компания INPAS выступила поставщиком оборудования и программного обеспечения: продажа билетов осуществляется через встроенный пинпад PAX D200, оснащенный платежным решением Unipos Terminal, которое специалисты INPAS интегрировали с кассовым ПО робота. Банк «Центр-инвест» обеспечил выполнение платежных операций: специалисты интегрировали в робота платежный модуль и настроили данный функционал для максимально быстрой оплаты с помощью банковских карт любых платежных систем. Робот продает билеты по безналичному расчету и распечатывает билеты, купленные онлайн. Также он умеет распознавать и анализировать речь пользователей. Проект, безусловно, помог сделать посещение зоопарка более комфортным за счет удобной и быстрой безналичной оплаты билета. При этом робот-кассир уже стал частью новой городской среды Ростова-на-Дону. Мы рады поддерживать подобные инициативы, особенно учитывая, что большинство посетителей зоопарка – дети».
Как сообщает Анжела Петрухнова, роботы-кассиры достаточно востребованы. В популярных кафе быстрого обслуживания посетители могут сделать и оплатить заказ без помощи кассира-человека. «Это не совсем робот, но приближенная к нему технология, которая уже укоренилась в сознании российского потребителя. По-моему, нет преград для переноса этого опыта на продуктовую розницу. Мы можем рекламировать продукцию на экране терминала, который является важной частью робота-кассира», – поясняет она.
Робокассы в том или ином виде давно работают в России: их используют многие крупные сети, например, такие, как «Перекресток» или Ашан. Однако, по мнению Натальи Орловой, процесс внедрения касс самообслуживания идет медленно: «Во многом из-за того, что в идеале на каждую кассу самообслуживания должен приходиться сотрудник магазина, который будет обучать покупателей с ней работать, помогать сканировать товары, следить за правильностью процесса совершения покупки. Безусловно, в данном случае пока дешевле иметь человека-кассира, который будет выполнять те же функции».
Всадник без головы
Еще одно перспективное направление для роботизации – это доставка. «Uber Technologies Inc., разработчик приложения для заказа такси, планирует к 2021 году запустить сервис по доставке еды с использованием дронов в США. Тестовый запуск прошел в рамках программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов, одобренной Дональдом Трампом. Помимо Uber в программе примут участие Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm, получившие разрешение от Департамента транспорта США. Возможно, через несколько лет международные компании запустят подобный проект и у нас», – надеется Людмила Алямовская.
Сегодня онлайн-ритейлеры по всему миру ищут способы сделать доставку дешевле и быстрее. Заказал в интернет-магазине туфли или книги, и тебе их вместо курьера доставляет робот-дрон. «Почему бы нет, теоретически задумка неплохая, но пока она вызывает больше вопросов, чем убедительных ответов, – говорит Алексей Прыгин – Самое популярное решение в этой сфере – дроны-беспилотники. Первым с ними стал экспериментировать Amazon. Эксперимент выглядит так: сотрудник загружает заказ в беспилотник и через какое-то время он приземляется во дворе покупателя. Вроде бы все удобно, но есть ряд серьезных ограничений: дроны могут доставлять только в дневные часы и в хорошую погоду: ветер или дождь исключают услугу. Если нет лужайки во дворе, то нужно установить на балконе подставку, чтобы беспилотник смог на нее приземлиться. А если нет ни ровной площадки, на которой можно принять груз, ни балкона? Не залетит же дрон в квартиру или бизнес-центр? В России (даже при условии, что постоянные покупатели интернет-магазинов согласятся переделывать свои балконы) остается открытым вопрос оплаты. Наши люди предпочитают в отличие от американских покупателей постоплату. Кто будет принимать деньги за доставленный заказ? Сам дрон? Получается, что дрон может доставить только предоплаченный заказ. Можно, конечно, внести предложение: пусть получатель положит деньги во встроенный сейф, но кто тогда напечатает чек? Встроим в дрон банкомат? Тогда сколько он будет весить и стоить? В общем, вопросов много. И экономическая нецелесообразность – самый первый вопрос, на который пока нет ответа».
Другой контраргумент состоит в том, что, по мнению Алексея Прыгина, дроны не смогут обеспечить тот уровень сервиса, к которому привык российский покупатель, а именно: частичную доставку, примерку, оплату наличными при получении. «В конце концов в России такие дроны придется делать вандалоустойчивыми и снабжать особыми средствами защиты от воровства, что также сделает их производство экономически нецелесообразным. Учитывая все это, я пока не вижу здесь массового рынка, по крайней мере в том виде, в котором эти разработки сегодня существуют. И точно не в ближайшем будущем».
Всадники без головы, или машины-беспилотники, – направление, которое тоже сулит бизнесу экономию. Вслед за легковыми Tesla в США еще два года назад протестировали грузовики без дальнобойщиков. Там фуры тестируют как сама Tesla, так и Mercedes или Otto. Отечественный «КамАЗ» поспешил уверить, что мы тоже не отстанем и увидим роботизированный грузовой автомобиль в массовой продаже не позже 2020 года. На сайте компании в конце января сообщали, что продолжают в плановом режиме работать над транспортными средствами с автономным и дистанционным управлением. «Это реально, но есть множество факторов, которые будут этому препятствовать, – считает Дмитрий Хливецкий. – Прежде всего я говорю о состоянии нашей дорожной инфраструктуры, которая не готова принять беспилотные машины даже в рамках крупного города. Вторая составляющая – это цена. Автомобиль, управляемый водителем-экспедитором, пока гораздо дешевле и проще в эксплуатации. Третья проблема связана с безопасностью. Если дрон с посылкой упадет на человека или беспилотный грузовик потеряет контроль, может случиться инцидент, который нанесет компании огромный материальный и репутационный ущерб. Кроме того, любая автоматизированная техника потенциально может попасть под контроль злоумышленников, поэтому ритейлеру придется усилить защиту информационной системы. Пока все вопросы, касающиеся безопасности применения беспилотной техники, не будут решены, ни о каком массовом использовании речи быть не должно».
Зараженный робот
Кстати, вопросы безопасности можно поднимать и в связи с другими направлениями роботизации. Насколько безопасно ритейлеру вкладывать средства в роботов, то есть в рабочую силу, которая уязвима для хакеров и на которую можно повлиять на расстоянии? Не будет ли намеренных поломок со стороны конкурентов (как это сейчас происходит с сайтами, которые, например, «дидосят»)? «DDos-атакам могут подвергаться любые системы, подключенные к сети Интернет, – рассуждает Сергей Левашов. – Это касается и искусственного интеллекта, и роботизированных решений. При наличии соответствующих систем информационной безопасности, которые устанавливаются в любой инфраструктуре, эти атаки не оправдывают отказ от самих программных решений, как и в любом другом случае. Помимо этого, человеческий фактор всегда имел гораздо больший вес в инцидентах, связанных с безопасностью, чем технологические просчеты разработчиков».
Роботов и так не слишком любят. Странно, но факт. В исследовании, которое проводилось с 2012 по 2017 год (публикация в журнале «Computers in Human Behavior», авторы Тимо Намбс и Маркус Эппель), отмечается, что отношение к подобным машинам стало более негативным. Причем опрос респондентов из 27 европейских стран показал, что люди неплохо относятся к безликим роботам, выполняющим «грязную» работу, например, уборку. А вот к беспилотникам и роботам-хирургам доверия нет. Человек боится за свою безопасность. Если к этому страху прибавить реальную угрозу вмешательства хакерами в систему робота, то ясно, почему респонденты не хотят довериться роботам на 100 процентов.
Однако наши эксперты посчитали, что угрозы не так велики, как это может показаться. «Современные системы роботизации имеют серьезную защиту от взлома, хотя этот вопрос до конца, естественно, не закрыт, так как злоумышленники не стоят на месте и совершенствуют вредоносные программы. Если речь идет о программных роботах, их достаточно просто восстановить из резервной копии, кроме того, они могут работать в виде отказоустойчивых систем, поэтому их использование вполне безопасно и оправданно, а методы защиты отработаны и надежны. Ситуация с использованием аппаратных роботов аналогична: устройство может быть либо автономным, либо подключенным к внутренней инфраструктуре, которая защищается привычными методами. Нельзя полностью исключить временный выход из строя техники, но, скорее всего, это будет кратковременно и не принесет существенных убытков. Риск убытков по вине ошибки или намеренного действия недобросовестных сотрудников в разы выше, чем риск убытков из-за взлома робота конкурентами», – уверен Дмитрий Хливецкий.
«Новые возможности несут в себе и новые риски – это нормально, – успокаивает Дмитрий Петров. – Работа в офлайне с живыми людьми тоже несет в себе множество рисков, просто компании уже научились их минимизировать. То же самое будет и с роботами: развитие информационных технологий неизбежно ведет к развитию средств информационной безопасности».
Давайте подытожим: что все-таки необходимо для того, чтобы мы могли видеть роботов в магазинах чаще? Снижение цен на технологии, усовершенствование процессов? Эксперты компании «Атол» предлагают посмотреть на проблему немного под иным углом зрения: «Перед приходом роботов в ритейл необходима полная цифровая трансформация бизнеса, которая происходит на наших глазах. Например, нашумевший российский 54-ФЗ об онлайн-кассах, обязывающий продавцов устанавливать кассы с подключением к Интернету, дал мощный толчок к развитию рынка смарт-терминалов, одновременно ведущих учет и анализ товаров и клиентов». По мнению Юлии Русиновой, после того, как ритейл полностью оптимизирует и переведет свою деятельность в диджитал, можно будет задуматься о применении роботов за пределами складов. Но это перспектива не самых ближайших лет. Пока что на пути роботов в ритейл стоит банальный экономический аспект. На рынке мало готовых универсальных решений. Часто не робот адаптируется под бизнес-процессы, а бизнес-процессы – под ограничения и особенности робота. Разработка машины под заказчика стоит больших денег, а финансовая выгода роботизации часто неочевидна, особенно в странах с дешевой рабочей силой, к которым относится и Россия.
[~DETAIL_TEXT] =>
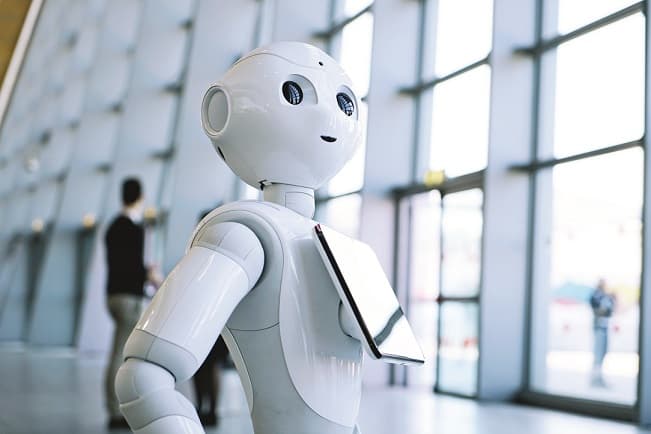
И это притом что робототехника используется человеком очень давно. «Первые упоминания, дошедшие до наших времен, датируются эпохой Древней Греции: в то время на маяке острова Фарос стояли позолоченные фигуры, которые ярко освещались ночью и громко дудели, давая ориентир морякам, а также в определенные промежутки времени отбивали склянки. Однако сам термин «робот» (от чешского robota – «подневольный труд»), появился только в первой половине прошлого века с легкой руки писателя Карела Чапека после публикации его книги «Р. У. Р.» («Россумские универсальные роботы», 1920)», – вспоминает историю Дмитрий Смирнов, директор по комплексным продажам компании «КРОК».
«Ярко освещаются и громко дудят» – Древней Греции уже нет, а роботы все те же. Те мечты, которые, казалось, вот-вот станут реальностью, так и остались мечтами: роботы не умеют нормально ходить, хорошо говорить, даже с откликом и распознаванием у них сложности. «Основная проблема робототехники в том, что большинство задач, легких для человека, сложны для компьютера, – объясняет Станислав Ашманов, основатель и генеральный директор компании «Нейросети Ашманова», генеральный директор «Лаборатории Наносемантика». – Проблема не в механике, не в создании продвинутых манипуляторов, а в программном обеспечении. Чтобы интегрироваться в человеческое общество, использоваться повсеместно, роботам нужно хорошо распознавать предметы и события окружающего мира. В лабораторных условиях (или условиях, близких к ним) машины работают хорошо, например, на конвейере или на складе. А вот на дороге, в магазине или торговом центре – нет».
Настоящих андроидов – таких, какими их представляют нам блокбастеры, то есть почти неотличимых от человека, с полноценным, а не так называемым искусственным интеллектом, делать пока никто и не собирается. А зачем? «Если мы говорим о том уровне развития технологий, какой можно увидеть в футуристических фильмах, то до этого нам еще очень далеко. Ни наше поколение, ни наши дети, ни даже, наверное, внуки не застанут такого технического прогресса, – прогнозирует Наталья Орлова, эксперт потребительского рынка, генеральный директор группы компаний TDI. – Сейчас активно ведутся работы по внедрению ИИ в различные сферы и структуры, внедряются роботизированные системы, но это лишь частные случаи, которые не могут стать массовыми по нескольким причинам. Во-первых, роботизированные системы недостаточно совершенны, они не могут существовать автономно и обслуживать себя самостоятельно. К тому же они являются достаточно дорогими, как при покупке, так и при содержании или обслуживании.
Во-вторых, внедрение технологий требует значительных затрат на создание инфрастуктуры, материальных и временных ресурсов на обучение персонала».
При этом мы постоянно читаем о новых и новых роботах – тут сделали робот-смартфон в виде маленькой и миленькой куклы, там создали робота-манекенщицу, здесь даже провели первую в мире олимпиаду для роботов. Однако по большей части это яркие одиночные проекты. «Активная роботизация происходит в США, где роботы готовят еду, а дроны привозят людям горячую еду за несколько минут. Пиццерия Zume Pizza из Калифорнии пошла еще дальше и разработала технологию, позволяющую печь пиццу в пути. Это возможно благодаря установленным в машинах доставки печам с дистанционным управлением. Так клиент получает горячую пиццу, приготовленную пять минут назад. Несмотря на то что пока роботизация является дорогостоящим удовольствием, в долгосрочной перспективе роботы могут сэкономить бизнесу значительные суммы, – оптимистично настроена Людмила Алямовская, коммерческий директор Tillypad. – Недавно в калифорнийской кофейне бариста заменили роботом, который приготовил 120 чашек капучино за час. На Западе уже никого не увидишь наличием роботизированного шеф-повара или официанта в ресторане, не говоря уж об «умной» доставке. Машины могут работать 24/7, им не нужны отдых, заработная плата или отпуск».
Но на тему роботизации можно посмотреть и по-другому, не представляя себе робота-переводчика из «Звездных войн». Мы на самом деле окружены роботами, которые делают за нас работу, только мы их не замечаем. Кофеварка варит кофе, стиральная машина замачивает, стирает и сушит белье. Наконец, по дому ползают роботы-пылесосы. «За последние десятилетия роботизация настолько прочно вошла в нашу жизнь, что мы воспринимаем ее как данность, а не как роботов. К примеру, персональный компьютер, сотовый телефон, кофемолка. Эти, казалось бы, обыденные вещи, являются ярким примером роботов, которых мы таковыми не считаем. Поэтому говорить о том, что мы не видим повсеместного применения роботов, некорректно, – уверен Кирилл Филенков, ведущий аналитик направления роботизации компании Bell Integrator. – Проблема в том, что мы пресытились современными технологиями и под понятием «робот» понимаем машину, способную думать и принимать решения. Основным сдерживающим фактором создания и повсеместного распространения таких роботов является лишь несовершенство современных технологий, искусственного интеллекта и нейронных сетей».
Как только технология внедряется в жизнь среднестатистического пользователя, она сразу становится слишком обыденной, чтобы удивлять. Люди ждут по меньшей мере Терминатора, чтобы признать – роботы среди нас! «Сейчас роботы (в широком смысле: системы, которые выполняют работу человека) есть везде. От смартфона до автоматизированного управления складом и всей компанией, – говорит Антон Беренцев, директор «Лаборатории интеллектуальных роботов». – Роботы – это ведь совсем не обязательно «говорящая голова» или человекоподобное существо. Часто это программа, которая даже не имеет телесного облика, но уже умеет выполнять конкретные операции. Польза от таких интеллектуальных роботов колоссальная. Понятно, что робот не болеет, но он может охватить и учесть нечеловеческое количество информации и дать более точное, эффективное и своевременное решение. И очевиден устойчивый тренд в придании роботам интеллекта».
Но какие задачи можно роботизировать в ритейле? «Во-первых, это автоматизированный контроль полок (выкладка, отслеживание заполнения, соответствие товара ценнику) на основе роботизированной тележки с использованием оптико-электронного комплекса. Такое решение позволяет заметно снизить число мерчандайзеров в торговом зале. Системы на основе машинного зрения (технологии видеоаналитики) дают возможность снизить затраты на персонал благодаря точному планированию загрузки кассового узла. В будущем возможна полная замена кассира на системы самообслуживания. Кроме того, это еще и уже хорошо известные автоматизированные складские системы-автопогрузчики, системы сортировки и другие аналогичные решения», – рассуждает Дмитрий Смирнов.
Роботы и интеллект
Прежде чем мы начнем говорить о пользе современных роботов для компаний и, в частности, для ритейла, давайте рассмотрим вот этот вопрос: роботы и искусственный интеллект – это одно и то же, симбиоз или совершенно разные вещи? «Под роботом обычно имеются в виду мехатронные системы, они не полностью программные. А искусственный интеллект – это любые методы и алгоритмы по решению интеллектуальных задач, ранее решаемых только людьми. Собственно, программы с искусственным интеллектом позволяют разрабатывать умных роботов. Без них возможны лишь простые робототехнические системы, основанные на выполнении последовательностей заранее заданных действий», – говорит Станислав Ашманов.
Роботы и искусственный интеллект – это не одно и то же, однако две технологии могут применяться в одном продукте. «Технологии искусственного интеллекта уже сейчас широко используются в системах доставки для расчета оптимальных маршрутов и прогнозирования спроса на товары и загруженности транспорта. Самые передовые решения сочетают в себе несколько инновационных технологий. Уже сейчас британский продовольственный онлайн-ритейлер Ocado работает над рядом проектов, которые интегрируют в себе роботизацию, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, – рассказывает Дмитрий Рыбаков, генеральный директор ConsID. – Например, компания инвестирует в разработку робота-манипулятора, предназначенного для распознавания и сортировки легко повреждаемых продуктов, таких как овощи и фрукты».
По словам Кирилла Филенкова, роботы плотно связаны с алгоритмами, поэтому большие скачки в развитии искусственного интеллекта, нейронных сетей неизбежно влекут за собой развитие роботов. Однако не для всех роботов необходимы сложные алгоритмы принятия решений. К примеру, те же сборочные ленты на заводах. Там алгоритм стандартизован и не меняется.
«Робот – это механическое устройство, выполняющее определенные операции, которое действует по заранее заложенной программе. Исходя из этого определения робот совсем не обязательно должен быть наделен искусственным интеллектом. Однако для того, чтобы робот приносил максимальную пользу, он должен уметь принимать решения без участия человека. Поэтому почти все роботы уже используют технологии машинного обучения или интегрируются с ними», – поясняет Дмитрий Петров, эксперт iCluster, генеральный директор ГК «ЛАД».
Скорее всего, развитие роботов будет идти и дальше по пути интеграции механизмов с технологиями искусственного интеллекта, поэтому в этой статье мы не будем проводить слишком жестких границ. «Робот действует по определенным алгоритмам, которые в него заложены. Искусственный интеллект – это куда более продвинутая технология, это системы, которые способны «мыслить» определенным способом, эти системы не программируются, а «обучаются». Но интеграция давно началась: существуют чат-боты с применением нейросетей, способные обработать запрос на естественном языке и в зависимости от типа запроса совершить определенное действие; аппаратные роботы, способные общаться на естественном языке, распознавать лица и многое другое», – перечисляет Дмитрий Хливецкий, руководитель направления департамента бизнес-решений группы компаний Softline в Сибири и на Дальнем Востоке.
Труженики склада
Когда говорят о роботах в ритейле, все сразу же вспоминают не какие-нибудь интеллектуальные прямоходящие машины, а компанию Amazon с ее знаменитыми роботизированными складами, наводненными сотней тысяч логистических роботов. Так ритейлер справляется с миллионами заказов, которые нужно обрабатывать ежедневно и очень быстро. «Если в торговом зале магазина покупателя не встречает говорящий робот-консультант (например, российский Promobot), это не значит, что прогресс сюда не добрался – основными сферами для роботизации стали логистика и складской учет. Автоматизированные склады торгового онлайн-гиганта Amazon впечатляют: десятки маленьких роботов-погрузчиков размером с бытовой пылесос ловко подхватывают тяжелые стеллажи с товарами и подвозят их к операторам, которые достают нужные предметы из ячеек, – описывает Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений компании «АТОЛ». – Десятки таких машин одновременно транспортируют стеллажи в ограниченном пространстве, не сталкиваясь: роботы согласуют свои маршруты друг с другом во избежание ДТП».
Вслед за этим торговым гигантом компании по всему миру начинают задумываться о внедрении у себя схожих технологий. «Немецкая сеть магазинов одежды Adler использует несколько роботов Tory, которые занимаются учетом вещей на складах и в торговых залах. Каждую ночь Tory едет вдоль полок, сканируя RFID-метки на товарах, и составляет точный отчет о складских запасах. Пока этой задачей занимались люди, учет проводился лишь раз в неделю, занимал много времени и не всегда был безошибочным. Tory сканирует метки в 10 раз быстрее, чем это делает человек, а в долгосрочной перспективе помогает сэкономить за счет отказа от ночных оплачиваемых смен сотрудников», – объясняет Юлия Русинова.
В Японии у fashion-ритейлера Uniqlo есть склады, где работают только роботы. В России наполовину роботизированный склад собираются сделать в сети «Леонардо», о чем компания объявила летом 2018 года. Крупные ритейлеры уже готовы технологически к использованию роботизированных систем. «Помимо Amazon роботов на складах активно используют и другие крупные зарубежные игроки, например, JD.com, Alibaba, Ocado, IKEA. Драйвером роста рынка роботов в этой сфере становится развитие онлайн-торговли и ужесточение конкуренции, – говорит Дмитрий Рыбаков. – Эффекты от роботизации склада достаточно очевидны: сокращение расходов на персонал, увеличение скорости выполнения операций, исключение ошибок при обработке товара. Эти вещи в итоге влияют на качество оказываемого клиентам сервиса. Однако в России подобные системы пока неактуальны по финансовым причинам. Это связано в первую очередь с необходимостью больших инвестиций в проекты и с долгим сроком их окупаемости. Российские ритейлеры, которые ищут новые возможности по оптимизации складской логистики, пока относятся к роботизированным системам с большой осторожностью, предпочитая максимизировать эффекты от использования имеющихся систем управления складом (WMS)».
Сегодня большинство проектов, связанных с использованием роботов и искусственного интеллекта, пока находятся на стадии разработки, а предлагаемые готовые решения либо слишком дороги, либо сыроваты и не имеют достаточного опыта эксплуатации. «Отработанных технологий нет, – заявляет Алексей Прыгин, исполнительный директор компании «МаксиПост». – Чтобы наладить обычный сортер для склада, приходится убить кучу времени, что уж говорить про каких-то роботов? Сейчас к каждому такому роботу придется приставлять следящего за ним и исправляющего его ошибки работника склада. На такие траты денег и человеческих ресурсов пока никто не готов. Но на самом деле технологии очень востребованы. Все, что связано с сортировкой, упаковкой, распределением товара, – это cфера, требующая технологических инноваций. Чем меньше ручного труда, чем меньше ошибок, связанных с усталостью, недосмотром, чем больше роботов и автоматики – тем лучше. Здесь все однозначно. Рынку такие решения нужны. Вопрос лишь в том, кто первый предложит бизнесу подходящее решение».
По словам Алексея Прыгина, разработки ведутся в том числе и у нас в стране: «Например, один стартап разрабатывает роботов, которые перемещают стеллажи с нужными товарами к комплектовщику, что позволяет заменить одним оператором 6–7 человек на складе. Это в итоге повышает производительность склада и сокращает стоимость сборки заказа. Хорошая перспектива? Да, конечно, но пока ее можно оценить только теоретически. Для того чтобы этому или любому другому аналогичному решению найти дорогу к заказчику, ему нужно заручиться поддержкой инвесторов, но для начала тщательно протестировать свою разработку в «полях», на большом объеме товаров».
Вкалывают роботы, а не человек?
Роботы и хоть сколько-то интеллектуальные системы – это дорого. Показательна дискуссия, которая возникла вокруг новости с заголовком: «Amazon использовал украинцев вместо искусственного интеллекта». Скандал разразился тогда, когда в прессу просочилась информация о том, что в одном из проектов, купленных недавно компанией у – сюрприз! – совладельца российской Mail.Ru Group, вместо искусственного интеллекта, который должен был невозмутимо и невидимо обрабатывать в своих темных недрах видео из домов, трудились сотрудники из Украины, которые не только просматривали видео с камер наблюдения в рабочих целях, но и весьма по-человечески обсуждали увиденное с коллегами.
Получается, что люди до сих пор дешевле роботов, тогда как последние в теории должны как раз-таки снизить издержки работодателя, а не вгонять его в траты. «Да, нанимать людей зачастую дешевле, чем разрабатывать алгоритмы анализа данных или роботов, – соглашается Станислав Ашманов. – Есть целая индустрия по предоставлению услуг дешевой удаленной рабочей силы, например, для задач анализа видео, разметки данных, ответов на вопросы. Индийские фирмы мне регулярно пишут, предлагают свои услуги. Есть интересная цитата, которую я обычно вспоминаю в этом контексте: «Зачем нужны дорогие человекоподобные роботы, если есть много дешевых роботоподобных людей?» На мой взгляд, совсем не все людские профессии будут заменены искусственным интеллектом. Например, выглядит сомнительным, что замена водителя на автопилот осмысленна, если вообще возможна в ближайшие пять лет. А вот заменять высококвалифицированных специалистов, «белых воротничков», очень выгодно. Есть даже российские проекты, нацеленные на разработку специализированных роботов-юристов, которые должны заменить юристов-паралигалов».
При этом по уровню сложности выполняемой работы роботы могут заменить весь персонал торговых точек. «В США начинают работать первые полностью роботизированные магазины. Но весь вопрос в том, сможет ли это стать массовым явлением. Я считаю, что не сможет. В ближайшее десятилетие точно. Открывать роботизированные торговые точки могут позволить себе только гиганты рынка, имеющие достаточно большую прибыль. Средние и мелкие ритейлеры не смогут себе позволить такой роскоши, потому что человеческая рабочая сила обходится в несколько раз дешевле», – уверена Наталья Орлова.
Сейчас высок уровень ожиданий от искусственного интеллекта и роботов, и все это на фоне огромного количества мемов про то, как под робота маскируют живого человека, считает Антон Беренцев. «Тем не менее есть много успешных примеров, где искусственный интеллект работает точно и успешно, например, в вопросе правильного распределения документов. Документы разные, маршруты их движения и согласования разные и постоянно меняются. Да, обычно с ними работает человек, но ИИ это сделает быстрее и без всякого перерыва на отдых, – отмечает он. – Остается вопрос стоимости. Сейчас роботов создают и настраивают ИТ-специалисты или консалтинговые компании. В результате мы получаем локальное решение, которое сделано ну очень дорогими людьми. Переломить ситуацию может только типовое решение, в котором мы могли бы сразу подключать ИИ в нужный процесс. Звучит как фантастика, но это единственный путь, когда мы сможем существенно снизить стоимость его применения. А стоимость специалистов-людей для его создания неуклонно растет и будет расти далее».
В том, что люди дороги, согласен с коллегой и Сергей Юдовский, генеральный директор ЦРИИ: «Люди всегда будут дороже роботов в плане возможности выполнения конкретных доступных людям задач. Столько инвестиций уходит в автономную доставку грузов, потому что водители-люди дороже, чем использование алгоритмов и оборудования в самопилотируемых грузовиках. Еще, например, робот, патрулирующий сейчас улицы Сан-Франциско и других американских городов, обходится дешевле людей-охранников». По его мнению, роботизация всегда случается там, где люди дороже роботов. Роботы берут на себя как неквалифицированный (дальнобойщики, охранники, посудомойки), так и весьма квалифицированный труд: работа с важными документами, финансовыми транзакциями, юридическими вопросами.
«Что касается этого скандала с Amazon, тут дело немного в другом, – поясняет Сергей Юдовский. – Участие людей в выполнении поставленных перед роботами и ИИ задач является обязательным компонентом роботизации, можно сказать, ключевым для успеха. В данном случае для тренировки и донастройки нейронной сети необходима ручная разметка данных в видеопотоке». Кстати, именно так и объяснили произошедшее в Amazon сами руководители оскандалившегося проекта, после чего пресса успокоилась.
Роботы точно будут дешевле людей, но для этого должны произойти некоторые изменения: «Ситуация поменяется, как только на рынке появится достойная конкуренция, причем важно, чтобы решения и технологии были хорошо отработаны. Сейчас роботы – это крайне наукоемкий товар. Многие вещи бизнесу все еще проще делать руками, но это временно», – полагает Дмитрий Хливецкий. Дмитрий Петров поясняет, что технология во многом сдерживается недостаточными возможностями вычислительных мощностей, так как многие роботы используют технологии машинного обучения, что требует мощных вычислительных ресурсов.
«По прогнозам аналитиков, мировой рынок складской робототехники будет расти в ближайшие пять лет на 10–15% в год, что должно повлиять на снижение стоимости технологий, – уверяет Дмитрий Рыбаков. – Рост доступности технологий и более развитый искусственный интеллект определенно переломят ситуацию как минимум в сфере e-commerce, где скорость обработки и доставки заказов – ключевое конкурентное преимущество компаний».
Бойцы невидимого фронта
Если роботы в физическом мире встречаются не повсеместно, то роботы мира софтверного мира – дело другое. RPA (Robotic process automation, автоматизация процессов с помощью роботов) – это программные роботы, которые запоминают действия пользователей, а затем создают на основе этого наблюдения список задач для автоматизации. Этих роботов мы не видим, а они есть, и их действительно много. «Если говорить об этом рынке, рынке автоматизации цифровых процессов программными роботами, то такие лидеры рынка, как UiPath, показывают рост в более чем 300% последние три-четыре года, а объем инвестиций в эту технологию, про которую почти никто не знал еще пару дет назад, перевалил за миллиард к концу 2018 года. В России уже сейчас «трудоустроены» тысячи RPA-роботов, крупнейшими работодателями которых являются Сбербанк, «Киви» и другие финансовые организации», – рассказывает Сергей Юдовский. По его словам, RPA-роботизация была проведена в X5 Retail Group, в результате чего часть процессов по обработке документов была возложена на роботов. Освободившиеся сотрудники-люди были перенаправлены на выполнение более сложных управленческих и творческих задач. Проект роботизации получил в своей области премию, обогнав таких конкурентов, как «Гринатом» и «Северсталь».
«Таких роботов может позволить себе даже небольшая компания, – обнадеживает Дмитрий Хливецкий. – Данная технология позволяет имитировать работу человека в программном обеспечении, избавляя сотрудников от необходимости производить рутинные операции (например, вручную считать ТМЦ). Robotic Process Automation сейчас активно развивается на российском рынке. У нас сейчас реализуется масса проектов по внедрению программных роботов: создаются системы автоматического анализа данных и принятия решений, роботы помогают оптимизировать склад, товарные выкладки, определить ассортимент, разгрузить бухгалтерию».
Еще одна недорогая технология, которую массы не ассоциируют с роботами, – это чат-боты. Вот уж кто действительно стал настолько привычен и вездесущ, что даже попал в мемы вроде «20 действий, которые тебе придется совершить до того, как тебя пустят посмотреть сайт». Сейчас чат-боты – непременное условие оформления сайта почти у каждого, даже самого небольшого ритейлера.
Поговори со мной
Робокассы – еще один очевидный тренд в ритейле. «Уже сейчас крупными мировыми компаниями внедряются робокассы, обсуждаются проекты, когда люди будут класть товар в корзину, оснащенную системой, способной определить содержимое и стоимость. В этом случае нам и касса не нужна. Появляются роботы-помощники, работающие в торговом зале. Пока им не хватает автономности и функционала, но это вопрос времени. В Японии примеры подобных магазинов есть уже сейчас», – рассказывает Дмитрий Хливецкий
X5 Retail Group в конце 2018 года планировал закончить тестовый проект по внедрению в магазины говорящих касс, сообщая в пресс-релизе, что новые кассы смогут увеличить количество постоянно работающих касс в магазинах, сократить очереди, особенно в часы пик, и организовать более активную работу сотрудников в торговых залах. По предварительным прогнозам после тестирования с помощью касс самообслуживания будут оплачивать порядка 50% покупок. Пока «Выручай-кассы», как их назвали в компании, были установлены в двух «Пятерочках», затем зоны для самостоятельной оплаты собирались внедрить еще в 10 магазинах. Итоги пилота X5 пока не обнародовал и не прокомментировал.
Другой кейс приводит Сергей Левашов, директор Центра бизнес-анализа ГК «РАМАКС»: «Российские торговые сети, например, «Глобус», применяют на практике кассы самообслуживания. Их нельзя назвать роботизированными в полном смысле слова, поскольку покупатели самостоятельно сканируют товар при помощи портативного устройства, выдаваемого при входе в торговый зал, но функция кассира уже переведена в ведение программно-аппаратного комплекса, который содержит устройство для распознания товара, считыватели, платежный терминал, а также другие системы для работы с товарами».
Робокассы – роботы без интеллекта, но зато формы у них могут быть вполне человекообразные. Во всяком случае, такие экземпляры тоже есть на отечественном рынке. «Расскажем о нашем проекте, роботе-кассире Waybot, который был создан специалистами компании INPAS совместно с Банком «Центр-инвест» и студентами Донского государственного технического университета (ДГТУ), – делится подробностями Анжела Петрухнова, руководитель проектов INPAS. – Наш робот-кассир продает билеты в Ростовском зоопарке. Компания INPAS выступила поставщиком оборудования и программного обеспечения: продажа билетов осуществляется через встроенный пинпад PAX D200, оснащенный платежным решением Unipos Terminal, которое специалисты INPAS интегрировали с кассовым ПО робота. Банк «Центр-инвест» обеспечил выполнение платежных операций: специалисты интегрировали в робота платежный модуль и настроили данный функционал для максимально быстрой оплаты с помощью банковских карт любых платежных систем. Робот продает билеты по безналичному расчету и распечатывает билеты, купленные онлайн. Также он умеет распознавать и анализировать речь пользователей. Проект, безусловно, помог сделать посещение зоопарка более комфортным за счет удобной и быстрой безналичной оплаты билета. При этом робот-кассир уже стал частью новой городской среды Ростова-на-Дону. Мы рады поддерживать подобные инициативы, особенно учитывая, что большинство посетителей зоопарка – дети».
Как сообщает Анжела Петрухнова, роботы-кассиры достаточно востребованы. В популярных кафе быстрого обслуживания посетители могут сделать и оплатить заказ без помощи кассира-человека. «Это не совсем робот, но приближенная к нему технология, которая уже укоренилась в сознании российского потребителя. По-моему, нет преград для переноса этого опыта на продуктовую розницу. Мы можем рекламировать продукцию на экране терминала, который является важной частью робота-кассира», – поясняет она.
Робокассы в том или ином виде давно работают в России: их используют многие крупные сети, например, такие, как «Перекресток» или Ашан. Однако, по мнению Натальи Орловой, процесс внедрения касс самообслуживания идет медленно: «Во многом из-за того, что в идеале на каждую кассу самообслуживания должен приходиться сотрудник магазина, который будет обучать покупателей с ней работать, помогать сканировать товары, следить за правильностью процесса совершения покупки. Безусловно, в данном случае пока дешевле иметь человека-кассира, который будет выполнять те же функции».
Всадник без головы
Еще одно перспективное направление для роботизации – это доставка. «Uber Technologies Inc., разработчик приложения для заказа такси, планирует к 2021 году запустить сервис по доставке еды с использованием дронов в США. Тестовый запуск прошел в рамках программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов, одобренной Дональдом Трампом. Помимо Uber в программе примут участие Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm, получившие разрешение от Департамента транспорта США. Возможно, через несколько лет международные компании запустят подобный проект и у нас», – надеется Людмила Алямовская.
Сегодня онлайн-ритейлеры по всему миру ищут способы сделать доставку дешевле и быстрее. Заказал в интернет-магазине туфли или книги, и тебе их вместо курьера доставляет робот-дрон. «Почему бы нет, теоретически задумка неплохая, но пока она вызывает больше вопросов, чем убедительных ответов, – говорит Алексей Прыгин – Самое популярное решение в этой сфере – дроны-беспилотники. Первым с ними стал экспериментировать Amazon. Эксперимент выглядит так: сотрудник загружает заказ в беспилотник и через какое-то время он приземляется во дворе покупателя. Вроде бы все удобно, но есть ряд серьезных ограничений: дроны могут доставлять только в дневные часы и в хорошую погоду: ветер или дождь исключают услугу. Если нет лужайки во дворе, то нужно установить на балконе подставку, чтобы беспилотник смог на нее приземлиться. А если нет ни ровной площадки, на которой можно принять груз, ни балкона? Не залетит же дрон в квартиру или бизнес-центр? В России (даже при условии, что постоянные покупатели интернет-магазинов согласятся переделывать свои балконы) остается открытым вопрос оплаты. Наши люди предпочитают в отличие от американских покупателей постоплату. Кто будет принимать деньги за доставленный заказ? Сам дрон? Получается, что дрон может доставить только предоплаченный заказ. Можно, конечно, внести предложение: пусть получатель положит деньги во встроенный сейф, но кто тогда напечатает чек? Встроим в дрон банкомат? Тогда сколько он будет весить и стоить? В общем, вопросов много. И экономическая нецелесообразность – самый первый вопрос, на который пока нет ответа».
Другой контраргумент состоит в том, что, по мнению Алексея Прыгина, дроны не смогут обеспечить тот уровень сервиса, к которому привык российский покупатель, а именно: частичную доставку, примерку, оплату наличными при получении. «В конце концов в России такие дроны придется делать вандалоустойчивыми и снабжать особыми средствами защиты от воровства, что также сделает их производство экономически нецелесообразным. Учитывая все это, я пока не вижу здесь массового рынка, по крайней мере в том виде, в котором эти разработки сегодня существуют. И точно не в ближайшем будущем».
Всадники без головы, или машины-беспилотники, – направление, которое тоже сулит бизнесу экономию. Вслед за легковыми Tesla в США еще два года назад протестировали грузовики без дальнобойщиков. Там фуры тестируют как сама Tesla, так и Mercedes или Otto. Отечественный «КамАЗ» поспешил уверить, что мы тоже не отстанем и увидим роботизированный грузовой автомобиль в массовой продаже не позже 2020 года. На сайте компании в конце января сообщали, что продолжают в плановом режиме работать над транспортными средствами с автономным и дистанционным управлением. «Это реально, но есть множество факторов, которые будут этому препятствовать, – считает Дмитрий Хливецкий. – Прежде всего я говорю о состоянии нашей дорожной инфраструктуры, которая не готова принять беспилотные машины даже в рамках крупного города. Вторая составляющая – это цена. Автомобиль, управляемый водителем-экспедитором, пока гораздо дешевле и проще в эксплуатации. Третья проблема связана с безопасностью. Если дрон с посылкой упадет на человека или беспилотный грузовик потеряет контроль, может случиться инцидент, который нанесет компании огромный материальный и репутационный ущерб. Кроме того, любая автоматизированная техника потенциально может попасть под контроль злоумышленников, поэтому ритейлеру придется усилить защиту информационной системы. Пока все вопросы, касающиеся безопасности применения беспилотной техники, не будут решены, ни о каком массовом использовании речи быть не должно».
Зараженный робот
Кстати, вопросы безопасности можно поднимать и в связи с другими направлениями роботизации. Насколько безопасно ритейлеру вкладывать средства в роботов, то есть в рабочую силу, которая уязвима для хакеров и на которую можно повлиять на расстоянии? Не будет ли намеренных поломок со стороны конкурентов (как это сейчас происходит с сайтами, которые, например, «дидосят»)? «DDos-атакам могут подвергаться любые системы, подключенные к сети Интернет, – рассуждает Сергей Левашов. – Это касается и искусственного интеллекта, и роботизированных решений. При наличии соответствующих систем информационной безопасности, которые устанавливаются в любой инфраструктуре, эти атаки не оправдывают отказ от самих программных решений, как и в любом другом случае. Помимо этого, человеческий фактор всегда имел гораздо больший вес в инцидентах, связанных с безопасностью, чем технологические просчеты разработчиков».
Роботов и так не слишком любят. Странно, но факт. В исследовании, которое проводилось с 2012 по 2017 год (публикация в журнале «Computers in Human Behavior», авторы Тимо Намбс и Маркус Эппель), отмечается, что отношение к подобным машинам стало более негативным. Причем опрос респондентов из 27 европейских стран показал, что люди неплохо относятся к безликим роботам, выполняющим «грязную» работу, например, уборку. А вот к беспилотникам и роботам-хирургам доверия нет. Человек боится за свою безопасность. Если к этому страху прибавить реальную угрозу вмешательства хакерами в систему робота, то ясно, почему респонденты не хотят довериться роботам на 100 процентов.
Однако наши эксперты посчитали, что угрозы не так велики, как это может показаться. «Современные системы роботизации имеют серьезную защиту от взлома, хотя этот вопрос до конца, естественно, не закрыт, так как злоумышленники не стоят на месте и совершенствуют вредоносные программы. Если речь идет о программных роботах, их достаточно просто восстановить из резервной копии, кроме того, они могут работать в виде отказоустойчивых систем, поэтому их использование вполне безопасно и оправданно, а методы защиты отработаны и надежны. Ситуация с использованием аппаратных роботов аналогична: устройство может быть либо автономным, либо подключенным к внутренней инфраструктуре, которая защищается привычными методами. Нельзя полностью исключить временный выход из строя техники, но, скорее всего, это будет кратковременно и не принесет существенных убытков. Риск убытков по вине ошибки или намеренного действия недобросовестных сотрудников в разы выше, чем риск убытков из-за взлома робота конкурентами», – уверен Дмитрий Хливецкий.
«Новые возможности несут в себе и новые риски – это нормально, – успокаивает Дмитрий Петров. – Работа в офлайне с живыми людьми тоже несет в себе множество рисков, просто компании уже научились их минимизировать. То же самое будет и с роботами: развитие информационных технологий неизбежно ведет к развитию средств информационной безопасности».
Давайте подытожим: что все-таки необходимо для того, чтобы мы могли видеть роботов в магазинах чаще? Снижение цен на технологии, усовершенствование процессов? Эксперты компании «Атол» предлагают посмотреть на проблему немного под иным углом зрения: «Перед приходом роботов в ритейл необходима полная цифровая трансформация бизнеса, которая происходит на наших глазах. Например, нашумевший российский 54-ФЗ об онлайн-кассах, обязывающий продавцов устанавливать кассы с подключением к Интернету, дал мощный толчок к развитию рынка смарт-терминалов, одновременно ведущих учет и анализ товаров и клиентов». По мнению Юлии Русиновой, после того, как ритейл полностью оптимизирует и переведет свою деятельность в диджитал, можно будет задуматься о применении роботов за пределами складов. Но это перспектива не самых ближайших лет. Пока что на пути роботов в ритейл стоит банальный экономический аспект. На рынке мало готовых универсальных решений. Часто не робот адаптируется под бизнес-процессы, а бизнес-процессы – под ограничения и особенности робота. Разработка машины под заказчика стоит больших денег, а финансовая выгода роботизации часто неочевидна, особенно в странах с дешевой рабочей силой, к которым относится и Россия.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Роботов можно сравнить с Дедом Морозом: их много в информационном пространстве, но есть ли они на самом деле? Мы уже большие и в Деда Мороза вроде бы не верим. А верим ли мы в роботов? И какое место для них можно найти в современном ритейле? Разберемся, какие примеры внедрения робототехники существуют и что они приносят компаниям, которые решили инвестировать в них. [~PREVIEW_TEXT] => Роботов можно сравнить с Дедом Морозом: их много в информационном пространстве, но есть ли они на самом деле? Мы уже большие и в Деда Мороза вроде бы не верим. А верим ли мы в роботов? И какое место для них можно найти в современном ритейле? Разберемся, какие примеры внедрения робототехники существуют и что они приносят компаниям, которые решили инвестировать в них. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 3109 [TIMESTAMP_X] => 10.04.2019 21:33:38 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 434 [WIDTH] => 651 [FILE_SIZE] => 65047 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/5c7 [FILE_NAME] => 5c79f34d3d4d0f6c54407cef66daabdf.jpg [ORIGINAL_NAME] => 54-63_Avtomat.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 2cbf3179013529a7a7dab93079f34557 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/5c7/5c79f34d3d4d0f6c54407cef66daabdf.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/5c7/5c79f34d3d4d0f6c54407cef66daabdf.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/5c7/5c79f34d3d4d0f6c54407cef66daabdf.jpg [ALT] => Мотор вместо сердца [TITLE] => Мотор вместо сердца ) [~PREVIEW_PICTURE] => 3109 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => motor-vmesto-serdtsa [~CODE] => motor-vmesto-serdtsa [EXTERNAL_ID] => 4889 [~EXTERNAL_ID] => 4889 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 09.04.2019 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Мотор вместо сердца [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Мотор вместо сердца [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Роботов можно сравнить с Дедом Морозом: их много в информационном пространстве, но есть ли они на самом деле? Мы уже большие и в Деда Мороза вроде бы не верим. А верим ли мы в роботов? И какое место для них можно найти в современном ритейле? Разберемся, какие примеры внедрения робототехники существуют и что они приносят компаниям, которые решили инвестировать в них. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Мотор вместо сердца [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Мотор вместо сердца | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [17] => Array ( [ID] => 4798 [~ID] => 4798 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Торгуют все! [~NAME] => Торгуют все! [ACTIVE_FROM_X] => 2018-12-07 00:00:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2018-12-07 00:00:00 [ACTIVE_FROM] => 07.12.2018 [~ACTIVE_FROM] => 07.12.2018 [TIMESTAMP_X] => 11.03.2020 14:39:35 [~TIMESTAMP_X] => 11.03.2020 14:39:35 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/torguyut-vse/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/torguyut-vse/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник», – писал в своей басне Иван Крылов. Он просто не жил в нашем веке! В последние несколько лет в бизнесе все так перемешалось, что невозможно точно определить сферу, которой занимается компания. Например, Сбербанк – это банк. «Яндекс» – это ИТ-компания. Понятия давно устоявшиеся. Только вот, объединившись в одну команду, эти две компании принялись торговать товарами из Китая и Турции, то есть превратились в одного серьезного ритейлера. Онлайн-площадка начала свою работу в ноябре. Герман Греф заявляет, что планирует сделать российский Amazon. И это только один пример: маркетплейсы на нашем рынке появляются один за другим.
АВТОР: Наталья Николаева
Сервис Сбербанка и «Яндекса» только запустился, находится в режиме бета-тестирования, о чем прямо сказано в шапке сайта. Но стоило мне посетить его в первый раз в жизни, как он тут же узнал меня. Мне даже не понадобилось заводить там аккаунт, все уже было готово к моему приходу и ждало своего часа. Bringly поприветствовал меня по имени, у него были мои данные в виде почты, номера телефона, даты рождения и даже номера банковской карты! Секрет в том, что «Яндекс» легко узнает своих пользователей, причем вовсе не по походке, а по тому, что мы пользуемся его почтовым сервисом. А заодно и другими услугами вроде «Яндекс.Кошелька» или «Яндекс.Такси». Понятно, что любой новый сервис от этой компании уже будет знать о вас все, не спрашивая. Вот вам и преимущества коллаборации с крупнейшей российской ИТ-компанией: у нее есть данные и есть аудитория. Пользователи уже в кармане такого гиганта – доставай и властвуй.
Проект должен захватить пользователей идеей низких цен на оригинальные товары, поставкой напрямую из стран-производителей, отсутствием наценок и кэшбеком – все эти опции обещаны на главной странице. Однако обещать в Интернете – дело опасное. Быстрый сравнительный поиск с помощью – вот ирония! – еще одного сервиса от «Яндекса» показал, что даже товары со скидкой на Bringly стоят дороже аналогов, которые можно пойти и купить в наших магазинах прямо сейчас.
При этом конкуренты идут за альянсом по пятам – о похожем объединении в сентябре заявили Mail.Ru Group, Alibaba Group и «Мегафон». Их маркетплейс планирует работать «во всех сегментах электронной коммерции, включая трансграничные и местные рынки, а также розничную торговлю», сообщает РБК. Китай же в лице Джека Ма, основателя и председателя совета директоров Alibaba Group, заявил: «Российская экономика не в лучшем состоянии. Пора выходить на этот рынок».
Банки, телеком-операторы, ИТ-компании – в России торгуют все! Ритейлом начинают заниматься компании, чей основной бизнес лежит в другой области. И что в этой ситуации остается делать магазинам? Может быть, пора паниковать? «Для традиционного ритейла эта ситуация угрозы пока не несет, это все же еще не технологии Amazon, – успокаивает нас Гай Карапетян, генеральный директор компании Gai.Company. – А вот структура российского онлайн-ритейла может претерпеть изменения. Маркетплейс – это предельная бизнес-модель любого интернет-магазина. Онлайн-ритейл в отличие от традиционного не может увеличить количество магазинов, а может лишь увеличивать ассортимент и закупать больше трафика. Если говорить о конкретном кейсе, то мы видим, что трафик у «Яндекса» свой, деньги на ассортимент взяты у Сбербанка, модель маркетплейса помогает удлинить полку еще больше, переложив часть ассортимента на поставщиков. И если у нас появится долгожданный лидер, который сможет консолидировать разрозненный рынок онлайн-торговли, то задуматься должны владельцы торговых марок и собственного производства: а точно ли им надо открывать свой интернет-магазин и тратиться на его поддержку, если есть точка, где закупается большая часть онлайн-пользователей. Так, например, один из наших клиентов, крупная мировая корпорация-производитель напитков, в начале года тоже рассматривала вопрос об открытии собственного интернет-магазина, или маркетплейса, где клиент мог бы выбрать, у кого из мерчантов закупить продукцию. Оценив среднесрочную перспективу, клиент отказался от этого решения, так как мы ожидаем, что эту функцию успешно выполнят маркетплейсы, консолидирующие рынок, «Беру.ру», например».
Очевидно, что ситуация, в которой маркетплейсы растут как грибы и грозят превратиться в огромную грибницу, должна повлиять на путь развития обычного, привычного нам ритейла. «Пример «Яндекса» и Сбербанка является очень показательным, потому что через него прослеживаются современные тенденции: те компании, которые еще вчера занимались исключительно ИТ-бизнесом, набирают достаточные вес и ресурсы, чтобы заходить в традиционные отрасли, – полагает Павел Васильев, директор компании Artlogic. – Причем здесь важно понимать, что их преимущество заключается в следующем: они еще не поварились в новой для себя сфере, глаз не замылился, поэтому им очень хорошо видны проблемы отрасли со стороны. Именно поэтому они могут предложить какие-то нестандартные решения, которые не смогли придумать традиционные игроки. Таким образом, ритейл будет однозначно меняться за счет вливания ИТ-экспертизы в традиционный бизнес».
Однако грозного «убийцу» в случае розничной торговли (помните, как таблоиды постоянно анонсируют нового «убийцу» чего-нибудь, например, iPhone) пока не нашли. «У ритейла есть некоторые вопросы, которыми не будут заниматься такие компании, как «Яндекс» и Сбербанк. Например, проверка на соответствие санитарным нормам. Если и будут продавать продукты питания, то кофе или шоколад, но не мясо и не рыбу. А ритейл пойдет по другому пути. Это конкуренция и адаптация к конкуренции. Это нормально для любого бизнеса», – говорит Дмитрий Нор, директор компании SkySoft.
Беги быстрее
На самом деле ритейл потихоньку меняется. В отрасли опасаются выхода на рынок больших маркетплейсов. «Есть прогноз, что в скором времени маркетплейсы займут 50% всего рынка e-commerce. С учетом того, что сам рынок e-commerce растет по экспоненте, маркетплейсы становятся вполне реальной угрозой классическому офлайн-ритейлу», – полагает Дмитрий Петров, эксперт iCluster, генеральный директор ГК «Лад».
Все побежали – и ритейл побежал. Теперь он тоже вступает в коллаборации и начинает заниматься, казалось бы, непрофильным делом, то есть создавать агрегаторы, онлайн-платформы и маркетплейсы. Иногда в деле также замешан Китай. Так, X5 Retail Group, словно не желая отставать в этой «китайской» гонке, объявила о том, что разворачивает свою платформу и вскоре займется доставкой заказов из сторонних интернет-магазинов. Угадайте, откуда будут товары? По сообщению компании, сейчас «X5 работает над созданием инфраструктуры для доставки онлайн-покупок из любых интернет-магазинов и маркетплейсов в автоматизированные пункты выдачи, которые в настоящий момент размещаются в магазинах X5 (локеры, почтоматы). Это позволит предложить нашим покупателям дополнительный удобный и востребованный сервис. Мы ведем переговоры с рядом крупнейших международных компаний и уже тестируем совместные маркетинговые активности с такими онлайн-игроками, как JD.com и Aliexpress». Причина такой диверсификации в поиске новых точек роста из-за сокращения потенциала основного бизнеса в результате падения покупательной способности населения. Так считает Андрей Дерябин, генеральный директор агрегатора контейнерных линий AllContainerLines.
Долой собственность
Маркетплейсы, которые открывают софтверные гиганты, – это еще полбеды. Существует мнение, согласно которому вся экономика движется в сторону отказа от собственности. Собственность должна заменить повсеместная аренда. Квартиры, дома, виллы на Багамах – все сдается в аренду. Не говоря о более простых предметах.
Уже сейчас в России появились первые единые платформы, где можно арендовать практически любую вещь: от ювелирных украшений до диких животных, автодома, лимузина или детского чемодана на колесиках. Каталожная наполненность таких сервисов пока оставляет желать лучшего, да и цены на аренду, которые установили первые владельцы предметов, весьма кусаются. Но тенденция есть, и она понятна. Если подобный агрегатор взлетит – пользователи всерьез призадумаются, стоит ли тратиться на бриллианты, если их можно за небольшие деньги поносить вечером и утром отдать обратно.
Магазины FMCG на этом месте фыркнут и подумают, что бриллианты в таком аспекте их не касаются. Посуду уже сдают в аренду вместе со скатертями и потребительской электроникой, заметим мы. Экономика шэринга, аренды всего на свете – это серьезный тренд. Таксисты тоже ничего не боялись, пока их земли не захватили «Убер» и «Яндекс». Теперь наши люди спокойно ездят на такси в булочную и их ничто не смущает. Может ли быть такое, что со временем онлайн-платформы по аренде вещей серьезно потеснят ритейл? «Нас все время пугают новыми форматами. Раньше пугали телевидением, вытесняющим кино и театр, в недавнем прошлом электронными книгами, которые уничтожат бумажные, потом онлайн-торговлей, поглощающей традиционный ритейл, – улыбается Данатар Атаджанов, директор по маркетингу компании MoscoWine, маркетплейса, который помогает найти любимое вино в любом месте города. – Агрегаторы и маркетплейсы дают новые возможности для продавцов и покупателей, соединяют их. Жалуются, как известно, «плохие танцоры». Рынок – беспристрастный судья. Если продукт востребован, он будет пользоваться спросом до тех пор, пока не появится что-то новое или не адаптируются старые форматы».
«Угрозы непосредственно ритейлу я здесь не вижу, – согласен с коллегой Гай Карапетян, – потому что те же компании, сдающие продукт в аренду, должны закупать этот товар и оборачивать его в короткие сроки. Автомобили в каршеринге появятся на российском вторичном рынке через три года, а компании будут освежать парк». По его мнению, сама потребность в продукте никуда не девается, изменяются лишь модели потребления.
«А я абсолютно уверен в том, что любой традиционный бизнес в условиях современного рынка должен быть начеку и готовиться к тому, что в его отрасль придут так называемые «подрывные инновации», которые поменяют правила игры, – призывает не расслабляться Павел Васильев. – В этом контексте разумным решением для любого бизнеса была бы кооперация с миром технологий: посещение различных акселерационных программ и инкубаторов в своей отрасли, для того чтобы на ранних стадиях отслеживать те компании, которые могут стать будущим конкурентом».
Уберизованный грузовик
Модели потребления меняются не только у покупателей. Меняются они и у ритейла, если речь идет о потреблении услуг для бизнеса. И происходит это все на том же поле – на поле создания новых онлайн-платформ и агрегаторов. Недавняя новость о том, что совладелец производителя овощных консервов Lutik Торгом Ширинян запустил агрегатор внутригородских перевозок Vezubr – яркое тому подтверждение.
Почему ритейлеры обращаются к бизнес-моделям, которые не являются профильными (традиционными) для продуктовой розницы? Мы решили спросить об этом у самого инвестора. По его словам, для ритейла подобные платформы как раз являются максимально целевыми и актуальными, ведь они помогают оптимизировать колоссальные потоки грузов. В ритейле скорость и качество выполнения перевозок особенно важны: часто перевозить нужно скоропортящиеся, хрупкие товары. Рассинхронизация и срыв поставок в точки продаж могут обернуться существенными потерями в пиковые сезоны. Неправильно или не вовремя оформленные и сданные документы о перевозке могут обернуться проблемами при расчете с контрагентами и банками, которые предоставляют участникам бизнес-процессов программы лизинга и факторинга. Иными словами, все проблемы, свойственные логистике (это и приписки времени водителями, и невозможность точного прогнозирования времени и стоимости доставки, и проблемы со страхованием большого потока грузов), особенную концентрацию имеют в ритейле. Вот почему именно эта отрасль стала одним из драйверов развития цифровых логистических платформ.
«Сегодня на рынке логистики мы наблюдаем повсеместное укрупнение, в мультимодальных перевозках стираются границы, грузы двигаются более быстро и беспрепятственно, – говорит Торгом Ширинян, мажоритарный акционер компании LogoSoft, компании-разработчика внутригородского агрегатора b2b-перевозок Vezubr, технический директор проекта. – Поэтому становится особенно важным оптимизировать эти динамичные потоки. Точек для оптимизации три: это междугородние доставки, внутригородские и «последняя миля». В автомобильной логистике уже есть ряд агрегаторов, которые работают на рынке межгорода, есть те, кто оптимизирует последнюю милю, но до сих пор нет тех, кто для b2b оптимизировал бы внутригородскую логистику. Наши исследования показывают, что простои машин внутри города колоссальны. На простой или порожний пробег транспортных средств тратится столько же, сколько на выполнение заказа. Эффективность в городе можно поднять минимум вдвое, это большой рынок и хорошая прибыль. Кроме того, значительная часть рынка находится в серой зоне. Приписки времени водителями, за которые расплачивается грузовладелец, непрозрачная система контроля движения транспортных средств, вопрос чистой бухгалтерии – эти проблемы никуда не делись. Мы создаем экосистему из всех ТЭК, которые действуют в прозрачном периметре и равны перед клиентами».
Может быть, интерес ритейла к созданию собственных агрегаторов и онлайн-платформ связан с тем, что сторонние сервисы неудовлетворительны, и потому компании все больше рассматривают варианты развития таких сервисов на своей базе? «И да, и нет, – говорит Данатар Атаджанов. – Скорее, ритейлерам необходима платформа, которая вписывается в инфраструктуру компании. Сейчас быстрая, налаженная собственная логистика является одним из решающих факторов в ритейле. Также не стоит забывать о безопасности и конфиденциальности».
По данным исследования компании Roland Berger, рынок онлайн-грузоперевозок в 2017–2018 годах оценивается в 1,7 трлн руб. Это в четыре раза больше всего рынка онлайн-такси. В крупных городах России зарегистрировано примерно 1,3 млн автомобилей грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн. Только 17% из этих транспортных средств принадлежат крупным и средним компаниям, 85% содержатся в руках мелких или частных предпринимателей и водителей. Их потенциал используется неэффективно. 90% времени эти машины не перевозят груз, а ожидают заказы. Именно эту точку роста и используют агрегаторы. Об этом говорит Торгом Ширинян: «Главное недовольство существующими сервисами, которые прикрываются модной вывеской «грузового убера», заключается в том, что ни один существующий игрок на рынке до Vezubr не пытался реально развивать именно модель агрегатора, независимой биржи. Все существующие платформы, которые обещают прямую связь перевозчика и владельца груза, на поверку оказываются завуалированными транспортно-экспедиционными компаниями (ТЭК), которые подписывают с каждым пользователем классический договор транспортной экспедиции. То есть по сути это такая же обычная ТЭК, просто с красивым сайтом и мобильным приложением для мониторинга грузов. Стабильно высокого качества от такой платформы ждать нельзя, ведь ТЭК заинтересована закрыть поступающие заявки на перевозку любой ценой, порой с несоблюдением всех нюансов перевозки в виде четкого ограничения по весу для фуры, например. В сегменте много посредственных проектов. Самое главное начинается на уровне бизнес-процессов. Без качественного электронного документооборота, понятной системы потокового страхования и эквайринга такие проекты обречены с самого начала. Вот почему важно, чтобы ими занимались не серийные предприниматели, а логисты с опытом».
«Я думаю, что основная причина желания ритейла развивать такие сервисы на своей базе, а не использовать сторонние, заключается в том, что на рынке есть большое количество различных ИТ-компаний, которые могут технически реализовать онлайн-платформу или агрегатор, но не понимают реальные потребности бизнеса. Получается, что на рынке можно встретить много разных агрегаторов перевозок, маркетплейсов и так далее (во многие из них вложены серьезные инвестиции), но ни одно из них не решает полностью проблемы своей целевой аудитории. Таким образом ритейлеры приходят к выводу, что проще и быстрее создать площадку под свои потребности, нежели ждать, когда на рынке появится кто-то, кто осознает эти потребности и предложит аналогичное решение», – размышляет Павел Васильев. Компания, которую представляет Павел, занимается облачной платформой для управления грузоперевозками онлайн. Их проект Pooling.me стал еще один примером того, как крупные ритейлеры с интересом вступают в коллаборации с подобными сервисами.
Pooling.me обеспечивает сборный способ доставки товаров. В проекте участвуют такие сети, как «Магнит» и «Пятерочка». «Зарегистрировавшись на сайте автоматизированной платформы Pooling.me, поставщик размещает заказ на определенную дату, указывая пункт назначения и объем товара. Пользователь видит суммарное количество палет. Если их число в одной поставке превышает 24, то для всех участников действует специальный пониженный тариф и единая цена за одну палету. Если количество товара меньше, доставка рассчитывается по стандартной стоимости. Консолидация заказов происходит на складе транспортной компании. Pooling позволяет поставщикам сократить логистические затраты в среднем на 10–30% и не зависеть от размера заказа и частоты поставок, что особенно актуально для небольших компаний», – объясняют в «Магните». «На этапе тестирования мы сократили товарные запасы на 8%, а поток транспортных средств – на 14%. Когда к проекту подключится больше поставщиков и транспортных компаний, результаты будут значительно выше», – прокомментировала директор департамента по работе с поставщиками розничной сети «Магнит» Анастасия Сорокоумова. На данный момент в проекте участвуют такие поставщики, как «Мистраль», Podravka, «С.Пудовъ», Beiersdorf, Johnson & Johnson и другие.
«Наш проект Pooling.me по консолидации доставок в торговые сети уникален как раз тем, что он изначально продумывался всеми участниками цепочки доставки: ритейлером, поставщиками и перевозчиком, – делится подробностями Павел Васильев. – Мы выступили в роли ИТ-компании, которая реализовала это решение и теперь развивает его. За счет четкого понимания потребностей всех участников, а также нашей технической экспертизы нам удалось сделать очень простое решение, которое действительно решает проблемы бизнеса. Это уникальный опыт кооперации между компаниями из различных отраслей, и результаты такой кооперации уже превзошли все ожидания: проект поддерживают «Магнит» и X5, и за три месяца работы площадки после пилотного проекта к нам уже подключилось более 40 поставщиков FMCG-сектора».
Неудовлетворенность существующими сторонними сервисами – это одна из причин создания платформ для внутреннего пользования. «Сейчас же речь идет о том, что ритейл не только создает и использует их для своих нужд, но и предлагает свои сервисы другим участникам рынка», – рассказывает Андрей Дерябин. Можно сделать вывод, что те коллаборации, которые мы видим сейчас, – это только начало развития ритейловых онлайн-платформ. «Онлайн-платформы – это не угроза, а возможность для офлайн-бизнеса, и для ритейла в том числе», – соглашается Андрей Дерябин.
Коллекция агрегаторов
Одними грузоперевозками тема не исчерпывается. Ритейл создает самые разные платформы, и цели у этого действа тоже различны. Так, «Метро Кэш энд Керри» организовала свой маркетплейс для того, чтобы поддержать некрупных игроков рынка. Маркетплейс был представлен общественности в красный день календаря – к празднованию Дня предпринимателя, который отмечается по всему миру каждый второй вторник октября. Праздник прошел, а платформа осталась. Как заявляют в компании, маркетплейс ownbusinessday.ru создан «Метро» для владельцев малого и среднего бизнеса. В 2018 году маркетплейс второй год подряд стал агрегатором предложений ко Дню независимых предпринимателей. Каждый владелец бизнеса может разместить здесь свое b2b- или b2c-предложение. «Метро» со своей стороны оказывает поддержку маркетплейсу, привлекая дополнительных клиентов к предложениям от партнеров. Для представителей бизнеса платформа функционирует абсолютно бесплатно и дает возможность обмениваться предложениями от партнеров и клиентов в нескольких форматах. Компании размещают самые разные предложения – от эквайринга и маркетинговых услуг до решений по автоматизации бизнес-процессов.
Ритейлеры все больше погружаются в то, что называется sharing economy и online platform economy. Нам с вами как частным лицам такие бизнес-модели хорошо знакомы. Именно так функционируют сервисы вроде Uber, AirBnB, eBay и множество других, российских аналогов названных платформ, услугами которых пользуются люди во множестве стран мира. Такие платформы сводят вместе продавцов и покупателей, заказчиков и подрядчиков, арендаторов и арендодателей, облегчая коммуникацию и выступая гарантом надежной сделки, а заодно стирая границы между странами и национальностями. Еще несколько лет назад аналитики (в частности, JPMorgan Chase Institute) выражали сомнение в том, что такая модель будет успешной: чем богаче становились американцы, тем меньше было желающих продавать свои услуги и товары дешево на подобных платформах. Однако сейчас видно – тренд и не думает угасать.
Такая жизнеспособность онлайн-платформ для частных лиц заинтересовала крупный торговый бизнес. «У этого тренда есть несколько причин, – считает Дмитрий Петров. – Во-первых, на подобные платформы есть спрос со стороны потребителей. Людям просто удобно покупать в одном месте. Развитие чат-ботов и голосовых помощников будет способствовать агрегации предложений без специальных платформ. Вторая причина – ритейлерам очень нужны данные. Собственных данных сетей недостаточно для персонализированных предложений и прогнозной аналитики покупательского поведения, которыми сейчас все увлечены. Обогащение данных за счет других источников тоже не дает полной картины. Дополнительные сервисы и платформы позволяют эти данные получить, а также выйти в новые сегменты рынка».
Из недавних примеров коллабораций ритейла и платформ для частных лиц: в октябре было объявлено, что «Икеа» начинает сотрудничество с отечественным сервисом для поиска исполнителей YouDo. Здесь можно найти кого угодно: от помощника по уходу за детьми до сантехника и сборщика мебели. Вот этой последней опцией и решила воспользоваться «Икеа». Смысл в том, что при заказе мебели на сайте компании можно одновременно подыскать человека, который возьмется эту мебель собрать. Объединиться с гражданами решили и в компании «Юлмарт». Здесь создали площадку для частных объявлений, что-то вроде еще одного Avito. Сервис называется «Юлмарт Second», что отражает суть предложения: тут можно торговать подержанными вещами, причем даже необязательно техникой – там уже, например, выставлена старая детская коляска.
Выиграет ли ритейлер от сотрудничества с частными лицами? Не повредит ли это его имиджу? Известно, что при сотрудничестве с третьей стороной, особенно с лицами неюридическими, проблем и накладок может быть больше, чем выгоды. Андрей Дерябин уверен, что вряд ли стоит ожидать серьезных проблем: «Икеа» и раньше никогда сама не занималась сборкой, а делегировала ее третьим лицам, перепродавая их услуги своим покупателям. Но раньше эти лица были только юридическими. Решение «Икеа» дополнить свое предложение еще и физическими лицами – это расширение возможностей выбора для ее клиентов. Так «Икеа» отвечает на рыночные вызовы, усиливает собственную конкурентоспособность и реагирует на сокращение покупательской способности населения, ведь вариант с частными подрядчиками дешевле. А возможность заказать сборку у юридических лиц, действующих под брендом «Икеа», по-прежнему осталась». По мнению Андрея Дерябина, теперь клиент сам может выбрать: рискнуть и сэкономить или получить гарантированный результат. А онлайн-платформа YouDo с отзывами и рейтингами добавит прозрачности, которая подтянет исполнителей по качеству.
Как полагает Гай Карапетян, «Юлмарт» был вынужден сделать этот шаг, так как у него нет денег на товарооборот, но есть какой-то объем трафика, который пока генерирует компания. «Для них это просто попытка дополнительной монетизации при резко уменьшающемся ассортименте. Хотя и количество трафика тоже очень заметно снижается. За последние два года количество посещений сайта снизилось на 60%», – отмечает он.
Для «Икеа» объединение с YouDo – совсем другая история, считает Гай Карапетян. Ритейлер вышел в онлайн-торговлю в этом году, и логичным решением было бы предложить покупателям возможность дистанционно заказать сборщика мебели. Сами они сборкой заниматься не будут, это вне их стратегии. Также вне их стратегии иметь официального партнера, бренд которого встанет рядом с брендом «Икеа», ведь тогда придется разделять юридическую ответственность. «Решение с YouDo как раз хорошо для них тем, что нет конкретного партнерского бренда, результаты деятельности которого могут навредить бренду компании», – говорит он.
Интересно, что об этом думают сами обсуждаемые выше ритейлеры. Мы задали вопрос напрямую. «Икеа» решила хранить молчание, тогда как «Юлмарт» высказался. «Для «Икеа» имиджевых рисков нет, так как компания фактически не сотрудничает с частниками, а реализует кросс-маркетинг с YouDo, – комментирует Сергей Прель, директор центра клиентского и гарантийного сервиса компании «Юлмарт». – Сборка и установка мебели должна приносить ритейлеру дополнительный доход, поэтому полное переключение на частников, которое обеспечит доступность сервиса для покупателей, но не будет прибыльным, может говорить об убыточности данного подразделения компании и необходимости оптимизации расходов на него. Если же рассматривать новый сервис частных объявлений «Юлмарт Second», то мы не замещаем существующую бизнес-структуру частной, а предлагаем частным продавцам воспользоваться помощью и экспертизой ритейлера в их сделках между собой, сделав их безопаснее и удобнее».
По его словам, «Икеа» с YouDo не создавали платформу или онлайн-решение. Нельзя таковыми назвать отдельный раздел с кратким текстовым описанием, включающим ссылку на YouDo, который можно найти на сайте «Икеа», и лендинговую страницу YouDo со стандартной формой заявки. «В то время как мы, создавая сервис частных объявлений «Юлмарт Second», сделали, с одной стороны, полностью новое ИТ-решение сайта, которое содержит много новых уникальных функций и возможностей, а с другой – использовали существующую физическую инфраструктуру и систему учета, разработав несколько новых бизнес-процессов, благодаря чему оптимизировали инвестиции на запуск и полностью исключили дополнительные операционные затраты на начальном этапе, – перечисляет Сергей Прель. – При дальнейшем развитии данного направления и кратном росте его масштабов потребуется выделение больших ресурсов компании на развитие и, как следствие, расширение соответствующих специальных подразделений».
ИТ-гора
Если вопрос с имиджем лежит в области непредсказумой зыбкости, то вопрос денег – вещь вполне конкретная и осязаемая. Крупные ритейловые компании и так тратят миллионы на поддержку всей своей ИТ-инфраструктуры. «Стоимость работ по созданию ИТ-продуктов зависит от их функционала, а не от отрасли, и начинается от нескольких миллионов рублей за совсем уж примитивные решения, – обрисовывает ситуацию Андрей Дерябин. – Если эти решения подтверждают наличие спроса на рынке, то инвестиции в разработку продолжаются непрерывно и за десятки лет могут достигнуть миллиардов долларов. Продукт обрастает функционалом и выходит на новые рынки: захватывает новые страны и даже новые отрасли. Все это зависит только от скорости роста количества платящих пользователей».
«Сделать свою платформу очень дорого, говорю это как представитель ИТ-компании, – уверяет Дмитрий Нор. – На старте нужны очень серьезные инвестиции, и добыть их способны только крупные игроки или стартапы с уникальными идеями. Стоимость зависит не от направленности и содержания, а от сложности технической реализации (сложности и количества функций)».
Насколько выгодной в этом случае окажется поддержка еще и онлайн-платформ, агрегаторов, не связанных напрямую с профильным бизнесом торговых сетей, – неизвестно. Головная боль вполне возможна в том случае, если система ставится поверх существующей инфраструктуры организации и требует длительной и аккуратной интеграции со всеми действующими ИТ-системами классов ERP, CRM, WMS. Об этом рассказывает Торгом Ширинян: «Например, в случае с Vezubr речь идет о полностью бесшовной интеграции платформы с ИТ-инфраструктурой перевозчика. Система разворачивается в облаке, синхронизируется в течение одного рабочего дня с модулями и цепочками продуктов 1C, SAP, Oracle».
Сами по себе онлайн-платформы не всегда являются каким-то слишком сложным технологическим решением. «Нельзя сказать, что подобная платформа обязательно должна быть сложной, – полагает Олег Сахно, руководитель направления исследований Rookee (холдинг Ingate). – Если есть интересная идея, потребность, актуальная для большого числа участников рынка, ее можно закрыть достаточно простым способом. Например, «Яндекс.Еда» или «Авито» – насколько они сложны технологически? По факту это весьма лаконичные решения, которые удовлетворяют конкретный запрос аудитории. Конечно, по мере развития продукта придется его дорабатывать, усложнять, чтобы не проиграть конкурентам, чтобы удерживать аудиторию и закрывать новые потребности».
Однако, по его мнению, какой бы простой или сложной ни была платформа, придется пройти весь путь построения ИТ-инфраструктуры: собрать команду разработки, эксплуатации, продуктовую команду. Другое дело, какие именно ресурсы для этого потребуются. В каких-то случаях изначально потребуется сложный продукт, например, если идея не нова и нужно предложить что-то сверх конкурентов. Можно выстраивать свою систему логистики, за счет каких-то опций создавать добавленную ценность.
«Но самое интересное, что вот эту актуальную для широкой аудитории потребность сегодня нащупать не так сложно, – добавляет Олег Сахно. – Дивергентность, то есть множество способов решения одних и тех же задач, приводит к тому, что люди ищут способ упростить выбор везде, где только можно. Они не хотят думать, в какой магазин ехать, что приготовить на обед, какой отель выбрать под определенный бюджет. Они идут в сервисы, которые решат проблему. Есть спрос на подобные решения и в других сферах. Уже мало кто хочет думать, что лучше для рекламы в сети того же ритейла: продвижение, соцсети, видеореклама? Клиенты заказывают комплексные решения, но глобально все идет к тому, что и здесь появятся интеграторы, агрегаторы, которые соберут в одном месте все инструменты, решения и технологии. И не надо будет запрашивать коммерческое предложение у десяти компаний по продвижению бизнеса».
Изнанка процесса
Как любой проект, связанный с разработкой ПО, разработка своей онлайн-платформы требует как минимум четкого понимания назначения этой платформы и наличия описания целевого бизнес-процесса, который должен быть реализован на платформе. «В идеальном случае нужно иметь четко прописанное техническое задание на систему. Или по крайней мере нужно иметь «спонсора» проекта – человека или подразделение, которое четко понимает, что хочет от платформы, – разъясняет Михаил Корнаухов, генеральный директор компании «Интэллекс».
По его мнению, прежде чем создавать агрегатор, компания должна понять, что и как будет агрегировать и продавать этот агрегатор. Техническое задание или описание бизнес-процесса – это документы заказчика, не следует ожидать, что исполнитель сможет сформулировать требования к новой системе за вас. Затем идет фаза выбора программного решения и / или определения необходимости собственной разработки. Как правило, собственная разработка дороже и дольше, чем внедрение готового решения. Кроме того, собственная разработка требует либо наличия собственной команды разработчиков, что нехарактерно для компаний, занимающихся продажами, либо необходимости заказа разработки на стороне. С другой стороны, внедрение готового ПО быстрее и зачастую дешевле, но такое ПО не всегда «из коробки» реализует нужный бизнес-процесс и требует настройки под конкретные требования заказчика. «При наличии хорошего технического задания задача оценки затрат на тот или иной вариант создания платформы для агрегатора достаточно простая, и любые бизнес-консультанты с ней справятся», – уверен Михаил Корнаухов.
Сложность платформ зависит от того, сколько в них уже вложено усилий, какая функциональность уже разработана. «Платформу для агрегаторов можно достаточно быстро написать «на коленке» и запустить, но в дальнейшем все равно потребуется проделать большую работу по ее улучшению, – напоминает Сергей Зинкевич, продакт-менеджер КРОК «Облачные сервисы». – Если немного перефразировать девиз одного разработчика онлайн-игр, то платформы easy to start, hard to master (легко запустить, сложно довести до высокого уровня). Обычно в основе платформ лежит микросервисная архитектура. Благодаря ей в рамках приложения можно создавать множество независимых модулей, в которые вносятся изменения. За счет этого платформа работает стабильнее и адаптивнее к нагрузкам. Для крупных ритейлеров, часто имеющих штат собственных разработчиков, проект создания агрегатора не является такой уж сложной задачей. Да, он потребует времени и инвестиций, но вполне возможно, что для реализации подобного проекта не нужно будет искать внешних исполнителей. И уж тем более не появится необходимости в отдельном департаменте».
Почему-то вопрос об открытии собственного департамента оказался спорным. Мнения экспертов разделились. «Если ритейлер идет по пути inhouse-разработки, то собственное подразделение необходимо, – считает Михаил Корнаухов. – В случае же приобретения готового решения достаточно иметь небольшой штат технических специалистов, отвечающих за функционирование программно-аппаратного комплекса. И даже эту работу можно поручить сторонней организации, например ЦОДу. Точно понадобится собственный колл-центр хотя бы на уровне второй и третьей линий поддержки. И однозначно необходимо подразделение, занимающееся технологическим сопровождением процесса продаж на площадке, а также развитием площадки в плане появления новых услуг и продуктов. Технические вопросы можно отдать на аутсорс, однако вопросы развития бизнеса никто, кроме собственника, решить не сможет».
Аутсорсят только неключевые компетенции. «Возможно, некоторые модули программного продукта будут заказаны сторонним разработчикам или куплены целиком. Возможно, крупный ритейлер последовательно купит несколько стартапов, уже работающих на этом рынке, чтобы сразу получить и опыт, и костяк команды, – размышляет Андрей Дерябин. – Время в данном случае дороже. Собственные департамент разработки и департамент поддержки потребуются однозначно».
Здесь все зависит от того, насколько бизнес ритейлера будет завязан на онлайн-платформу. «Если речь идет про то, что это вспомогательная площадка, которая не влияет значительно на бизнес компании, то я считаю, что держать собственный департамент для ее поддержки не нужно, – делится своей точкой зрения Павел Васильев. – Достаточно иметь качественного подрядчика, который будет ее обслуживать. Если же речь идет про систему, которая влияет на ключевые бизнес-процессы компании, то в этом случае в компании однозначно должны быть люди, которые будут обладать достаточной экспертизой по данной системе. Даже если поддержка отдана на откуп сторонней организации.
Требования к масштабируемости решения должны быть прописаны в техническом задании, и поставщик (или разработчик) решения должен продемонстрировать, каким образом его решение удовлетворяет этим требованиям. Программные продукты и аппаратное обеспечение, используемые для работы платформы, должны масштабироваться в пределах, необходимых заказчику, и выбор этих решений должен быть частью предложения исполнителя. «В настоящее время существует несколько возможностей получить хорошо масштабируемые проекты. Однако при выборе технологий, лежащих в основе платформы, следует учитывать специфику конкретного приложения или бизнес-модели. Например, решения, хорошо масштабируемые для обеспечения высокой скорости обработки клиентских запросов на чтение данных, не всегда обеспечивают аналогичную масштабируемость при обработке большого количества запросов на запись данных», – отмечает Михаил Корнаухов.
О том, как выглядит на практике разработка и запуск онлайн-платформы, рассказывает Павел Васильев: «Когда мы разрабатывали Pooling.me, у нас был трехэтапный процесс. Сначала мы сделали очень простой прототип системы. В нем даже не было бизнес-процесса, но его можно было «пощупать» и понять, как будет организовано взаимодействие участников площадки в будущем. Мы показали прототип всем участникам и получили очень позитивные отзывы: люди однозначно подтвердили, что мы двигаемся в правильном направлении. После этого мы сделали пилотную версию продукта. Она уже была полностью рабочей, но с ограниченным функционалом: внедрили только необходимое для того, чтобы протестировать идею и убедиться, что она действительно приносит выгоду всем участникам проекта. Пилот длился три месяца, за это время результаты получились настолько впечатляющими, что компания «Магнит» выпустила пресс-релиз о нашей площадке и порекомендовала всем своим поставщикам переходить на нее».
Как рассказал Павел Васильев, сейчас проект находится на стадии масштабирования. «Для этого мы активно собираем обратную связь со всех подключающихся компаний и принимаем решение о том, как еще мы можем расширить функционал площадки, чтобы принести дополнительную пользу нашим клиентам. Самое интересное, что такой поэтапный подход настолько понравился всем участникам, что теперь к нам обращаются с заказами на разработку других систем «под ключ» по такой же схеме», – делится он.
Общая рекомендация Павла Васильева следующая: всегда нужно начинать с чего-то малого и прежде чем серьезно вкладываться в площадку, обязательно нужно сделать прототип и протестировать его с вашей целевой аудиторией. Может получиться так, что уже на этом этапе станет понятно, что будущая система не решит те проблемы, которая должна решать, но самое ценное – время и деньги – будут сэкономлены.
«Технические проблемы решаются легко. Сложно решается вопрос трафика, – резюмирует Гай Карапетян. – Как сделать так, чтобы эта услуга была востребована у клиентов? Технически открыть доску объявлений несложно, вопрос в том, где взять достаточное количество трафика и за какие деньги».
Переселяемся на облако
В некоторых случаях с запуском агрегатора может помочь облачное решение. Агрегаторы появились значительно позднее облаков, когда степень проникновения в бизнес-среду последних была уже значительна. Поэтому большинство существующих сегодня агрегаторов имеют так называемую cloud native архитектуру: они изначально разработаны таким образом, чтобы работать на базе облачной инфраструктуры. Об этом рассказывает Сергей Зинкевич: «Создателей агрегаторов и маркетплейсов в облаке привлекают возможности масштабирования и готовность к пиковым нагрузкам, отсутствие затрат на собственное вычислительное оборудование и его администрирование. При этом успех агрегатора зависит от многих факторов. Это и удобство интерфейса, и скорость поиска по фильтрам, и полнота выдачи информации по запросу, и наличие дополнительного функционала (например, возможность обратиться к виртуальному помощнику или оплатить товар онлайн) и, конечно же, масштабируемость, достигаемая за счет упомянутой ранее микросервисной архитектуры. Указанные характеристики должны быть учтены на начальном этапе разработки платформы».
«Я бы рекомендовал использование облаков на старте, на этапе проверки гипотезы, отработки бизнес-модели, – советует Олег Сахно. – Облачные технологии позволят избежать инвестиций в дорогостоящее оборудование. Это, конечно, удобнее, чем строить все с нуля, но на каком-то этапе, когда объем вырастет, это станет дороже. И дальше необходимо смотреть, насколько рентабельны облака, а насколько – собственная инфраструктура. Понятно, что пока работа ведется в облаке, на третьей стороне, под вопросом может быть безопасность данных. Но за нее и при использовании собственного оборудования не всегда можно поручиться».
[~DETAIL_TEXT] =>«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник», – писал в своей басне Иван Крылов. Он просто не жил в нашем веке! В последние несколько лет в бизнесе все так перемешалось, что невозможно точно определить сферу, которой занимается компания. Например, Сбербанк – это банк. «Яндекс» – это ИТ-компания. Понятия давно устоявшиеся. Только вот, объединившись в одну команду, эти две компании принялись торговать товарами из Китая и Турции, то есть превратились в одного серьезного ритейлера. Онлайн-площадка начала свою работу в ноябре. Герман Греф заявляет, что планирует сделать российский Amazon. И это только один пример: маркетплейсы на нашем рынке появляются один за другим.
АВТОР: Наталья Николаева
Сервис Сбербанка и «Яндекса» только запустился, находится в режиме бета-тестирования, о чем прямо сказано в шапке сайта. Но стоило мне посетить его в первый раз в жизни, как он тут же узнал меня. Мне даже не понадобилось заводить там аккаунт, все уже было готово к моему приходу и ждало своего часа. Bringly поприветствовал меня по имени, у него были мои данные в виде почты, номера телефона, даты рождения и даже номера банковской карты! Секрет в том, что «Яндекс» легко узнает своих пользователей, причем вовсе не по походке, а по тому, что мы пользуемся его почтовым сервисом. А заодно и другими услугами вроде «Яндекс.Кошелька» или «Яндекс.Такси». Понятно, что любой новый сервис от этой компании уже будет знать о вас все, не спрашивая. Вот вам и преимущества коллаборации с крупнейшей российской ИТ-компанией: у нее есть данные и есть аудитория. Пользователи уже в кармане такого гиганта – доставай и властвуй.
Проект должен захватить пользователей идеей низких цен на оригинальные товары, поставкой напрямую из стран-производителей, отсутствием наценок и кэшбеком – все эти опции обещаны на главной странице. Однако обещать в Интернете – дело опасное. Быстрый сравнительный поиск с помощью – вот ирония! – еще одного сервиса от «Яндекса» показал, что даже товары со скидкой на Bringly стоят дороже аналогов, которые можно пойти и купить в наших магазинах прямо сейчас.
При этом конкуренты идут за альянсом по пятам – о похожем объединении в сентябре заявили Mail.Ru Group, Alibaba Group и «Мегафон». Их маркетплейс планирует работать «во всех сегментах электронной коммерции, включая трансграничные и местные рынки, а также розничную торговлю», сообщает РБК. Китай же в лице Джека Ма, основателя и председателя совета директоров Alibaba Group, заявил: «Российская экономика не в лучшем состоянии. Пора выходить на этот рынок».
Банки, телеком-операторы, ИТ-компании – в России торгуют все! Ритейлом начинают заниматься компании, чей основной бизнес лежит в другой области. И что в этой ситуации остается делать магазинам? Может быть, пора паниковать? «Для традиционного ритейла эта ситуация угрозы пока не несет, это все же еще не технологии Amazon, – успокаивает нас Гай Карапетян, генеральный директор компании Gai.Company. – А вот структура российского онлайн-ритейла может претерпеть изменения. Маркетплейс – это предельная бизнес-модель любого интернет-магазина. Онлайн-ритейл в отличие от традиционного не может увеличить количество магазинов, а может лишь увеличивать ассортимент и закупать больше трафика. Если говорить о конкретном кейсе, то мы видим, что трафик у «Яндекса» свой, деньги на ассортимент взяты у Сбербанка, модель маркетплейса помогает удлинить полку еще больше, переложив часть ассортимента на поставщиков. И если у нас появится долгожданный лидер, который сможет консолидировать разрозненный рынок онлайн-торговли, то задуматься должны владельцы торговых марок и собственного производства: а точно ли им надо открывать свой интернет-магазин и тратиться на его поддержку, если есть точка, где закупается большая часть онлайн-пользователей. Так, например, один из наших клиентов, крупная мировая корпорация-производитель напитков, в начале года тоже рассматривала вопрос об открытии собственного интернет-магазина, или маркетплейса, где клиент мог бы выбрать, у кого из мерчантов закупить продукцию. Оценив среднесрочную перспективу, клиент отказался от этого решения, так как мы ожидаем, что эту функцию успешно выполнят маркетплейсы, консолидирующие рынок, «Беру.ру», например».
Очевидно, что ситуация, в которой маркетплейсы растут как грибы и грозят превратиться в огромную грибницу, должна повлиять на путь развития обычного, привычного нам ритейла. «Пример «Яндекса» и Сбербанка является очень показательным, потому что через него прослеживаются современные тенденции: те компании, которые еще вчера занимались исключительно ИТ-бизнесом, набирают достаточные вес и ресурсы, чтобы заходить в традиционные отрасли, – полагает Павел Васильев, директор компании Artlogic. – Причем здесь важно понимать, что их преимущество заключается в следующем: они еще не поварились в новой для себя сфере, глаз не замылился, поэтому им очень хорошо видны проблемы отрасли со стороны. Именно поэтому они могут предложить какие-то нестандартные решения, которые не смогли придумать традиционные игроки. Таким образом, ритейл будет однозначно меняться за счет вливания ИТ-экспертизы в традиционный бизнес».
Однако грозного «убийцу» в случае розничной торговли (помните, как таблоиды постоянно анонсируют нового «убийцу» чего-нибудь, например, iPhone) пока не нашли. «У ритейла есть некоторые вопросы, которыми не будут заниматься такие компании, как «Яндекс» и Сбербанк. Например, проверка на соответствие санитарным нормам. Если и будут продавать продукты питания, то кофе или шоколад, но не мясо и не рыбу. А ритейл пойдет по другому пути. Это конкуренция и адаптация к конкуренции. Это нормально для любого бизнеса», – говорит Дмитрий Нор, директор компании SkySoft.
Беги быстрее
На самом деле ритейл потихоньку меняется. В отрасли опасаются выхода на рынок больших маркетплейсов. «Есть прогноз, что в скором времени маркетплейсы займут 50% всего рынка e-commerce. С учетом того, что сам рынок e-commerce растет по экспоненте, маркетплейсы становятся вполне реальной угрозой классическому офлайн-ритейлу», – полагает Дмитрий Петров, эксперт iCluster, генеральный директор ГК «Лад».
Все побежали – и ритейл побежал. Теперь он тоже вступает в коллаборации и начинает заниматься, казалось бы, непрофильным делом, то есть создавать агрегаторы, онлайн-платформы и маркетплейсы. Иногда в деле также замешан Китай. Так, X5 Retail Group, словно не желая отставать в этой «китайской» гонке, объявила о том, что разворачивает свою платформу и вскоре займется доставкой заказов из сторонних интернет-магазинов. Угадайте, откуда будут товары? По сообщению компании, сейчас «X5 работает над созданием инфраструктуры для доставки онлайн-покупок из любых интернет-магазинов и маркетплейсов в автоматизированные пункты выдачи, которые в настоящий момент размещаются в магазинах X5 (локеры, почтоматы). Это позволит предложить нашим покупателям дополнительный удобный и востребованный сервис. Мы ведем переговоры с рядом крупнейших международных компаний и уже тестируем совместные маркетинговые активности с такими онлайн-игроками, как JD.com и Aliexpress». Причина такой диверсификации в поиске новых точек роста из-за сокращения потенциала основного бизнеса в результате падения покупательной способности населения. Так считает Андрей Дерябин, генеральный директор агрегатора контейнерных линий AllContainerLines.
Долой собственность
Маркетплейсы, которые открывают софтверные гиганты, – это еще полбеды. Существует мнение, согласно которому вся экономика движется в сторону отказа от собственности. Собственность должна заменить повсеместная аренда. Квартиры, дома, виллы на Багамах – все сдается в аренду. Не говоря о более простых предметах.
Уже сейчас в России появились первые единые платформы, где можно арендовать практически любую вещь: от ювелирных украшений до диких животных, автодома, лимузина или детского чемодана на колесиках. Каталожная наполненность таких сервисов пока оставляет желать лучшего, да и цены на аренду, которые установили первые владельцы предметов, весьма кусаются. Но тенденция есть, и она понятна. Если подобный агрегатор взлетит – пользователи всерьез призадумаются, стоит ли тратиться на бриллианты, если их можно за небольшие деньги поносить вечером и утром отдать обратно.
Магазины FMCG на этом месте фыркнут и подумают, что бриллианты в таком аспекте их не касаются. Посуду уже сдают в аренду вместе со скатертями и потребительской электроникой, заметим мы. Экономика шэринга, аренды всего на свете – это серьезный тренд. Таксисты тоже ничего не боялись, пока их земли не захватили «Убер» и «Яндекс». Теперь наши люди спокойно ездят на такси в булочную и их ничто не смущает. Может ли быть такое, что со временем онлайн-платформы по аренде вещей серьезно потеснят ритейл? «Нас все время пугают новыми форматами. Раньше пугали телевидением, вытесняющим кино и театр, в недавнем прошлом электронными книгами, которые уничтожат бумажные, потом онлайн-торговлей, поглощающей традиционный ритейл, – улыбается Данатар Атаджанов, директор по маркетингу компании MoscoWine, маркетплейса, который помогает найти любимое вино в любом месте города. – Агрегаторы и маркетплейсы дают новые возможности для продавцов и покупателей, соединяют их. Жалуются, как известно, «плохие танцоры». Рынок – беспристрастный судья. Если продукт востребован, он будет пользоваться спросом до тех пор, пока не появится что-то новое или не адаптируются старые форматы».
«Угрозы непосредственно ритейлу я здесь не вижу, – согласен с коллегой Гай Карапетян, – потому что те же компании, сдающие продукт в аренду, должны закупать этот товар и оборачивать его в короткие сроки. Автомобили в каршеринге появятся на российском вторичном рынке через три года, а компании будут освежать парк». По его мнению, сама потребность в продукте никуда не девается, изменяются лишь модели потребления.
«А я абсолютно уверен в том, что любой традиционный бизнес в условиях современного рынка должен быть начеку и готовиться к тому, что в его отрасль придут так называемые «подрывные инновации», которые поменяют правила игры, – призывает не расслабляться Павел Васильев. – В этом контексте разумным решением для любого бизнеса была бы кооперация с миром технологий: посещение различных акселерационных программ и инкубаторов в своей отрасли, для того чтобы на ранних стадиях отслеживать те компании, которые могут стать будущим конкурентом».
Уберизованный грузовик
Модели потребления меняются не только у покупателей. Меняются они и у ритейла, если речь идет о потреблении услуг для бизнеса. И происходит это все на том же поле – на поле создания новых онлайн-платформ и агрегаторов. Недавняя новость о том, что совладелец производителя овощных консервов Lutik Торгом Ширинян запустил агрегатор внутригородских перевозок Vezubr – яркое тому подтверждение.
Почему ритейлеры обращаются к бизнес-моделям, которые не являются профильными (традиционными) для продуктовой розницы? Мы решили спросить об этом у самого инвестора. По его словам, для ритейла подобные платформы как раз являются максимально целевыми и актуальными, ведь они помогают оптимизировать колоссальные потоки грузов. В ритейле скорость и качество выполнения перевозок особенно важны: часто перевозить нужно скоропортящиеся, хрупкие товары. Рассинхронизация и срыв поставок в точки продаж могут обернуться существенными потерями в пиковые сезоны. Неправильно или не вовремя оформленные и сданные документы о перевозке могут обернуться проблемами при расчете с контрагентами и банками, которые предоставляют участникам бизнес-процессов программы лизинга и факторинга. Иными словами, все проблемы, свойственные логистике (это и приписки времени водителями, и невозможность точного прогнозирования времени и стоимости доставки, и проблемы со страхованием большого потока грузов), особенную концентрацию имеют в ритейле. Вот почему именно эта отрасль стала одним из драйверов развития цифровых логистических платформ.
«Сегодня на рынке логистики мы наблюдаем повсеместное укрупнение, в мультимодальных перевозках стираются границы, грузы двигаются более быстро и беспрепятственно, – говорит Торгом Ширинян, мажоритарный акционер компании LogoSoft, компании-разработчика внутригородского агрегатора b2b-перевозок Vezubr, технический директор проекта. – Поэтому становится особенно важным оптимизировать эти динамичные потоки. Точек для оптимизации три: это междугородние доставки, внутригородские и «последняя миля». В автомобильной логистике уже есть ряд агрегаторов, которые работают на рынке межгорода, есть те, кто оптимизирует последнюю милю, но до сих пор нет тех, кто для b2b оптимизировал бы внутригородскую логистику. Наши исследования показывают, что простои машин внутри города колоссальны. На простой или порожний пробег транспортных средств тратится столько же, сколько на выполнение заказа. Эффективность в городе можно поднять минимум вдвое, это большой рынок и хорошая прибыль. Кроме того, значительная часть рынка находится в серой зоне. Приписки времени водителями, за которые расплачивается грузовладелец, непрозрачная система контроля движения транспортных средств, вопрос чистой бухгалтерии – эти проблемы никуда не делись. Мы создаем экосистему из всех ТЭК, которые действуют в прозрачном периметре и равны перед клиентами».
Может быть, интерес ритейла к созданию собственных агрегаторов и онлайн-платформ связан с тем, что сторонние сервисы неудовлетворительны, и потому компании все больше рассматривают варианты развития таких сервисов на своей базе? «И да, и нет, – говорит Данатар Атаджанов. – Скорее, ритейлерам необходима платформа, которая вписывается в инфраструктуру компании. Сейчас быстрая, налаженная собственная логистика является одним из решающих факторов в ритейле. Также не стоит забывать о безопасности и конфиденциальности».
По данным исследования компании Roland Berger, рынок онлайн-грузоперевозок в 2017–2018 годах оценивается в 1,7 трлн руб. Это в четыре раза больше всего рынка онлайн-такси. В крупных городах России зарегистрировано примерно 1,3 млн автомобилей грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн. Только 17% из этих транспортных средств принадлежат крупным и средним компаниям, 85% содержатся в руках мелких или частных предпринимателей и водителей. Их потенциал используется неэффективно. 90% времени эти машины не перевозят груз, а ожидают заказы. Именно эту точку роста и используют агрегаторы. Об этом говорит Торгом Ширинян: «Главное недовольство существующими сервисами, которые прикрываются модной вывеской «грузового убера», заключается в том, что ни один существующий игрок на рынке до Vezubr не пытался реально развивать именно модель агрегатора, независимой биржи. Все существующие платформы, которые обещают прямую связь перевозчика и владельца груза, на поверку оказываются завуалированными транспортно-экспедиционными компаниями (ТЭК), которые подписывают с каждым пользователем классический договор транспортной экспедиции. То есть по сути это такая же обычная ТЭК, просто с красивым сайтом и мобильным приложением для мониторинга грузов. Стабильно высокого качества от такой платформы ждать нельзя, ведь ТЭК заинтересована закрыть поступающие заявки на перевозку любой ценой, порой с несоблюдением всех нюансов перевозки в виде четкого ограничения по весу для фуры, например. В сегменте много посредственных проектов. Самое главное начинается на уровне бизнес-процессов. Без качественного электронного документооборота, понятной системы потокового страхования и эквайринга такие проекты обречены с самого начала. Вот почему важно, чтобы ими занимались не серийные предприниматели, а логисты с опытом».
«Я думаю, что основная причина желания ритейла развивать такие сервисы на своей базе, а не использовать сторонние, заключается в том, что на рынке есть большое количество различных ИТ-компаний, которые могут технически реализовать онлайн-платформу или агрегатор, но не понимают реальные потребности бизнеса. Получается, что на рынке можно встретить много разных агрегаторов перевозок, маркетплейсов и так далее (во многие из них вложены серьезные инвестиции), но ни одно из них не решает полностью проблемы своей целевой аудитории. Таким образом ритейлеры приходят к выводу, что проще и быстрее создать площадку под свои потребности, нежели ждать, когда на рынке появится кто-то, кто осознает эти потребности и предложит аналогичное решение», – размышляет Павел Васильев. Компания, которую представляет Павел, занимается облачной платформой для управления грузоперевозками онлайн. Их проект Pooling.me стал еще один примером того, как крупные ритейлеры с интересом вступают в коллаборации с подобными сервисами.
Pooling.me обеспечивает сборный способ доставки товаров. В проекте участвуют такие сети, как «Магнит» и «Пятерочка». «Зарегистрировавшись на сайте автоматизированной платформы Pooling.me, поставщик размещает заказ на определенную дату, указывая пункт назначения и объем товара. Пользователь видит суммарное количество палет. Если их число в одной поставке превышает 24, то для всех участников действует специальный пониженный тариф и единая цена за одну палету. Если количество товара меньше, доставка рассчитывается по стандартной стоимости. Консолидация заказов происходит на складе транспортной компании. Pooling позволяет поставщикам сократить логистические затраты в среднем на 10–30% и не зависеть от размера заказа и частоты поставок, что особенно актуально для небольших компаний», – объясняют в «Магните». «На этапе тестирования мы сократили товарные запасы на 8%, а поток транспортных средств – на 14%. Когда к проекту подключится больше поставщиков и транспортных компаний, результаты будут значительно выше», – прокомментировала директор департамента по работе с поставщиками розничной сети «Магнит» Анастасия Сорокоумова. На данный момент в проекте участвуют такие поставщики, как «Мистраль», Podravka, «С.Пудовъ», Beiersdorf, Johnson & Johnson и другие.
«Наш проект Pooling.me по консолидации доставок в торговые сети уникален как раз тем, что он изначально продумывался всеми участниками цепочки доставки: ритейлером, поставщиками и перевозчиком, – делится подробностями Павел Васильев. – Мы выступили в роли ИТ-компании, которая реализовала это решение и теперь развивает его. За счет четкого понимания потребностей всех участников, а также нашей технической экспертизы нам удалось сделать очень простое решение, которое действительно решает проблемы бизнеса. Это уникальный опыт кооперации между компаниями из различных отраслей, и результаты такой кооперации уже превзошли все ожидания: проект поддерживают «Магнит» и X5, и за три месяца работы площадки после пилотного проекта к нам уже подключилось более 40 поставщиков FMCG-сектора».
Неудовлетворенность существующими сторонними сервисами – это одна из причин создания платформ для внутреннего пользования. «Сейчас же речь идет о том, что ритейл не только создает и использует их для своих нужд, но и предлагает свои сервисы другим участникам рынка», – рассказывает Андрей Дерябин. Можно сделать вывод, что те коллаборации, которые мы видим сейчас, – это только начало развития ритейловых онлайн-платформ. «Онлайн-платформы – это не угроза, а возможность для офлайн-бизнеса, и для ритейла в том числе», – соглашается Андрей Дерябин.
Коллекция агрегаторов
Одними грузоперевозками тема не исчерпывается. Ритейл создает самые разные платформы, и цели у этого действа тоже различны. Так, «Метро Кэш энд Керри» организовала свой маркетплейс для того, чтобы поддержать некрупных игроков рынка. Маркетплейс был представлен общественности в красный день календаря – к празднованию Дня предпринимателя, который отмечается по всему миру каждый второй вторник октября. Праздник прошел, а платформа осталась. Как заявляют в компании, маркетплейс ownbusinessday.ru создан «Метро» для владельцев малого и среднего бизнеса. В 2018 году маркетплейс второй год подряд стал агрегатором предложений ко Дню независимых предпринимателей. Каждый владелец бизнеса может разместить здесь свое b2b- или b2c-предложение. «Метро» со своей стороны оказывает поддержку маркетплейсу, привлекая дополнительных клиентов к предложениям от партнеров. Для представителей бизнеса платформа функционирует абсолютно бесплатно и дает возможность обмениваться предложениями от партнеров и клиентов в нескольких форматах. Компании размещают самые разные предложения – от эквайринга и маркетинговых услуг до решений по автоматизации бизнес-процессов.
Ритейлеры все больше погружаются в то, что называется sharing economy и online platform economy. Нам с вами как частным лицам такие бизнес-модели хорошо знакомы. Именно так функционируют сервисы вроде Uber, AirBnB, eBay и множество других, российских аналогов названных платформ, услугами которых пользуются люди во множестве стран мира. Такие платформы сводят вместе продавцов и покупателей, заказчиков и подрядчиков, арендаторов и арендодателей, облегчая коммуникацию и выступая гарантом надежной сделки, а заодно стирая границы между странами и национальностями. Еще несколько лет назад аналитики (в частности, JPMorgan Chase Institute) выражали сомнение в том, что такая модель будет успешной: чем богаче становились американцы, тем меньше было желающих продавать свои услуги и товары дешево на подобных платформах. Однако сейчас видно – тренд и не думает угасать.
Такая жизнеспособность онлайн-платформ для частных лиц заинтересовала крупный торговый бизнес. «У этого тренда есть несколько причин, – считает Дмитрий Петров. – Во-первых, на подобные платформы есть спрос со стороны потребителей. Людям просто удобно покупать в одном месте. Развитие чат-ботов и голосовых помощников будет способствовать агрегации предложений без специальных платформ. Вторая причина – ритейлерам очень нужны данные. Собственных данных сетей недостаточно для персонализированных предложений и прогнозной аналитики покупательского поведения, которыми сейчас все увлечены. Обогащение данных за счет других источников тоже не дает полной картины. Дополнительные сервисы и платформы позволяют эти данные получить, а также выйти в новые сегменты рынка».
Из недавних примеров коллабораций ритейла и платформ для частных лиц: в октябре было объявлено, что «Икеа» начинает сотрудничество с отечественным сервисом для поиска исполнителей YouDo. Здесь можно найти кого угодно: от помощника по уходу за детьми до сантехника и сборщика мебели. Вот этой последней опцией и решила воспользоваться «Икеа». Смысл в том, что при заказе мебели на сайте компании можно одновременно подыскать человека, который возьмется эту мебель собрать. Объединиться с гражданами решили и в компании «Юлмарт». Здесь создали площадку для частных объявлений, что-то вроде еще одного Avito. Сервис называется «Юлмарт Second», что отражает суть предложения: тут можно торговать подержанными вещами, причем даже необязательно техникой – там уже, например, выставлена старая детская коляска.
Выиграет ли ритейлер от сотрудничества с частными лицами? Не повредит ли это его имиджу? Известно, что при сотрудничестве с третьей стороной, особенно с лицами неюридическими, проблем и накладок может быть больше, чем выгоды. Андрей Дерябин уверен, что вряд ли стоит ожидать серьезных проблем: «Икеа» и раньше никогда сама не занималась сборкой, а делегировала ее третьим лицам, перепродавая их услуги своим покупателям. Но раньше эти лица были только юридическими. Решение «Икеа» дополнить свое предложение еще и физическими лицами – это расширение возможностей выбора для ее клиентов. Так «Икеа» отвечает на рыночные вызовы, усиливает собственную конкурентоспособность и реагирует на сокращение покупательской способности населения, ведь вариант с частными подрядчиками дешевле. А возможность заказать сборку у юридических лиц, действующих под брендом «Икеа», по-прежнему осталась». По мнению Андрея Дерябина, теперь клиент сам может выбрать: рискнуть и сэкономить или получить гарантированный результат. А онлайн-платформа YouDo с отзывами и рейтингами добавит прозрачности, которая подтянет исполнителей по качеству.
Как полагает Гай Карапетян, «Юлмарт» был вынужден сделать этот шаг, так как у него нет денег на товарооборот, но есть какой-то объем трафика, который пока генерирует компания. «Для них это просто попытка дополнительной монетизации при резко уменьшающемся ассортименте. Хотя и количество трафика тоже очень заметно снижается. За последние два года количество посещений сайта снизилось на 60%», – отмечает он.
Для «Икеа» объединение с YouDo – совсем другая история, считает Гай Карапетян. Ритейлер вышел в онлайн-торговлю в этом году, и логичным решением было бы предложить покупателям возможность дистанционно заказать сборщика мебели. Сами они сборкой заниматься не будут, это вне их стратегии. Также вне их стратегии иметь официального партнера, бренд которого встанет рядом с брендом «Икеа», ведь тогда придется разделять юридическую ответственность. «Решение с YouDo как раз хорошо для них тем, что нет конкретного партнерского бренда, результаты деятельности которого могут навредить бренду компании», – говорит он.
Интересно, что об этом думают сами обсуждаемые выше ритейлеры. Мы задали вопрос напрямую. «Икеа» решила хранить молчание, тогда как «Юлмарт» высказался. «Для «Икеа» имиджевых рисков нет, так как компания фактически не сотрудничает с частниками, а реализует кросс-маркетинг с YouDo, – комментирует Сергей Прель, директор центра клиентского и гарантийного сервиса компании «Юлмарт». – Сборка и установка мебели должна приносить ритейлеру дополнительный доход, поэтому полное переключение на частников, которое обеспечит доступность сервиса для покупателей, но не будет прибыльным, может говорить об убыточности данного подразделения компании и необходимости оптимизации расходов на него. Если же рассматривать новый сервис частных объявлений «Юлмарт Second», то мы не замещаем существующую бизнес-структуру частной, а предлагаем частным продавцам воспользоваться помощью и экспертизой ритейлера в их сделках между собой, сделав их безопаснее и удобнее».
По его словам, «Икеа» с YouDo не создавали платформу или онлайн-решение. Нельзя таковыми назвать отдельный раздел с кратким текстовым описанием, включающим ссылку на YouDo, который можно найти на сайте «Икеа», и лендинговую страницу YouDo со стандартной формой заявки. «В то время как мы, создавая сервис частных объявлений «Юлмарт Second», сделали, с одной стороны, полностью новое ИТ-решение сайта, которое содержит много новых уникальных функций и возможностей, а с другой – использовали существующую физическую инфраструктуру и систему учета, разработав несколько новых бизнес-процессов, благодаря чему оптимизировали инвестиции на запуск и полностью исключили дополнительные операционные затраты на начальном этапе, – перечисляет Сергей Прель. – При дальнейшем развитии данного направления и кратном росте его масштабов потребуется выделение больших ресурсов компании на развитие и, как следствие, расширение соответствующих специальных подразделений».
ИТ-гора
Если вопрос с имиджем лежит в области непредсказумой зыбкости, то вопрос денег – вещь вполне конкретная и осязаемая. Крупные ритейловые компании и так тратят миллионы на поддержку всей своей ИТ-инфраструктуры. «Стоимость работ по созданию ИТ-продуктов зависит от их функционала, а не от отрасли, и начинается от нескольких миллионов рублей за совсем уж примитивные решения, – обрисовывает ситуацию Андрей Дерябин. – Если эти решения подтверждают наличие спроса на рынке, то инвестиции в разработку продолжаются непрерывно и за десятки лет могут достигнуть миллиардов долларов. Продукт обрастает функционалом и выходит на новые рынки: захватывает новые страны и даже новые отрасли. Все это зависит только от скорости роста количества платящих пользователей».
«Сделать свою платформу очень дорого, говорю это как представитель ИТ-компании, – уверяет Дмитрий Нор. – На старте нужны очень серьезные инвестиции, и добыть их способны только крупные игроки или стартапы с уникальными идеями. Стоимость зависит не от направленности и содержания, а от сложности технической реализации (сложности и количества функций)».
Насколько выгодной в этом случае окажется поддержка еще и онлайн-платформ, агрегаторов, не связанных напрямую с профильным бизнесом торговых сетей, – неизвестно. Головная боль вполне возможна в том случае, если система ставится поверх существующей инфраструктуры организации и требует длительной и аккуратной интеграции со всеми действующими ИТ-системами классов ERP, CRM, WMS. Об этом рассказывает Торгом Ширинян: «Например, в случае с Vezubr речь идет о полностью бесшовной интеграции платформы с ИТ-инфраструктурой перевозчика. Система разворачивается в облаке, синхронизируется в течение одного рабочего дня с модулями и цепочками продуктов 1C, SAP, Oracle».
Сами по себе онлайн-платформы не всегда являются каким-то слишком сложным технологическим решением. «Нельзя сказать, что подобная платформа обязательно должна быть сложной, – полагает Олег Сахно, руководитель направления исследований Rookee (холдинг Ingate). – Если есть интересная идея, потребность, актуальная для большого числа участников рынка, ее можно закрыть достаточно простым способом. Например, «Яндекс.Еда» или «Авито» – насколько они сложны технологически? По факту это весьма лаконичные решения, которые удовлетворяют конкретный запрос аудитории. Конечно, по мере развития продукта придется его дорабатывать, усложнять, чтобы не проиграть конкурентам, чтобы удерживать аудиторию и закрывать новые потребности».
Однако, по его мнению, какой бы простой или сложной ни была платформа, придется пройти весь путь построения ИТ-инфраструктуры: собрать команду разработки, эксплуатации, продуктовую команду. Другое дело, какие именно ресурсы для этого потребуются. В каких-то случаях изначально потребуется сложный продукт, например, если идея не нова и нужно предложить что-то сверх конкурентов. Можно выстраивать свою систему логистики, за счет каких-то опций создавать добавленную ценность.
«Но самое интересное, что вот эту актуальную для широкой аудитории потребность сегодня нащупать не так сложно, – добавляет Олег Сахно. – Дивергентность, то есть множество способов решения одних и тех же задач, приводит к тому, что люди ищут способ упростить выбор везде, где только можно. Они не хотят думать, в какой магазин ехать, что приготовить на обед, какой отель выбрать под определенный бюджет. Они идут в сервисы, которые решат проблему. Есть спрос на подобные решения и в других сферах. Уже мало кто хочет думать, что лучше для рекламы в сети того же ритейла: продвижение, соцсети, видеореклама? Клиенты заказывают комплексные решения, но глобально все идет к тому, что и здесь появятся интеграторы, агрегаторы, которые соберут в одном месте все инструменты, решения и технологии. И не надо будет запрашивать коммерческое предложение у десяти компаний по продвижению бизнеса».
Изнанка процесса
Как любой проект, связанный с разработкой ПО, разработка своей онлайн-платформы требует как минимум четкого понимания назначения этой платформы и наличия описания целевого бизнес-процесса, который должен быть реализован на платформе. «В идеальном случае нужно иметь четко прописанное техническое задание на систему. Или по крайней мере нужно иметь «спонсора» проекта – человека или подразделение, которое четко понимает, что хочет от платформы, – разъясняет Михаил Корнаухов, генеральный директор компании «Интэллекс».
По его мнению, прежде чем создавать агрегатор, компания должна понять, что и как будет агрегировать и продавать этот агрегатор. Техническое задание или описание бизнес-процесса – это документы заказчика, не следует ожидать, что исполнитель сможет сформулировать требования к новой системе за вас. Затем идет фаза выбора программного решения и / или определения необходимости собственной разработки. Как правило, собственная разработка дороже и дольше, чем внедрение готового решения. Кроме того, собственная разработка требует либо наличия собственной команды разработчиков, что нехарактерно для компаний, занимающихся продажами, либо необходимости заказа разработки на стороне. С другой стороны, внедрение готового ПО быстрее и зачастую дешевле, но такое ПО не всегда «из коробки» реализует нужный бизнес-процесс и требует настройки под конкретные требования заказчика. «При наличии хорошего технического задания задача оценки затрат на тот или иной вариант создания платформы для агрегатора достаточно простая, и любые бизнес-консультанты с ней справятся», – уверен Михаил Корнаухов.
Сложность платформ зависит от того, сколько в них уже вложено усилий, какая функциональность уже разработана. «Платформу для агрегаторов можно достаточно быстро написать «на коленке» и запустить, но в дальнейшем все равно потребуется проделать большую работу по ее улучшению, – напоминает Сергей Зинкевич, продакт-менеджер КРОК «Облачные сервисы». – Если немного перефразировать девиз одного разработчика онлайн-игр, то платформы easy to start, hard to master (легко запустить, сложно довести до высокого уровня). Обычно в основе платформ лежит микросервисная архитектура. Благодаря ей в рамках приложения можно создавать множество независимых модулей, в которые вносятся изменения. За счет этого платформа работает стабильнее и адаптивнее к нагрузкам. Для крупных ритейлеров, часто имеющих штат собственных разработчиков, проект создания агрегатора не является такой уж сложной задачей. Да, он потребует времени и инвестиций, но вполне возможно, что для реализации подобного проекта не нужно будет искать внешних исполнителей. И уж тем более не появится необходимости в отдельном департаменте».
Почему-то вопрос об открытии собственного департамента оказался спорным. Мнения экспертов разделились. «Если ритейлер идет по пути inhouse-разработки, то собственное подразделение необходимо, – считает Михаил Корнаухов. – В случае же приобретения готового решения достаточно иметь небольшой штат технических специалистов, отвечающих за функционирование программно-аппаратного комплекса. И даже эту работу можно поручить сторонней организации, например ЦОДу. Точно понадобится собственный колл-центр хотя бы на уровне второй и третьей линий поддержки. И однозначно необходимо подразделение, занимающееся технологическим сопровождением процесса продаж на площадке, а также развитием площадки в плане появления новых услуг и продуктов. Технические вопросы можно отдать на аутсорс, однако вопросы развития бизнеса никто, кроме собственника, решить не сможет».
Аутсорсят только неключевые компетенции. «Возможно, некоторые модули программного продукта будут заказаны сторонним разработчикам или куплены целиком. Возможно, крупный ритейлер последовательно купит несколько стартапов, уже работающих на этом рынке, чтобы сразу получить и опыт, и костяк команды, – размышляет Андрей Дерябин. – Время в данном случае дороже. Собственные департамент разработки и департамент поддержки потребуются однозначно».
Здесь все зависит от того, насколько бизнес ритейлера будет завязан на онлайн-платформу. «Если речь идет про то, что это вспомогательная площадка, которая не влияет значительно на бизнес компании, то я считаю, что держать собственный департамент для ее поддержки не нужно, – делится своей точкой зрения Павел Васильев. – Достаточно иметь качественного подрядчика, который будет ее обслуживать. Если же речь идет про систему, которая влияет на ключевые бизнес-процессы компании, то в этом случае в компании однозначно должны быть люди, которые будут обладать достаточной экспертизой по данной системе. Даже если поддержка отдана на откуп сторонней организации.
Требования к масштабируемости решения должны быть прописаны в техническом задании, и поставщик (или разработчик) решения должен продемонстрировать, каким образом его решение удовлетворяет этим требованиям. Программные продукты и аппаратное обеспечение, используемые для работы платформы, должны масштабироваться в пределах, необходимых заказчику, и выбор этих решений должен быть частью предложения исполнителя. «В настоящее время существует несколько возможностей получить хорошо масштабируемые проекты. Однако при выборе технологий, лежащих в основе платформы, следует учитывать специфику конкретного приложения или бизнес-модели. Например, решения, хорошо масштабируемые для обеспечения высокой скорости обработки клиентских запросов на чтение данных, не всегда обеспечивают аналогичную масштабируемость при обработке большого количества запросов на запись данных», – отмечает Михаил Корнаухов.
О том, как выглядит на практике разработка и запуск онлайн-платформы, рассказывает Павел Васильев: «Когда мы разрабатывали Pooling.me, у нас был трехэтапный процесс. Сначала мы сделали очень простой прототип системы. В нем даже не было бизнес-процесса, но его можно было «пощупать» и понять, как будет организовано взаимодействие участников площадки в будущем. Мы показали прототип всем участникам и получили очень позитивные отзывы: люди однозначно подтвердили, что мы двигаемся в правильном направлении. После этого мы сделали пилотную версию продукта. Она уже была полностью рабочей, но с ограниченным функционалом: внедрили только необходимое для того, чтобы протестировать идею и убедиться, что она действительно приносит выгоду всем участникам проекта. Пилот длился три месяца, за это время результаты получились настолько впечатляющими, что компания «Магнит» выпустила пресс-релиз о нашей площадке и порекомендовала всем своим поставщикам переходить на нее».
Как рассказал Павел Васильев, сейчас проект находится на стадии масштабирования. «Для этого мы активно собираем обратную связь со всех подключающихся компаний и принимаем решение о том, как еще мы можем расширить функционал площадки, чтобы принести дополнительную пользу нашим клиентам. Самое интересное, что такой поэтапный подход настолько понравился всем участникам, что теперь к нам обращаются с заказами на разработку других систем «под ключ» по такой же схеме», – делится он.
Общая рекомендация Павла Васильева следующая: всегда нужно начинать с чего-то малого и прежде чем серьезно вкладываться в площадку, обязательно нужно сделать прототип и протестировать его с вашей целевой аудиторией. Может получиться так, что уже на этом этапе станет понятно, что будущая система не решит те проблемы, которая должна решать, но самое ценное – время и деньги – будут сэкономлены.
«Технические проблемы решаются легко. Сложно решается вопрос трафика, – резюмирует Гай Карапетян. – Как сделать так, чтобы эта услуга была востребована у клиентов? Технически открыть доску объявлений несложно, вопрос в том, где взять достаточное количество трафика и за какие деньги».
Переселяемся на облако
В некоторых случаях с запуском агрегатора может помочь облачное решение. Агрегаторы появились значительно позднее облаков, когда степень проникновения в бизнес-среду последних была уже значительна. Поэтому большинство существующих сегодня агрегаторов имеют так называемую cloud native архитектуру: они изначально разработаны таким образом, чтобы работать на базе облачной инфраструктуры. Об этом рассказывает Сергей Зинкевич: «Создателей агрегаторов и маркетплейсов в облаке привлекают возможности масштабирования и готовность к пиковым нагрузкам, отсутствие затрат на собственное вычислительное оборудование и его администрирование. При этом успех агрегатора зависит от многих факторов. Это и удобство интерфейса, и скорость поиска по фильтрам, и полнота выдачи информации по запросу, и наличие дополнительного функционала (например, возможность обратиться к виртуальному помощнику или оплатить товар онлайн) и, конечно же, масштабируемость, достигаемая за счет упомянутой ранее микросервисной архитектуры. Указанные характеристики должны быть учтены на начальном этапе разработки платформы».
«Я бы рекомендовал использование облаков на старте, на этапе проверки гипотезы, отработки бизнес-модели, – советует Олег Сахно. – Облачные технологии позволят избежать инвестиций в дорогостоящее оборудование. Это, конечно, удобнее, чем строить все с нуля, но на каком-то этапе, когда объем вырастет, это станет дороже. И дальше необходимо смотреть, насколько рентабельны облака, а насколько – собственная инфраструктура. Понятно, что пока работа ведется в облаке, на третьей стороне, под вопросом может быть безопасность данных. Но за нее и при использовании собственного оборудования не всегда можно поручиться».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник», – писал в своей басне Иван Крылов. Он просто не жил в нашем веке! В последние несколько лет в бизнесе все так перемешалось, что невозможно точно определить сферу, которой занимается компания. [~PREVIEW_TEXT] => «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник», – писал в своей басне Иван Крылов. Он просто не жил в нашем веке! В последние несколько лет в бизнесе все так перемешалось, что невозможно точно определить сферу, которой занимается компания. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 2910 [TIMESTAMP_X] => 11.03.2020 14:39:35 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 268 [WIDTH] => 443 [FILE_SIZE] => 41946 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/77c [FILE_NAME] => 77cbfdfa8c7150a4b52beb581298d2e4.jpg [ORIGINAL_NAME] => md_12_2018.p54.cmyk.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 9655bdd2a8efb0a88332908a6bca52a3 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/77c/77cbfdfa8c7150a4b52beb581298d2e4.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/77c/77cbfdfa8c7150a4b52beb581298d2e4.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/77c/77cbfdfa8c7150a4b52beb581298d2e4.jpg [ALT] => Торгуют все! [TITLE] => Торгуют все! ) [~PREVIEW_PICTURE] => 2910 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => torguyut-vse [~CODE] => torguyut-vse [EXTERNAL_ID] => 4798 [~EXTERNAL_ID] => 4798 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 07.12.2018 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Торгуют все! [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Торгуют все! [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник», – писал в своей басне Иван Крылов. Он просто не жил в нашем веке! В последние несколько лет в бизнесе все так перемешалось, что невозможно точно определить сферу, которой занимается компания. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Торгуют все! [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Торгуют все! | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [18] => Array ( [ID] => 4789 [~ID] => 4789 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Наука побеждать [~NAME] => Наука побеждать [ACTIVE_FROM_X] => 2018-11-22 00:00:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2018-11-22 00:00:00 [ACTIVE_FROM] => 22.11.2018 [~ACTIVE_FROM] => 22.11.2018 [TIMESTAMP_X] => 11.03.2020 15:38:14 [~TIMESTAMP_X] => 11.03.2020 15:38:14 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/nauka-pobezhdat/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/nauka-pobezhdat/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Данных в мире все больше, а термин Big Data вдруг перестал быть модным. О Business Intelligence, разведке в дебрях больших данных, перестали говорить с былым восторгом. Новый фаворит сезона – Data Science. X5 Retail Group создала отдельное подразделение, которое работает с данными. Оно занимается прогнозированием спроса, оптимизацией промо и ассортимента, созданием персональных предложений для покупателей и многими другими задачами. Рассмотрим детальнее, чем новая наука может помочь ритейлу.

Еще лет пять-семь назад на конференциях в секции проектов по Business Intelligence обещали: «мы не дадим бизнесу утонуть в море данных», «мы поможем найти самые неожиданные закономерности в горах ненужного хлама» и «мы предсказываем будущее». Сейчас то же самое говорят о Data Science. Как такое может быть? Чем вообще различаются эти направления? Объяснения на профильных сайтах только вводят в заблуждения, говоря, что BI – это получение информации из данных, а Data Science – получение знания. Туманно, не правда ли? И я помню, как сейчас: эксперты, рассказывая про свои BI-проекты, говорили: «Мы достанем для вас знания».
Хуже того, ко всем предыдущим терминам добавились новые. Когда читатель видит броские заголовки в духе «как машинное обучение спасет ритейл» или «срочно работаем с биг датой», то у него неминуемо остается ощущение, что технологий становится все больше и что все они совершенно разные, но спасут непременно. Однако потом замечает: кейсы и там, и сям приводятся одни и те же. Получается, речь об одной технологии? Data Science, machine learning, BI – это синонимы, антонимы или все-таки ступеньки в иерархии?
Давайте для начала разберемся, как же компании, занимающиеся проектами в сфере Data Science, определяют для клиентов отличие Data Science от BI-анализа. Фактически это разные ступени одной лестницы, как мы верно предположили выше. Так считает Юрий Бондарь, заместитель генерального директора SAP CIS. По его словам, BI дает статичные структурированные отчеты, далее идет OLAP-анализ (online analytical processing), когда мы можем анализировать, исследовать и строить графики. Но при этом данные находятся в двух- или трехмерном пространстве. А если пространство многомерное, состоящее из различных внешних данных, то к анализу подключается интеллектуальный алгоритм.
«Я много лет занимался именно BI, поэтому могу ответить точно, – говорит Алексей Шовкун, директор по консалтингу компании Datalytica. – Конечно, это вопрос терминологии: что считать BI, где границы этой технологии. Лично для меня Business Intelligence – это частный случай Data Science. У них есть много одинаковых этапов анализа, например, консультанту нужно понять, что требуется заказчику, какие у него процессы и задачи, есть ли показатели, которые требуют улучшения, – это делается и в BI, и в Data Science».
Второй пункт соответствия – это данные, работа с ними. Но в BI-системах используются источники структурированной информации. А в Data Science к таким источникам добавляют еще и поток неструктурированных данных, например, видео, аудио, сигналы датчиков со станков, метаданные. В общем, много того, что раньше нельзя было автоматизированно анализировать. «Далее нужно забрать все данные и консолидировать их, это то, что называется Data Warehousing, – и это тоже общая часть у Business Intelligence и Data Science, – дополняет Алексей Шовкун. – А дальше начинаются различия. В первом случае мы предоставляем консолидированные данные специалистам заказчика для анализа через OLAP-инструменты. Эти специалисты самостоятельно ищут зависимости и другие вещи, чтобы улучшить свой бизнес».
Отсутствие единой терминологии размывает границы. Например, описательная и диагностическая аналитика, ориентированная на то, чтобы разложить по полочкам исторические данные, реализуется в BI-системах. Однако более сложные методы обработки данных, например, поиск шаблонов в цепочках событий, являются прерогативой Data Science. «О прогнозных моделях говорили десятки лет назад, и простейшие модели регрессий реализованы в BI, но использование сложных ансамблевых методов, тем более технологий глубинного обучения, все-таки лежат в сфере Data Science», – уточняет Сергей Громов, руководитель практики Data Science компании Teradata.
Как вспоминает Алексей Шовкун, раньше был еще один термин – Data Mining. Можно сделать простой анализ данных в виде отчетов, разложить понятия по колонкам и столбцам, вывести числовые метрики в середину таблицы и таким образом что-то увидеть и отнести эту табличку руководителю. А в Data Mining человек делал все то же самое, но закапывался глубже и пытался найти зависимости, причины и следствия, пытался понять, что сделать, чтобы продать больше, например. То есть искал знания, а не информацию. Причем делалось это либо вручную, либо с помощью базовых статистических методов. «Сейчас у нас появилась возможность собранные данные отдать на анализ машине. И тут-то и появляется этот термин – машинное обучение. А цель при этом та же: выяснить зависимости, научиться предсказывать. То есть предсказывает машина, а не человек, появилась вот такая альтернатива», – говорит Алексей Шовкун.
Вкалывают роботы, а не человек. Почти все происходит так, как предсказывали фантасты. «Человеку уже не придется руками крутить графики и пытаться строить прогнозы, все сделает за него машина и сделает это намного качественнее, – уверяет Жанна Узалова, начальник отдела анализа данных компании AJ TechFin Group. – Мы не просто даем инсайты, мы решаем задачу «под ключ». Если это задача прогнозирования спроса, то Data Science дает возможность не только выяснить, что такой-то товар продается лучше по вторникам, а построить модель, которая автоматически будет прогнозировать спрос на каждую единицу товара или комбинацию товаров, даже если их тысячи. Прогнозировать в каждый момент времени и с довольно приличным качеством. Если говорить про BI, то десять лет назад просто не существовало тех алгоритмов, которые сейчас использует Data Science в своем арсенале. Они стали более качественными, быстрыми и масштабируемыми».
А что с Big Data? «Data Science может использовать Big Data в проектах, если это нужно, а может и не использовать. Это не взаимозаменяемые понятия. У нас в компании принято считать, что Big Data является частным случаем в Data Science. Когда появились технологии, связанные с Big Data, на рынке раздулся пузырь, который, по сути, лопнул несколько лет назад из-за завышенных ожиданий от технологии. Причем техническим специалистам сразу было ясно, что ожидания завышенные, но политически-стратегические решения принимают ведь не они. В результате термин Big Data стал немодным и даже слегка дискредитированным. Взамен все бросились пользоваться новым словосочетанием Data Science», – поясняет Алексей Шовкун.
При этом сами по себе «большие данные» никуда не делись, скорее, наоборот. Глобальный рынок больших данных и услуг по разработке данных охватывает Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. По данным аналитической компании Markets and Markets, ожидается, что рынок Big Data и Data Engineering вырастет с $34,47 млрд в 2018 году до $77,37 млрд к 2023 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 17,6% в течение прогнозируемого периода.
«BI – это о прошлом, Data Science – о будущем, а Big Data – это о том, как переработать за разумное время большие массивы данных», – постулирует Алексей Арустамов, директор компании Loginom Company. «Если анализ проводится вручную и он простой, то это BI, если вручную и углубленный – Data Mining, если с помощью машин – это машинное обучение, machine learning, метод, которым пользуются при построении предсказательных моделей. А все вместе это и есть Data Science», – подводит итог Алексей Шовкун.
Магазин-беспилотник
Итак, что может дать ритейлу Data Science, наука о работе с данными? Amazon в конце октября открыл шестой магазин Amazon Go без кассиров и очередей. Даже кошелек на выходе доставать не нужно. Товары лежат на полках, за ними и покупателями наблюдает машинное зрение, а набор датчиков и машинное обучение делают ненужными штрихкоды и сканирование товаров на кассе при покупке. Берут ли продукты или возвращают их на полки, что в виртуальной корзине – все это отслеживается автоматически. Покупатель просто идет, берет вещи и выходит с ними из магазина через специальный турникет. Все! Amazon пишет, что у них такие же технологии, как у автомобилей-беспилотников.
Занятно, что такой магазин-беспилотник пока предполагает множество консультантов в зале, которые помогают клиентам в случае чего, и при этом может обсчитать! Блогеры, посетившие торговую точку в Сан-Франциско, сняли на видео весь процесс: они взяли два товара, один из них вернули на полку и вышли из магазина. При выходе с карты покупателя автоматически списывается сумма. Но транзакция сразу не прошла. А когда прошла – и случилось это много позже – оказалось, что случайно списалась сумма сразу за два товара. Датчики отметили, что человек взял два товара, но забыли отметить, что один из товаров вернулся обратно. Вместо $4 покупатель заплатил $14. На кассе с обычным кассиром такое невозможно, любой покупатель сразу заметил бы значительное расхождение в цифрах.
Машинное зрение, машинное обучение – все это Data Science, и Amazon применяет технологию на практике. Однако практическая сторона этой науки для ритейла гораздо шире. Алексей Арустамов полагает, что и у западных, и у отечественных клиентов-ритейлеров, которые пытаются решать свои проблемы с помощью Data Science, примерно один и тот же список запросов. Им нужно прогнозировать спрос, делать оптимизацию запасов, цен, повышать доходность, проводить сегментацию клиентов и адресный маркетинг, противодействовать оттоку покупателей.
«Раньше было довольно сложно решать такие задачи, потому что не было культуры сбора данных: в нашей стране крупный ритейл стал собирать и хранить данные относительно недавно, пару лет назад, а пионеры внедрения Data Science-решений в бизнес – чуть раньше, где-то в 2012 году, когда впервые стали говорить о таких технологиях, – рассуждает Жанна Узалова. – Но опять-таки качество этих данных, которое позволило начать решать данные задачи, улучшилось совсем недавно, тогда же, когда компании стали задумываться над качественным хранением и выстраивать у себя Data Lake-системы. Руководство крупных компаний видело, как онлайн-розница или офлайн-ритейл в Америке уже решают такие задачи, и это создало желание попробовать и у нас, а дальше уже остальным компаниям пришлось подтягиваться из-за конкуренции».
Разнообразная информация из раз- ных источников дает понимание того, что хотят потребители, где и как они готовы совершить покупку, а главное, где они фактически ее совершают. С этой точки зрения смысл использования Big Data сводится не столько к точности (которой ритейл еще долго не сможет похвастаться ввиду низкой структурированности информации), сколько к скорости обработки данных. Это становится важным фактором в условиях ускорения ритма жизни, развития омниканальности, когда принятие решения о покупке происходит на основании рекомендаций групп в социальных сетях или предложений агрегаторов скидок. Подробностями делится Юлия Овчинникова, директор Data Science компании Nielsen Россия: «Именно поэтому у нас в компании работают над ускорением процессов получения и анализа данных с фокусом на гранулярность. Новые технологии позволяют предоставлять клиентам свежие данные с недельным интервалом вместо месячного, а наше решение «Nielsen Микрорегионы» дает возможность оперативно получать их на уровне отдельных районов городов и других микрогеографий. На основе этой информации наши клиенты могут делать не только стратегические, но и тактические выводы, быстрее реагировать на потребности покупателей. Упущенное время для принятия решения равняется упущенным бизнес-возможностям и трате ресурсов, и сейчас это ощущается особенно остро».
Для тебя
Основная цель, которую преследуют ритейлеры с помощью Data Science, – строить предсказательные модели. Но сейчас, когда курс идет на индивидуальную работу с каждым клиентом, предсказания тоже становятся личностными. Из конференции в конференцию разработчики пересказывают друг другу курьезный случай, произошедший в сети американских супермаркетов Target. Сеть решила предлагать женщинам скидочные купоны на товары для новорожденных. Предлагала она их тем покупательницам, которые совершают определенные покупки с определенной частотой и последовательностью. И однажды разразился скандал. Купон был прислан несовершеннолетней девушке, ее отец пришел разбираться в магазин, уверяя, что в их семье такие предложения совершенно неуместны. Прошло несколько месяцев, и стало ясно – сеть права, отец неправ.
История была пересказана десятки раз, а затем стали говорить, что это фейк. Однако даже если конкретно такого происшествия не было, на технологии это никак не влияет. Люди часто ведут себя одинаково. Если есть паттерны поведения в группе, то они с большой вероятностью работают и для нового участника группы. Стандартный подход маркетологов: сегментировать покупателей и работать с отдельными сегментами. Иначе смотрит на это Data Science. «Целевая идея подхода в Data Science – это персонализация рекомендаций, – объясняет Сергей Громов. – В классическом подходе целому сегменту абонентов предлагаются одни и те же товары и акции. При использовании Data Science каждому пользователю предлагаются персонализированные товары. Его потребность удовлетворяется вовремя, и он совершает больше покупок».
Задача тут не только в том, чтобы удовлетворить покупателя. Сейчас ритейлеры любят взять случайную выборку клиентов и разослать им случайные предложения. Тогда как рекомендательные сервисы и персонализированные предложения – это золотая жила. Ритейл теряет деньги каждый раз, когда отправляет предложения и делает скидки всем подряд. Что толку предлагать колбасу вегетарианцу? Он ее не купит. Ритейлер потерял деньги, когда отправил ему такую смску. Зачем предлагать купить хлеба семье, которая каждый день и так его покупает? Получается, что расчет должен быть точным: нужно предложить товар именно тому, кто уже задумался о покупке, но колеблется. Кто раньше покупал, а теперь забыл, но снова купит, если ему напомнить. Отделить такого клиента от массы остальных может или телепатия, или Data Science.
«В отличие от привычной сегментации, которая нацелена на работу с группами людей, схожих между собой по каким-то характеристикам, использование технологий Big Data позволяет добиться максимально персонализированного подхода: оптимизировать ассортимент, стоимость, способ получения товара, сократить время на поиск нужных товарных позиций, – замечает Евгений Вербов, руководитель направления ритейл-аналитики компании Nielsen Россия. – Например, на основе исторических данных по картам лояльности можно построить модель оттока потребителей, а затем по ней определить вероятность того, будет ли конкретный человек в дальнейшем делать покупки в этом магазине. Таким образом ритейлер может оценить значимость данного потребителя для своего бизнеса, целесообразность персонализированных коммуникаций и максимальный размер персональной скидки».

Что касается онлайн-магазинов и других сервисов, здесь предсказательные модели работают просто отлично – в виде рекомендательных сервисов. Люди к ним уже настолько привыкли, что журналисты даже стали писать тревожные статьи на тему «не закопается ли пользователь в рекомендациях так, что и реальности не увидит», «останется ли у потребителей собственное мнение», «ребенок, выращенный искусственным интеллектом». Из этого следует вывод – мы слушаемся машину, если она нам что-то подсказывает. Она же помнит, что мы покупали вчера и год назад, что лайкнули, и знает, что нам может понравиться. По данным Amazon, 35% заказов по книгам у них происходит с полок рекомендаций.
Но это все в онлайне. А в офлайн протащить эту же идею не так легко. Что это должно быть? Специальные стенды, которые будут для покупателя островком онлайна, его собственный смартфон, который отслеживается маячками i-beacon? Эксперты предлагают взглянуть на проблему проще. «Процессы в офлайн-рознице во многом схожи с тем, как все происходит онлайн. Ритейлеры активно внедряют карты лояльности, хранящие информацию о профиле покупателя и истории его покупок. На основе этих данных формируется «ДНК покупателя». Затем с помощью специальных алгоритмов можно подобрать товары, которые будут максимально интересны конкретному потребителю, или персонализировать предложения по корзине покупок и их цене. Коммуникация с покупателями по аналогии с онлайн может идти через наиболее эффективный канал: email, sms, чек на кассе или push-уведомление через мобильное приложение», – говорит Евгений Вербов.
Карта лояльности, которая выдается покупателю взамен на его личные данные и номер телефона, пока самое доступное решение для розницы. «Когда такой покупатель расплачивается на кассе, кассовый чек становится именным за счет привязки к карте лояльности. Таким образом офлайн-ритейлер получает информацию о покупках каждого человека, который предъявляет свою карту, – отмечает Сергей Громов. – Если человек будет совершать большинство покупок у одной и той же компании, то о его предпочтениях можно будет составить практически полную картину и дальше успешно делать для него специальные предложения. Продавец пробивает карту на кассе и сообщает: «По вашей карте лояльности вам доступны такие-то специальные предложения». Индивидуальное или персонифицированное предложение, составленное алгоритмом на основе данных о конкретном клиенте, куда эффективнее, чем то, когда кассир предлагает всем одни и те же товары по акции, которые в большинстве случаев никому не нужны».
В исследовании международной консалтинговой компании McKinsey, которое они проводили в 2011 году, было сказано, что ритейлеры, использующие аналитику данных, смогут увеличить прибыль на 60% и на 1% повысить производительность труда. Сегодня ритейлеры с помощью больших данных действительно увеличивают прибыль в самых разных проектах – от процесса выкладки товара на полки и его ценообразования до персонализированного предложения для покупателей. «Например, с помощью технологий больших данных можно реализовать программы лояльности в магазинах. Именно так и поступила сеть гипермаркетов «Виктория», входящая в ГК «Дикси». В торговой сети анализируют спрос и формируют персонализированные предложения, способные привлечь покупателей, увеличить эффективность предлагаемых скидок и обеспечить качественный клиентский сервис. Программа позволила улучшить обслуживание покупателей: расширился канал коммуникаций с клиентами, у операторов контакт-центра появились точные и оперативно обновляемые данные. В результате 80% клиентов поменяли карты лояльности на новые за неделю работы программы «Моя Виктория», а средний чек увеличился на 10%», – описывает Юрий Бондарь.
Для хорошей рекомендательной системы необходимо правильно собирать данные об интересах покупателя, а также данные, что он уже купил. Офлайн-ритейл пытается решить эту задачу, вводя карты лояльности и дальше рассылая скидки на товары, которые вас заинтересуют. Но тут проблема в том, что довольно часто бывает так, что покупатель не захотел заводить карту лояльности, забыл ее или пришел с чужой картой. Решить данную проблему можно различными способами «Некоторые из наших ритейлеров даже пытаются решить ее видеораспознаванием, то есть привязать твое поведение в магазине к твоей карте лояльности, но это работает с довольно сомнительным качеством, – комментирует Жанна Узалова. – Хорошее решение тут – обязать использовать карты магазина, стимулируя это действие какими-то бонусами или скидками. Например, если мы возьмем «Метро Кэш энд Керри», то там в принципе невозможно совершить покупку без карты магазина (хотя там это вызвано юридическими ограничениями, но было бы прекрасным кейсом для хорошей рекомендательной системы). Имея историю покупок конкретного человека, можно было бы сделать рекомендательную систему с хорошим качеством, а дальше уже обогащать данными с камер наблюдения или сведениями о поведении покупателей на сайтах ритейлера». Работа маркетолога в этом случае – это правильное использование рекомендательных механизмов, выбор каналов для взаимодействия пользователей и искусственного интеллекта.
Однако идеи на карте лояльности не заканчиваются. «Вероятнее всего развитие средств видеоаналитики, распознавание не только сущностей, но и конкретных персоналий позволят в будущем отказаться от карт лояльности, – предполагает Сергей Громов. – Идентификация каждого покупателя даст возможность составить для него и лист предпочтений, и реал-тайм рекомендации касательно того, какие именно товары можно приобрести и как пройти до нужного стеллажа в торговой зоне».
По кусочкам
Мы только что сказали, что Data Science предлагает не сегментирование, а персонифицирование. Но сегментировать все-таки придется. «Только сегментируются не покупатели, а сами магазины, прежде всего с географической точки зрения, – замечает Сергей Громов. – Второй критерий для сегментации – размер магазина. Средние продажи играют важнейшую роль в нормировании, и их расчет ведется исходя не только из коэффициента сезонности, но и из размера самого магазина, ведь спрос на один и тот же товар в небольших универсамах и гипермаркетах будет существенно отличаться. Третий критерий – ассортимент товаров. Так образуются кластеры магазинов с похожими характеристиками. Прогнозирование спроса происходит на разных уровнях: «магазин-товар», «кластер-товар», «кластер-категория» и так далее. Чем более ходовой товар, тем больше вероятность получить точный прогноз на более детальном уровне. Отстающие по продаваемости товары вообще не рассматриваются на индивидуальном уровне «магазин-товар». Они собираются в группы и прогнозируются на более агрегированном уровне».
Сегментировать можно потребности. «Для одного из клиентов Nielsen, ориентируясь на транзакционные данные, выделил разные группы потребностей покупателей, – рассказывает Евгений Вербов. – Затем построил на их основе «деревья» принятия решений о покупке и таким образом оптимизировал планограмму размещения продуктов на полке для конкретной категории товаров. Благодаря этому стало возможно управлять оборотом категории с квадратного метра торговой площади – одним из важнейших показателей эффективности розничной торговли».
Частые случаи
Что касается прогнозов на более детальном уровне, то интересный кейс был рассказан представителями X5 Retail Group в ходе организованной SAP конференции Data Halloween. Там рассматривали сметану. На самом деле можно рассмотреть любой товар, но тогда его придется называть «икс», а это не так красиво, как сметана. Сколько нужно поставить на полку брендов сметаны? Вопрос нетривиальный. Слишком мало – магазин сочтут бедным и уйдут к конкурентам. Слишком много – покупателя поймает в капкан проблема выбора. Это пока понятно и согласуется с нашим житейским опытом. А вот на что житейскому опыту сложно дать ответ, так это на вопрос: мало – это сколько? А много? 20 брендов сметаны – вроде бы много. А если 12? Или 9? Может быть, 9 – это уже мало? Именно для того, чтобы не угадывать, а знать точно, используется Data Science. Люди иногда уверены в одном, тогда как аналитика показывает совершенно противоположное.
По мнению Жанны Узаловой, один из наиболее частых кейсов в ритейле – это задача по оптимизации товарных запасов: «Эта задача напрямую связана с прогнозированием спроса. И она с двусторонним ограничением: с одной стороны, мы не хотим замораживать оборотный капитал в запасах, не хотим увеличивать складские помещения, с другой – не хотим иметь пустые полки, потому что потеря покупателя обходится компании довольно дорого. Эту задачу решить классическими эконометрическими методами довольно сложно, так как, во-первых, у крупной компании количество SKU может исчисляться десятками тысяч, и кривая спроса для каждого из них может быть различной, при этом обычно она нелинейна. Во-вторых, классическая эконометрика довольно тяжело оперирует временными данными, обогащенными пространственными переменными. Тут уже подключается панельный анализ, но его точность по сравнению со стандартными алгоритмами Data Science намного хуже».
В ритейле можно работать с абсолютно разными данными и использовать их для создания многочисленных сценариев. Все зависит от той информации, которая у компании уже есть. «Объем данных у российских ритейлеров накоплен колоссальный, размеры их хранилищ уже сопоставимы со многими западными и американскими, – полагает Юрий Бондарь. – Среди основных задач, которые чаще всего обозначают компании, могут быть пересмотр ценовой политики на конкретные товары с помощью анализа цен, прогноз качества товара в коробках, рекомендации для клиентов о покупке определенных товаров, расчет оптимальной корзины, формирование скидочных предложений, прогноз продаж, промоакций и остатков на складе».
С миру по нитке
Мы так обезличенно говорим все время – большие данные. А что это за данные? Есть такой интересный случай. Сеть Tesco использовала локальные данные о прогнозе погоды в своей системе прогнозирования спроса. Это довольно удачное использование неожиданной информации, особенно если учесть, что обычно у ритейлера накапливаются такие сведения, как пол, возраст покупателя, его стандартные предпочтения.
Однако если брать пример с Tesco, то становится очевидно: нужно пользоваться самыми разными источниками. «Источников очень много: курс валюты постоянно колеблется и может существенно влиять на цену товара, загруженность дорог и пробки влияют на прогноз поставок продукции, цены на сырье и фурнитуру – на создание самого товара, – говорит Юрий Бондарь. – При открытии новых магазинов обязательно просчитываются геоданные. В систему можно подгружать данные по ценам конкурентов, даже мировые события и макроэкономика могут оказать влияние. Например, во время чемпионата мира по футболу магазины, кафе, аптеки в центре Москвы прошли «проверку на прочность» с помощью прогноза продаж».
«Мы сейчас делаем систему прогноза трафика для ГИС и планируем в качестве одного из источников данных использовать спутниковые снимки прилегающей к планируемой торговой точке местности, – делится Валерий Бабушкин, руководитель управления развития данных компании X5 Retail Group. – Спутниковые снимки доступны, и у нас есть подозрения, что нам пригодится та информация, которая на них присутствует, например, насколько это озелененные участки, какие вокруг дороги – это же все хорошо видно. Однако я не буду говорить заранее, к каким выводам нас эти данные приведут».
«Данные о локальных праздниках, информация о конкурентах, данные с видеокамер, данные из соцсетей – все это помогает получить более точные персонализированные прогнозы, – добавляет Жанна Узалова. – Очень помогают сторонние данные, например, агрегированные данные банков о платежеспособности населения вокруг магазина».

Идея объединиться с другими владельцами информации хороша. Данные банка вполне могут обогатить данные ритейлера такой информацией, к которой у последнего изначально не было доступа. То же можно сказать и об операторах сотовой связи. «По их данным можно узнать, какие сайты человек посещает в мобильном Интернете, а потом генерировать клиенту рекомендации в реальном времени, – говорит Сергей Громов. – Например, если человек ищет футбольную секцию, можно предложить ему скидку на экипировку (с помощью смс или иного канала связи, предпочтительного для данного абонента). Использование геолокации позволит проходящему мимо магазина человеку сообщить об акции, в которой он может быть заинтересован. Таким образом можно поймать клиента «тепленьким».
Интеграция же с банками, как считает Сергей Громов, позволит использовать уровень дохода в качестве одного из предикторов в моделях сегментации и на рекомендательных движках. «Разумеется, связность данных различных источников – сложная задача, – добавляет он. – Среди проблем, с которыми здесь можно столкнуться, стоит обозначить, во-первых, так называемое «связывание идентификаторов». Как связать покупателя магазина и абонента телеком-оператора? Можно использовать карты лояльности или геоданные. Вторая проблема заключается в законах, в частности, в ФЗ-54. Обмен данными должен проходить без нарушений законодательства».
Теоретически объединение данных банков, ритейла и телекома позволит получить наиболее полный профиль по каждому человеку. Но тут много нюансов. «Есть вопросы, которые решить иногда сложнее, чем трудности с законом. Сейчас каждая из этих трех сторон понимает, что было бы здорово обогатиться чужими данными, а вот свои данные отдавать как-то не хочется, – смеется Алексей Шовкун. – Если ты отдаешь свои данные кому-то, их потом нельзя продать, понимаете? Поэтому сейчас есть такие модели сотрудничества, когда исходные данные не отдают. Отдают посчитанные индексы. Владелец данных сам строит модель по тем параметрам, что его просят, а потом дает пользоваться этой моделью за арендную плату».
У ритейла очень много направлений, в которые они могли бы углубиться для поиска и сбора данных. Их можно получать из соцсетей, например. Можно обратиться к интернет-компаниям вроде «Яндекса» или Mail.Ru, к муниципальным организациям и поменяться данными с ними. Такие компании могут знать о хобби человека, о том, что у него скоро изменится жизненная ситуация, он оставляет в поисковике несвойственные ему ранее запросы. «Но это нужно делать тогда, когда все собственные источники уже исчерпаны. – продолжает мысль Алексей Шовкун. – А наши ритейлеры пока свои источники еще полностью не отработали. Например, как часто человек заходит на их сайт, как он там ходит, как быстро выбирает товар, куда вообще кликает. Единицы торговых сетей собирают и обрабатывают эту информацию».
Рад бы в рай
В теории все всегда звучит очень неплохо. Что у нас с практикой? «Говорят об этом многие, я бы даже сказал, все, но реально использует мало кто, – делится точкой зрения Алексей Арустамов. – Несмотря на победные реляции, в большинстве случаев все только начинается. У подавляющего числа компаний данные надо приводить в порядок, чтобы они были пригодны для продвинутой аналитики».
С данными действительно беда. Если заказчик предоставляет плохие данные, если задачу нельзя решить на их основе – это не проблема математика, который будет решать задачу. «Почему вообще проект, связанный с Data Science, может провалиться? – оценивает перспективы Алексей Шовкун. – Либо есть проблема в данных, когда у заказчика незрелые ИТ-процессы и информация сохраняется неполностью или некорректно, в разрозненном виде (все эти проблемы были и в BI-системах), когда они идут из разных ИТ-систем и их сложно или вообще невозможно сопоставить между собой, потому что нет единых справочников, нет внедренного Master Data Management. Но такой бардак – это проблема заказчика. Второй вариант провала – у заказчика не выстроены бизнес-процессы. То есть система нормальная, а сами процессы настолько несистемны, что статистика, которая остается в результате их исполнения, не позволяет выявить закономерности. Пример: на складе расходуются продукты, а учет расхода идет не минута в минуту, а раз в месяц. Все собираются и списывают то, что было продано. Очевидно, что построенная на таких данных модель ничего хорошего предсказать не сможет».
Вторая проблема – в деньгах. Третья – в специалистах. Быть специалистом в области Data Science сегодня очень модно. Популярность этого направления зашкаливает, судя по количеству упоминаний в СМИ и уровню вступительных баллов на кафедры анализа данных ведущих отечественных вузов. «Однако отрасль испытывает явный дисбаланс между спросом и предложением, обусловленный недостаточным количеством готовых специалистов, стоимость привлечения которых весьма существенна, – сетует Сергей Громов. – Таким образом, создавать целое подразделение внутри ритейл-структуры будет оправданно для гигантов вроде X5. Торговые компании меньшего масштаба, разумеется, сталкиваются с задачами продвинутой аналитики, но в большинстве случаев решают их за счет экспертных навыков предметных менеджеров, например, отвечающих за маркетинг, логистику и товарные запасы. С усложнением аналитических задач и таким компаниям потребуется привлекать DS-специалистов в той или иной форме».
Если у компании уже много накопленных данных, то как минимум стоит задуматься об их монетизации. Дальше возникает вопрос: создать собственную экспертизу или привлечь подрядчика. «Тут все зависит от количества задач, стоящих перед компанией: если вы наберете задач хотя бы на пару лет вперед, то лучше начинать растить свою экспертизу. Если вам нужно решить пару кейсов, то собственная экспертиза обойдется вам намного дороже, – считает Жанна Узалова. – Опять-таки правильный выбор, который делают крупные зрелые компании, это собственный отдел, который решает задачи, решение которых надо пересматривать, например, прогнозирование спроса, и аутсорс-задач, которые решаются разово, например, распознавание с камер наблюдения».
Как полагает Жанна Узалова, на рынке сейчас появилось довольно много специалистов уровня джуниор, и проблема с ними в том, что они не решали реальных задач, а в лучшем случае участвовали в каких-либо соревнованиях, что довольно слабо связано с реальностью. И если ритейлер хочет вырастить собственную экспертизу, то ему нужно нанять саейнтиста, как их сейчас называют, сеньор-уровня, чтобы он не только решал задачи «под ключ», но и обучал джуниоров, а таких специалистов очень мало на рынке. С сеньором тоже можно попасть впросак: бывают такие, которые сами прекрасно решают задачи, но совершенно не могут делиться опытом. Сформировать же команду из сеньоров вообще довольно дорогостоящая затея.
Однако внутреннее подразделение необязательно, есть множество других способов поработать с Data Science. Сегодня к помощи сторонних Data Science-специалистов прибегают крупные игроки офлайн-торговли. Обусловлено это разными причинами, среди которых широта спектра аналитических задач, постоянно меняющиеся условия рынка, влекущие изменения моделей, а также фантастический рост аналитических технологий, за которыми просто невозможно угнаться, рассчитывая лишь на собственные силы. «Полагаю, что чаще будут появляться исследовательские задачи в challenge-формате, для которых есть открытые площадки, такие как Kaggle.com, – продолжает Сергей Громов. – Например, отечественный производитель компьютерных игр «Фирма 1С» разместила на этом ресурсе задачу разработки модели месячного прогнозирования продаж собственной продукции».
Последнее, что мешает, – ментальность отечественных компаний. Сразу несколько экспертов отметили эту проблему, из-за которой рост, развитие и применение Data Science в офлайн-рознице сдерживаются. На Западе крупнейшие ритейлеры типа Amazon идут настолько впереди всех, что формируют саму отрасль Data Science, придумывают новые инструменты. Такие ритейлеры, понимая, что делают что-то прорывное, изобретательское, создают лаборатории и не требуют от этих лабораторий немедленного результата. При этом у них, конечно, есть и подразделения, которые отвечают за внедрение и монетизацию того, что придумали им эти первопроходцы. «Наши ритейлеры помимо того, что в принципе не особенно готовы инвестировать в исследования, еще и не хотят замечать, что в словосочетании Data Science есть вот это слово Science – «наука», – напоминает Алексей Шовкун. – Там есть место исследованиям, поиску знания, когда открытые проблемы рассматриваются с помощью научного подхода, метода проб и ошибок. Там гораздо больше рисков, нет уверенности в том, что, заплатив n-денег, мы получим результат на n в квадрате. Это не торговля, это наука. Ритейл пока на такое не согласен, им нужно знать заранее и наверняка».
Как правило, заказчик почему-либо воодушевляется идеей, затем делает пилот. «Причем пилот часто хотят бесплатно, ритейл вообще довольно жесткий заказчик и любит такой поворот, – иронизирует Алексей Шовкун. – Как только появляются первые положительные результаты, то сразу соответствующий менеджер среднего звена идет наверх и пиарит то, чего удалось достичь, а сам становится менеджером постарше. Далее начинают нанимать десятки Data Scientists, и создается собственное подразделение. При этом это достаточно сложный процесс, нужно уметь его выполнить. А у нас такая ментальность, что мы хотим сделать здесь и сейчас, быстро, а потом, когда это уже свое, родное, в это вложены деньги, – смириться с тем, что получилось не очень эффективно. Я пока не видел ни одного собственного внутреннего подразделения Data Science, которое было бы эффективно».
По его мнению, такие домашние отделы вынуждены расти очень быстро, а любая структура, которая так быстро растет, не может быть эффективной. Чтобы быстро нанять людей в штат, приходится брать всех, кто более-менее похож на то, что нужно, поэтому скапливается много джуниоров, а это плохо для команды. Ожидания от проекта завышены, а менеджер, который все это возглавил, становится заложником собственных лозунгов и вынужден заниматься политикой, а не аналитикой. Затем такому отделу дают полтора-два года на то, чтобы себя проявить, и менеджеры вынуждены рапортовать об успехах, чтобы продержаться хотя бы эти два года. «Я не вижу пока у нас ментальной готовности делать правильно. Поэтому многие из тех Data Scientists, кто хочет работать, часто уезжают на Запад», – заключает он.
Data Science в ритейле
Ритейлер спортивных товаров Under Armour владеет несколькими фитнес-приложениями и имеет доступ к базе из 160 млн людей, занимающихся спортом. Помимо этого ритейлер оснащает датчиками инвентарь. Собирая и анализируя данные на базе решений SAP, Under Armour может совместить данные о клиентах с географическими данными и понять, например, где сейчас в стране люди занимаются регби, и на основе этого планировать свою рекламу. Все это способствует увеличению эффективности продаж.
Американский ритейлер Walmart, магазины которого расположены по всей стране и находятся в шести часовых поясах, регулярно обрабатывает 250 000 000 транзакций с данными о клиентах. При этом 94% запросов формируются меньше чем за две секунды. В период «черной пятницы» загрузка данных не превышает одного часа. Компания оперативно анализирует реакцию потребителей на ту или иную акцию на Восточном побережье и на основании этого корректирует выкладку товаров на Западном, где магазины еще не открылись.
Лаборатория Х5
Специалисты по Big Data трудятся в большом подразделении X5 Retail Group. Мы решили получить информацию из первых рук и разобраться, как там организован процесс.
В компании создали дирекцию по большим данным, то есть выделили все, что касается данных, в отдельную структуру. Отбросили ли там слово science? На вопрос отвечает Валерий Бабушкин, руководитель управления развития данных компании X5 Retail Group: «Мы не входим ни в состав ИТ-дирекции, ни в состав дирекции по стратегии. С большими данными в Х5 работает автономное подразделение. У нас есть группа Research and Development, где ребята пробуют что-то новое. У них нет задач наподобие «Сделай это к завтрашнему дню». Они занимаются тем, что можно считать наукой».
Валерий Бабушкин привел примеры задач, решаемых в департаменте больших данных Х5.
Первая задача – прогнозирование спроса. Хотелось бы, чтобы товара было, с одной стороны, достаточно, с другой стороны – ровно столько, сколько нужно, чтобы он не залеживался, а раскупался. Если товар испортился, ритейлер теряет деньги, если товара слишком мало – покупатели перестают ходить в эту торговую точку. Поэтому спрос нужно прогнозировать, выгода здесь очевидна.
Вторая задача – это промо. Здесь есть место оптимизации. Дано: определенная кривая эластичности спроса. Видно, что с определенного периода скидки будут содействовать не прибыли, а убытку. Поэтому здесь нужно найти оптимум. Кроме того, промо влияет на спрос, и его тоже следует учитывать в прогнозе, о котором мы говорили выше.
Третья задача – матрица ассортимента. «Представьте ситуацию: человек пришел в магазин, взял бутылку пива, – рассказывает Валерий Бабушкин. – Что он будет делать дальше? Можно нарисовать целое «дерево» вариантов его дальнейшего продвижения. При этом возникает понимание того, какие товары нужно располагать рядом, как их группировать. Кроме того, когда покупатель заходит в незнакомый магазин, то довольно быстро понимает, дорогое это место или нет. Даже если он пришел в магазин наподобие «Пятерочки», ему приходится искать нужное среди большого ассортимента, который состоит в среднем из 4500 уникальных товаров. Очевидно, что люди не ходят с блокнотом и не записывают туда все позиции, сравнивая цены и выгоду. Обычно покупатель смотрит только на несколько ключевых товаров и делает выводы – например, тут дешево. Или наоборот. Таким образом, мы можем создать правильную ассортиментную матрицу, понять, какие товары стоит заказать в магазин, а какие нет».
Четвертая задача – это карты лояльности, персональные предложения и более глубокое понимание клиента. Это помогает сделать так, чтобы покупатель возвращался снова и снова, средний чек повышался, трафик рос. «X5 Retail Group открывает в среднем шесть магазинов в день, – объясняет Валерий Бабушкин. – За второй квартал открылось около 500 магазинов. Когда магазин открывается, то первое, что нужно – обеспечить хороший трафик. Мы разработали систему, которая прогнозирует трафик для каждой торговой точки. Это дает более точное понимание желательного и нежелательного расположения конкретных магазинов».
Пятая задача – это интерактивная отчетность, BI, или бизнес-аналитика. Не будем забывать, что это тоже Data Science в смысле «работа с данными». «График – это лучшая форма статистики, но он должен быть максимально удобен и информативен. Этим мы тоже вполне успешно занимаемся», – поясняет Валерий Бабушкин.
Шестая задача – это профиль пользователя, создание его точного портрета. Он сторонник ЗОЖ? Если да, то именно ему нужно рассказать о том, что в сети появились новые протеиновые батончики, а не тому покупателю, который их никогда не купит.
«Наш седьмой продукт решает задачи, связанные с монетизацией за пределами торговых сетей. Мы можем помогать другим компаниям с их данными», – заключает Валерий Бабушкин.
[~DETAIL_TEXT] =>
Данных в мире все больше, а термин Big Data вдруг перестал быть модным. О Business Intelligence, разведке в дебрях больших данных, перестали говорить с былым восторгом. Новый фаворит сезона – Data Science. X5 Retail Group создала отдельное подразделение, которое работает с данными. Оно занимается прогнозированием спроса, оптимизацией промо и ассортимента, созданием персональных предложений для покупателей и многими другими задачами. Рассмотрим детальнее, чем новая наука может помочь ритейлу.

Еще лет пять-семь назад на конференциях в секции проектов по Business Intelligence обещали: «мы не дадим бизнесу утонуть в море данных», «мы поможем найти самые неожиданные закономерности в горах ненужного хлама» и «мы предсказываем будущее». Сейчас то же самое говорят о Data Science. Как такое может быть? Чем вообще различаются эти направления? Объяснения на профильных сайтах только вводят в заблуждения, говоря, что BI – это получение информации из данных, а Data Science – получение знания. Туманно, не правда ли? И я помню, как сейчас: эксперты, рассказывая про свои BI-проекты, говорили: «Мы достанем для вас знания».
Хуже того, ко всем предыдущим терминам добавились новые. Когда читатель видит броские заголовки в духе «как машинное обучение спасет ритейл» или «срочно работаем с биг датой», то у него неминуемо остается ощущение, что технологий становится все больше и что все они совершенно разные, но спасут непременно. Однако потом замечает: кейсы и там, и сям приводятся одни и те же. Получается, речь об одной технологии? Data Science, machine learning, BI – это синонимы, антонимы или все-таки ступеньки в иерархии?
Давайте для начала разберемся, как же компании, занимающиеся проектами в сфере Data Science, определяют для клиентов отличие Data Science от BI-анализа. Фактически это разные ступени одной лестницы, как мы верно предположили выше. Так считает Юрий Бондарь, заместитель генерального директора SAP CIS. По его словам, BI дает статичные структурированные отчеты, далее идет OLAP-анализ (online analytical processing), когда мы можем анализировать, исследовать и строить графики. Но при этом данные находятся в двух- или трехмерном пространстве. А если пространство многомерное, состоящее из различных внешних данных, то к анализу подключается интеллектуальный алгоритм.
«Я много лет занимался именно BI, поэтому могу ответить точно, – говорит Алексей Шовкун, директор по консалтингу компании Datalytica. – Конечно, это вопрос терминологии: что считать BI, где границы этой технологии. Лично для меня Business Intelligence – это частный случай Data Science. У них есть много одинаковых этапов анализа, например, консультанту нужно понять, что требуется заказчику, какие у него процессы и задачи, есть ли показатели, которые требуют улучшения, – это делается и в BI, и в Data Science».
Второй пункт соответствия – это данные, работа с ними. Но в BI-системах используются источники структурированной информации. А в Data Science к таким источникам добавляют еще и поток неструктурированных данных, например, видео, аудио, сигналы датчиков со станков, метаданные. В общем, много того, что раньше нельзя было автоматизированно анализировать. «Далее нужно забрать все данные и консолидировать их, это то, что называется Data Warehousing, – и это тоже общая часть у Business Intelligence и Data Science, – дополняет Алексей Шовкун. – А дальше начинаются различия. В первом случае мы предоставляем консолидированные данные специалистам заказчика для анализа через OLAP-инструменты. Эти специалисты самостоятельно ищут зависимости и другие вещи, чтобы улучшить свой бизнес».
Отсутствие единой терминологии размывает границы. Например, описательная и диагностическая аналитика, ориентированная на то, чтобы разложить по полочкам исторические данные, реализуется в BI-системах. Однако более сложные методы обработки данных, например, поиск шаблонов в цепочках событий, являются прерогативой Data Science. «О прогнозных моделях говорили десятки лет назад, и простейшие модели регрессий реализованы в BI, но использование сложных ансамблевых методов, тем более технологий глубинного обучения, все-таки лежат в сфере Data Science», – уточняет Сергей Громов, руководитель практики Data Science компании Teradata.
Как вспоминает Алексей Шовкун, раньше был еще один термин – Data Mining. Можно сделать простой анализ данных в виде отчетов, разложить понятия по колонкам и столбцам, вывести числовые метрики в середину таблицы и таким образом что-то увидеть и отнести эту табличку руководителю. А в Data Mining человек делал все то же самое, но закапывался глубже и пытался найти зависимости, причины и следствия, пытался понять, что сделать, чтобы продать больше, например. То есть искал знания, а не информацию. Причем делалось это либо вручную, либо с помощью базовых статистических методов. «Сейчас у нас появилась возможность собранные данные отдать на анализ машине. И тут-то и появляется этот термин – машинное обучение. А цель при этом та же: выяснить зависимости, научиться предсказывать. То есть предсказывает машина, а не человек, появилась вот такая альтернатива», – говорит Алексей Шовкун.
Вкалывают роботы, а не человек. Почти все происходит так, как предсказывали фантасты. «Человеку уже не придется руками крутить графики и пытаться строить прогнозы, все сделает за него машина и сделает это намного качественнее, – уверяет Жанна Узалова, начальник отдела анализа данных компании AJ TechFin Group. – Мы не просто даем инсайты, мы решаем задачу «под ключ». Если это задача прогнозирования спроса, то Data Science дает возможность не только выяснить, что такой-то товар продается лучше по вторникам, а построить модель, которая автоматически будет прогнозировать спрос на каждую единицу товара или комбинацию товаров, даже если их тысячи. Прогнозировать в каждый момент времени и с довольно приличным качеством. Если говорить про BI, то десять лет назад просто не существовало тех алгоритмов, которые сейчас использует Data Science в своем арсенале. Они стали более качественными, быстрыми и масштабируемыми».
А что с Big Data? «Data Science может использовать Big Data в проектах, если это нужно, а может и не использовать. Это не взаимозаменяемые понятия. У нас в компании принято считать, что Big Data является частным случаем в Data Science. Когда появились технологии, связанные с Big Data, на рынке раздулся пузырь, который, по сути, лопнул несколько лет назад из-за завышенных ожиданий от технологии. Причем техническим специалистам сразу было ясно, что ожидания завышенные, но политически-стратегические решения принимают ведь не они. В результате термин Big Data стал немодным и даже слегка дискредитированным. Взамен все бросились пользоваться новым словосочетанием Data Science», – поясняет Алексей Шовкун.
При этом сами по себе «большие данные» никуда не делись, скорее, наоборот. Глобальный рынок больших данных и услуг по разработке данных охватывает Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. По данным аналитической компании Markets and Markets, ожидается, что рынок Big Data и Data Engineering вырастет с $34,47 млрд в 2018 году до $77,37 млрд к 2023 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 17,6% в течение прогнозируемого периода.
«BI – это о прошлом, Data Science – о будущем, а Big Data – это о том, как переработать за разумное время большие массивы данных», – постулирует Алексей Арустамов, директор компании Loginom Company. «Если анализ проводится вручную и он простой, то это BI, если вручную и углубленный – Data Mining, если с помощью машин – это машинное обучение, machine learning, метод, которым пользуются при построении предсказательных моделей. А все вместе это и есть Data Science», – подводит итог Алексей Шовкун.
Магазин-беспилотник
Итак, что может дать ритейлу Data Science, наука о работе с данными? Amazon в конце октября открыл шестой магазин Amazon Go без кассиров и очередей. Даже кошелек на выходе доставать не нужно. Товары лежат на полках, за ними и покупателями наблюдает машинное зрение, а набор датчиков и машинное обучение делают ненужными штрихкоды и сканирование товаров на кассе при покупке. Берут ли продукты или возвращают их на полки, что в виртуальной корзине – все это отслеживается автоматически. Покупатель просто идет, берет вещи и выходит с ними из магазина через специальный турникет. Все! Amazon пишет, что у них такие же технологии, как у автомобилей-беспилотников.
Занятно, что такой магазин-беспилотник пока предполагает множество консультантов в зале, которые помогают клиентам в случае чего, и при этом может обсчитать! Блогеры, посетившие торговую точку в Сан-Франциско, сняли на видео весь процесс: они взяли два товара, один из них вернули на полку и вышли из магазина. При выходе с карты покупателя автоматически списывается сумма. Но транзакция сразу не прошла. А когда прошла – и случилось это много позже – оказалось, что случайно списалась сумма сразу за два товара. Датчики отметили, что человек взял два товара, но забыли отметить, что один из товаров вернулся обратно. Вместо $4 покупатель заплатил $14. На кассе с обычным кассиром такое невозможно, любой покупатель сразу заметил бы значительное расхождение в цифрах.
Машинное зрение, машинное обучение – все это Data Science, и Amazon применяет технологию на практике. Однако практическая сторона этой науки для ритейла гораздо шире. Алексей Арустамов полагает, что и у западных, и у отечественных клиентов-ритейлеров, которые пытаются решать свои проблемы с помощью Data Science, примерно один и тот же список запросов. Им нужно прогнозировать спрос, делать оптимизацию запасов, цен, повышать доходность, проводить сегментацию клиентов и адресный маркетинг, противодействовать оттоку покупателей.
«Раньше было довольно сложно решать такие задачи, потому что не было культуры сбора данных: в нашей стране крупный ритейл стал собирать и хранить данные относительно недавно, пару лет назад, а пионеры внедрения Data Science-решений в бизнес – чуть раньше, где-то в 2012 году, когда впервые стали говорить о таких технологиях, – рассуждает Жанна Узалова. – Но опять-таки качество этих данных, которое позволило начать решать данные задачи, улучшилось совсем недавно, тогда же, когда компании стали задумываться над качественным хранением и выстраивать у себя Data Lake-системы. Руководство крупных компаний видело, как онлайн-розница или офлайн-ритейл в Америке уже решают такие задачи, и это создало желание попробовать и у нас, а дальше уже остальным компаниям пришлось подтягиваться из-за конкуренции».
Разнообразная информация из раз- ных источников дает понимание того, что хотят потребители, где и как они готовы совершить покупку, а главное, где они фактически ее совершают. С этой точки зрения смысл использования Big Data сводится не столько к точности (которой ритейл еще долго не сможет похвастаться ввиду низкой структурированности информации), сколько к скорости обработки данных. Это становится важным фактором в условиях ускорения ритма жизни, развития омниканальности, когда принятие решения о покупке происходит на основании рекомендаций групп в социальных сетях или предложений агрегаторов скидок. Подробностями делится Юлия Овчинникова, директор Data Science компании Nielsen Россия: «Именно поэтому у нас в компании работают над ускорением процессов получения и анализа данных с фокусом на гранулярность. Новые технологии позволяют предоставлять клиентам свежие данные с недельным интервалом вместо месячного, а наше решение «Nielsen Микрорегионы» дает возможность оперативно получать их на уровне отдельных районов городов и других микрогеографий. На основе этой информации наши клиенты могут делать не только стратегические, но и тактические выводы, быстрее реагировать на потребности покупателей. Упущенное время для принятия решения равняется упущенным бизнес-возможностям и трате ресурсов, и сейчас это ощущается особенно остро».
Для тебя
Основная цель, которую преследуют ритейлеры с помощью Data Science, – строить предсказательные модели. Но сейчас, когда курс идет на индивидуальную работу с каждым клиентом, предсказания тоже становятся личностными. Из конференции в конференцию разработчики пересказывают друг другу курьезный случай, произошедший в сети американских супермаркетов Target. Сеть решила предлагать женщинам скидочные купоны на товары для новорожденных. Предлагала она их тем покупательницам, которые совершают определенные покупки с определенной частотой и последовательностью. И однажды разразился скандал. Купон был прислан несовершеннолетней девушке, ее отец пришел разбираться в магазин, уверяя, что в их семье такие предложения совершенно неуместны. Прошло несколько месяцев, и стало ясно – сеть права, отец неправ.
История была пересказана десятки раз, а затем стали говорить, что это фейк. Однако даже если конкретно такого происшествия не было, на технологии это никак не влияет. Люди часто ведут себя одинаково. Если есть паттерны поведения в группе, то они с большой вероятностью работают и для нового участника группы. Стандартный подход маркетологов: сегментировать покупателей и работать с отдельными сегментами. Иначе смотрит на это Data Science. «Целевая идея подхода в Data Science – это персонализация рекомендаций, – объясняет Сергей Громов. – В классическом подходе целому сегменту абонентов предлагаются одни и те же товары и акции. При использовании Data Science каждому пользователю предлагаются персонализированные товары. Его потребность удовлетворяется вовремя, и он совершает больше покупок».
Задача тут не только в том, чтобы удовлетворить покупателя. Сейчас ритейлеры любят взять случайную выборку клиентов и разослать им случайные предложения. Тогда как рекомендательные сервисы и персонализированные предложения – это золотая жила. Ритейл теряет деньги каждый раз, когда отправляет предложения и делает скидки всем подряд. Что толку предлагать колбасу вегетарианцу? Он ее не купит. Ритейлер потерял деньги, когда отправил ему такую смску. Зачем предлагать купить хлеба семье, которая каждый день и так его покупает? Получается, что расчет должен быть точным: нужно предложить товар именно тому, кто уже задумался о покупке, но колеблется. Кто раньше покупал, а теперь забыл, но снова купит, если ему напомнить. Отделить такого клиента от массы остальных может или телепатия, или Data Science.
«В отличие от привычной сегментации, которая нацелена на работу с группами людей, схожих между собой по каким-то характеристикам, использование технологий Big Data позволяет добиться максимально персонализированного подхода: оптимизировать ассортимент, стоимость, способ получения товара, сократить время на поиск нужных товарных позиций, – замечает Евгений Вербов, руководитель направления ритейл-аналитики компании Nielsen Россия. – Например, на основе исторических данных по картам лояльности можно построить модель оттока потребителей, а затем по ней определить вероятность того, будет ли конкретный человек в дальнейшем делать покупки в этом магазине. Таким образом ритейлер может оценить значимость данного потребителя для своего бизнеса, целесообразность персонализированных коммуникаций и максимальный размер персональной скидки».

Что касается онлайн-магазинов и других сервисов, здесь предсказательные модели работают просто отлично – в виде рекомендательных сервисов. Люди к ним уже настолько привыкли, что журналисты даже стали писать тревожные статьи на тему «не закопается ли пользователь в рекомендациях так, что и реальности не увидит», «останется ли у потребителей собственное мнение», «ребенок, выращенный искусственным интеллектом». Из этого следует вывод – мы слушаемся машину, если она нам что-то подсказывает. Она же помнит, что мы покупали вчера и год назад, что лайкнули, и знает, что нам может понравиться. По данным Amazon, 35% заказов по книгам у них происходит с полок рекомендаций.
Но это все в онлайне. А в офлайн протащить эту же идею не так легко. Что это должно быть? Специальные стенды, которые будут для покупателя островком онлайна, его собственный смартфон, который отслеживается маячками i-beacon? Эксперты предлагают взглянуть на проблему проще. «Процессы в офлайн-рознице во многом схожи с тем, как все происходит онлайн. Ритейлеры активно внедряют карты лояльности, хранящие информацию о профиле покупателя и истории его покупок. На основе этих данных формируется «ДНК покупателя». Затем с помощью специальных алгоритмов можно подобрать товары, которые будут максимально интересны конкретному потребителю, или персонализировать предложения по корзине покупок и их цене. Коммуникация с покупателями по аналогии с онлайн может идти через наиболее эффективный канал: email, sms, чек на кассе или push-уведомление через мобильное приложение», – говорит Евгений Вербов.
Карта лояльности, которая выдается покупателю взамен на его личные данные и номер телефона, пока самое доступное решение для розницы. «Когда такой покупатель расплачивается на кассе, кассовый чек становится именным за счет привязки к карте лояльности. Таким образом офлайн-ритейлер получает информацию о покупках каждого человека, который предъявляет свою карту, – отмечает Сергей Громов. – Если человек будет совершать большинство покупок у одной и той же компании, то о его предпочтениях можно будет составить практически полную картину и дальше успешно делать для него специальные предложения. Продавец пробивает карту на кассе и сообщает: «По вашей карте лояльности вам доступны такие-то специальные предложения». Индивидуальное или персонифицированное предложение, составленное алгоритмом на основе данных о конкретном клиенте, куда эффективнее, чем то, когда кассир предлагает всем одни и те же товары по акции, которые в большинстве случаев никому не нужны».
В исследовании международной консалтинговой компании McKinsey, которое они проводили в 2011 году, было сказано, что ритейлеры, использующие аналитику данных, смогут увеличить прибыль на 60% и на 1% повысить производительность труда. Сегодня ритейлеры с помощью больших данных действительно увеличивают прибыль в самых разных проектах – от процесса выкладки товара на полки и его ценообразования до персонализированного предложения для покупателей. «Например, с помощью технологий больших данных можно реализовать программы лояльности в магазинах. Именно так и поступила сеть гипермаркетов «Виктория», входящая в ГК «Дикси». В торговой сети анализируют спрос и формируют персонализированные предложения, способные привлечь покупателей, увеличить эффективность предлагаемых скидок и обеспечить качественный клиентский сервис. Программа позволила улучшить обслуживание покупателей: расширился канал коммуникаций с клиентами, у операторов контакт-центра появились точные и оперативно обновляемые данные. В результате 80% клиентов поменяли карты лояльности на новые за неделю работы программы «Моя Виктория», а средний чек увеличился на 10%», – описывает Юрий Бондарь.
Для хорошей рекомендательной системы необходимо правильно собирать данные об интересах покупателя, а также данные, что он уже купил. Офлайн-ритейл пытается решить эту задачу, вводя карты лояльности и дальше рассылая скидки на товары, которые вас заинтересуют. Но тут проблема в том, что довольно часто бывает так, что покупатель не захотел заводить карту лояльности, забыл ее или пришел с чужой картой. Решить данную проблему можно различными способами «Некоторые из наших ритейлеров даже пытаются решить ее видеораспознаванием, то есть привязать твое поведение в магазине к твоей карте лояльности, но это работает с довольно сомнительным качеством, – комментирует Жанна Узалова. – Хорошее решение тут – обязать использовать карты магазина, стимулируя это действие какими-то бонусами или скидками. Например, если мы возьмем «Метро Кэш энд Керри», то там в принципе невозможно совершить покупку без карты магазина (хотя там это вызвано юридическими ограничениями, но было бы прекрасным кейсом для хорошей рекомендательной системы). Имея историю покупок конкретного человека, можно было бы сделать рекомендательную систему с хорошим качеством, а дальше уже обогащать данными с камер наблюдения или сведениями о поведении покупателей на сайтах ритейлера». Работа маркетолога в этом случае – это правильное использование рекомендательных механизмов, выбор каналов для взаимодействия пользователей и искусственного интеллекта.
Однако идеи на карте лояльности не заканчиваются. «Вероятнее всего развитие средств видеоаналитики, распознавание не только сущностей, но и конкретных персоналий позволят в будущем отказаться от карт лояльности, – предполагает Сергей Громов. – Идентификация каждого покупателя даст возможность составить для него и лист предпочтений, и реал-тайм рекомендации касательно того, какие именно товары можно приобрести и как пройти до нужного стеллажа в торговой зоне».
По кусочкам
Мы только что сказали, что Data Science предлагает не сегментирование, а персонифицирование. Но сегментировать все-таки придется. «Только сегментируются не покупатели, а сами магазины, прежде всего с географической точки зрения, – замечает Сергей Громов. – Второй критерий для сегментации – размер магазина. Средние продажи играют важнейшую роль в нормировании, и их расчет ведется исходя не только из коэффициента сезонности, но и из размера самого магазина, ведь спрос на один и тот же товар в небольших универсамах и гипермаркетах будет существенно отличаться. Третий критерий – ассортимент товаров. Так образуются кластеры магазинов с похожими характеристиками. Прогнозирование спроса происходит на разных уровнях: «магазин-товар», «кластер-товар», «кластер-категория» и так далее. Чем более ходовой товар, тем больше вероятность получить точный прогноз на более детальном уровне. Отстающие по продаваемости товары вообще не рассматриваются на индивидуальном уровне «магазин-товар». Они собираются в группы и прогнозируются на более агрегированном уровне».
Сегментировать можно потребности. «Для одного из клиентов Nielsen, ориентируясь на транзакционные данные, выделил разные группы потребностей покупателей, – рассказывает Евгений Вербов. – Затем построил на их основе «деревья» принятия решений о покупке и таким образом оптимизировал планограмму размещения продуктов на полке для конкретной категории товаров. Благодаря этому стало возможно управлять оборотом категории с квадратного метра торговой площади – одним из важнейших показателей эффективности розничной торговли».
Частые случаи
Что касается прогнозов на более детальном уровне, то интересный кейс был рассказан представителями X5 Retail Group в ходе организованной SAP конференции Data Halloween. Там рассматривали сметану. На самом деле можно рассмотреть любой товар, но тогда его придется называть «икс», а это не так красиво, как сметана. Сколько нужно поставить на полку брендов сметаны? Вопрос нетривиальный. Слишком мало – магазин сочтут бедным и уйдут к конкурентам. Слишком много – покупателя поймает в капкан проблема выбора. Это пока понятно и согласуется с нашим житейским опытом. А вот на что житейскому опыту сложно дать ответ, так это на вопрос: мало – это сколько? А много? 20 брендов сметаны – вроде бы много. А если 12? Или 9? Может быть, 9 – это уже мало? Именно для того, чтобы не угадывать, а знать точно, используется Data Science. Люди иногда уверены в одном, тогда как аналитика показывает совершенно противоположное.
По мнению Жанны Узаловой, один из наиболее частых кейсов в ритейле – это задача по оптимизации товарных запасов: «Эта задача напрямую связана с прогнозированием спроса. И она с двусторонним ограничением: с одной стороны, мы не хотим замораживать оборотный капитал в запасах, не хотим увеличивать складские помещения, с другой – не хотим иметь пустые полки, потому что потеря покупателя обходится компании довольно дорого. Эту задачу решить классическими эконометрическими методами довольно сложно, так как, во-первых, у крупной компании количество SKU может исчисляться десятками тысяч, и кривая спроса для каждого из них может быть различной, при этом обычно она нелинейна. Во-вторых, классическая эконометрика довольно тяжело оперирует временными данными, обогащенными пространственными переменными. Тут уже подключается панельный анализ, но его точность по сравнению со стандартными алгоритмами Data Science намного хуже».
В ритейле можно работать с абсолютно разными данными и использовать их для создания многочисленных сценариев. Все зависит от той информации, которая у компании уже есть. «Объем данных у российских ритейлеров накоплен колоссальный, размеры их хранилищ уже сопоставимы со многими западными и американскими, – полагает Юрий Бондарь. – Среди основных задач, которые чаще всего обозначают компании, могут быть пересмотр ценовой политики на конкретные товары с помощью анализа цен, прогноз качества товара в коробках, рекомендации для клиентов о покупке определенных товаров, расчет оптимальной корзины, формирование скидочных предложений, прогноз продаж, промоакций и остатков на складе».
С миру по нитке
Мы так обезличенно говорим все время – большие данные. А что это за данные? Есть такой интересный случай. Сеть Tesco использовала локальные данные о прогнозе погоды в своей системе прогнозирования спроса. Это довольно удачное использование неожиданной информации, особенно если учесть, что обычно у ритейлера накапливаются такие сведения, как пол, возраст покупателя, его стандартные предпочтения.
Однако если брать пример с Tesco, то становится очевидно: нужно пользоваться самыми разными источниками. «Источников очень много: курс валюты постоянно колеблется и может существенно влиять на цену товара, загруженность дорог и пробки влияют на прогноз поставок продукции, цены на сырье и фурнитуру – на создание самого товара, – говорит Юрий Бондарь. – При открытии новых магазинов обязательно просчитываются геоданные. В систему можно подгружать данные по ценам конкурентов, даже мировые события и макроэкономика могут оказать влияние. Например, во время чемпионата мира по футболу магазины, кафе, аптеки в центре Москвы прошли «проверку на прочность» с помощью прогноза продаж».
«Мы сейчас делаем систему прогноза трафика для ГИС и планируем в качестве одного из источников данных использовать спутниковые снимки прилегающей к планируемой торговой точке местности, – делится Валерий Бабушкин, руководитель управления развития данных компании X5 Retail Group. – Спутниковые снимки доступны, и у нас есть подозрения, что нам пригодится та информация, которая на них присутствует, например, насколько это озелененные участки, какие вокруг дороги – это же все хорошо видно. Однако я не буду говорить заранее, к каким выводам нас эти данные приведут».
«Данные о локальных праздниках, информация о конкурентах, данные с видеокамер, данные из соцсетей – все это помогает получить более точные персонализированные прогнозы, – добавляет Жанна Узалова. – Очень помогают сторонние данные, например, агрегированные данные банков о платежеспособности населения вокруг магазина».

Идея объединиться с другими владельцами информации хороша. Данные банка вполне могут обогатить данные ритейлера такой информацией, к которой у последнего изначально не было доступа. То же можно сказать и об операторах сотовой связи. «По их данным можно узнать, какие сайты человек посещает в мобильном Интернете, а потом генерировать клиенту рекомендации в реальном времени, – говорит Сергей Громов. – Например, если человек ищет футбольную секцию, можно предложить ему скидку на экипировку (с помощью смс или иного канала связи, предпочтительного для данного абонента). Использование геолокации позволит проходящему мимо магазина человеку сообщить об акции, в которой он может быть заинтересован. Таким образом можно поймать клиента «тепленьким».
Интеграция же с банками, как считает Сергей Громов, позволит использовать уровень дохода в качестве одного из предикторов в моделях сегментации и на рекомендательных движках. «Разумеется, связность данных различных источников – сложная задача, – добавляет он. – Среди проблем, с которыми здесь можно столкнуться, стоит обозначить, во-первых, так называемое «связывание идентификаторов». Как связать покупателя магазина и абонента телеком-оператора? Можно использовать карты лояльности или геоданные. Вторая проблема заключается в законах, в частности, в ФЗ-54. Обмен данными должен проходить без нарушений законодательства».
Теоретически объединение данных банков, ритейла и телекома позволит получить наиболее полный профиль по каждому человеку. Но тут много нюансов. «Есть вопросы, которые решить иногда сложнее, чем трудности с законом. Сейчас каждая из этих трех сторон понимает, что было бы здорово обогатиться чужими данными, а вот свои данные отдавать как-то не хочется, – смеется Алексей Шовкун. – Если ты отдаешь свои данные кому-то, их потом нельзя продать, понимаете? Поэтому сейчас есть такие модели сотрудничества, когда исходные данные не отдают. Отдают посчитанные индексы. Владелец данных сам строит модель по тем параметрам, что его просят, а потом дает пользоваться этой моделью за арендную плату».
У ритейла очень много направлений, в которые они могли бы углубиться для поиска и сбора данных. Их можно получать из соцсетей, например. Можно обратиться к интернет-компаниям вроде «Яндекса» или Mail.Ru, к муниципальным организациям и поменяться данными с ними. Такие компании могут знать о хобби человека, о том, что у него скоро изменится жизненная ситуация, он оставляет в поисковике несвойственные ему ранее запросы. «Но это нужно делать тогда, когда все собственные источники уже исчерпаны. – продолжает мысль Алексей Шовкун. – А наши ритейлеры пока свои источники еще полностью не отработали. Например, как часто человек заходит на их сайт, как он там ходит, как быстро выбирает товар, куда вообще кликает. Единицы торговых сетей собирают и обрабатывают эту информацию».
Рад бы в рай
В теории все всегда звучит очень неплохо. Что у нас с практикой? «Говорят об этом многие, я бы даже сказал, все, но реально использует мало кто, – делится точкой зрения Алексей Арустамов. – Несмотря на победные реляции, в большинстве случаев все только начинается. У подавляющего числа компаний данные надо приводить в порядок, чтобы они были пригодны для продвинутой аналитики».
С данными действительно беда. Если заказчик предоставляет плохие данные, если задачу нельзя решить на их основе – это не проблема математика, который будет решать задачу. «Почему вообще проект, связанный с Data Science, может провалиться? – оценивает перспективы Алексей Шовкун. – Либо есть проблема в данных, когда у заказчика незрелые ИТ-процессы и информация сохраняется неполностью или некорректно, в разрозненном виде (все эти проблемы были и в BI-системах), когда они идут из разных ИТ-систем и их сложно или вообще невозможно сопоставить между собой, потому что нет единых справочников, нет внедренного Master Data Management. Но такой бардак – это проблема заказчика. Второй вариант провала – у заказчика не выстроены бизнес-процессы. То есть система нормальная, а сами процессы настолько несистемны, что статистика, которая остается в результате их исполнения, не позволяет выявить закономерности. Пример: на складе расходуются продукты, а учет расхода идет не минута в минуту, а раз в месяц. Все собираются и списывают то, что было продано. Очевидно, что построенная на таких данных модель ничего хорошего предсказать не сможет».
Вторая проблема – в деньгах. Третья – в специалистах. Быть специалистом в области Data Science сегодня очень модно. Популярность этого направления зашкаливает, судя по количеству упоминаний в СМИ и уровню вступительных баллов на кафедры анализа данных ведущих отечественных вузов. «Однако отрасль испытывает явный дисбаланс между спросом и предложением, обусловленный недостаточным количеством готовых специалистов, стоимость привлечения которых весьма существенна, – сетует Сергей Громов. – Таким образом, создавать целое подразделение внутри ритейл-структуры будет оправданно для гигантов вроде X5. Торговые компании меньшего масштаба, разумеется, сталкиваются с задачами продвинутой аналитики, но в большинстве случаев решают их за счет экспертных навыков предметных менеджеров, например, отвечающих за маркетинг, логистику и товарные запасы. С усложнением аналитических задач и таким компаниям потребуется привлекать DS-специалистов в той или иной форме».
Если у компании уже много накопленных данных, то как минимум стоит задуматься об их монетизации. Дальше возникает вопрос: создать собственную экспертизу или привлечь подрядчика. «Тут все зависит от количества задач, стоящих перед компанией: если вы наберете задач хотя бы на пару лет вперед, то лучше начинать растить свою экспертизу. Если вам нужно решить пару кейсов, то собственная экспертиза обойдется вам намного дороже, – считает Жанна Узалова. – Опять-таки правильный выбор, который делают крупные зрелые компании, это собственный отдел, который решает задачи, решение которых надо пересматривать, например, прогнозирование спроса, и аутсорс-задач, которые решаются разово, например, распознавание с камер наблюдения».
Как полагает Жанна Узалова, на рынке сейчас появилось довольно много специалистов уровня джуниор, и проблема с ними в том, что они не решали реальных задач, а в лучшем случае участвовали в каких-либо соревнованиях, что довольно слабо связано с реальностью. И если ритейлер хочет вырастить собственную экспертизу, то ему нужно нанять саейнтиста, как их сейчас называют, сеньор-уровня, чтобы он не только решал задачи «под ключ», но и обучал джуниоров, а таких специалистов очень мало на рынке. С сеньором тоже можно попасть впросак: бывают такие, которые сами прекрасно решают задачи, но совершенно не могут делиться опытом. Сформировать же команду из сеньоров вообще довольно дорогостоящая затея.
Однако внутреннее подразделение необязательно, есть множество других способов поработать с Data Science. Сегодня к помощи сторонних Data Science-специалистов прибегают крупные игроки офлайн-торговли. Обусловлено это разными причинами, среди которых широта спектра аналитических задач, постоянно меняющиеся условия рынка, влекущие изменения моделей, а также фантастический рост аналитических технологий, за которыми просто невозможно угнаться, рассчитывая лишь на собственные силы. «Полагаю, что чаще будут появляться исследовательские задачи в challenge-формате, для которых есть открытые площадки, такие как Kaggle.com, – продолжает Сергей Громов. – Например, отечественный производитель компьютерных игр «Фирма 1С» разместила на этом ресурсе задачу разработки модели месячного прогнозирования продаж собственной продукции».
Последнее, что мешает, – ментальность отечественных компаний. Сразу несколько экспертов отметили эту проблему, из-за которой рост, развитие и применение Data Science в офлайн-рознице сдерживаются. На Западе крупнейшие ритейлеры типа Amazon идут настолько впереди всех, что формируют саму отрасль Data Science, придумывают новые инструменты. Такие ритейлеры, понимая, что делают что-то прорывное, изобретательское, создают лаборатории и не требуют от этих лабораторий немедленного результата. При этом у них, конечно, есть и подразделения, которые отвечают за внедрение и монетизацию того, что придумали им эти первопроходцы. «Наши ритейлеры помимо того, что в принципе не особенно готовы инвестировать в исследования, еще и не хотят замечать, что в словосочетании Data Science есть вот это слово Science – «наука», – напоминает Алексей Шовкун. – Там есть место исследованиям, поиску знания, когда открытые проблемы рассматриваются с помощью научного подхода, метода проб и ошибок. Там гораздо больше рисков, нет уверенности в том, что, заплатив n-денег, мы получим результат на n в квадрате. Это не торговля, это наука. Ритейл пока на такое не согласен, им нужно знать заранее и наверняка».
Как правило, заказчик почему-либо воодушевляется идеей, затем делает пилот. «Причем пилот часто хотят бесплатно, ритейл вообще довольно жесткий заказчик и любит такой поворот, – иронизирует Алексей Шовкун. – Как только появляются первые положительные результаты, то сразу соответствующий менеджер среднего звена идет наверх и пиарит то, чего удалось достичь, а сам становится менеджером постарше. Далее начинают нанимать десятки Data Scientists, и создается собственное подразделение. При этом это достаточно сложный процесс, нужно уметь его выполнить. А у нас такая ментальность, что мы хотим сделать здесь и сейчас, быстро, а потом, когда это уже свое, родное, в это вложены деньги, – смириться с тем, что получилось не очень эффективно. Я пока не видел ни одного собственного внутреннего подразделения Data Science, которое было бы эффективно».
По его мнению, такие домашние отделы вынуждены расти очень быстро, а любая структура, которая так быстро растет, не может быть эффективной. Чтобы быстро нанять людей в штат, приходится брать всех, кто более-менее похож на то, что нужно, поэтому скапливается много джуниоров, а это плохо для команды. Ожидания от проекта завышены, а менеджер, который все это возглавил, становится заложником собственных лозунгов и вынужден заниматься политикой, а не аналитикой. Затем такому отделу дают полтора-два года на то, чтобы себя проявить, и менеджеры вынуждены рапортовать об успехах, чтобы продержаться хотя бы эти два года. «Я не вижу пока у нас ментальной готовности делать правильно. Поэтому многие из тех Data Scientists, кто хочет работать, часто уезжают на Запад», – заключает он.
Data Science в ритейле
Ритейлер спортивных товаров Under Armour владеет несколькими фитнес-приложениями и имеет доступ к базе из 160 млн людей, занимающихся спортом. Помимо этого ритейлер оснащает датчиками инвентарь. Собирая и анализируя данные на базе решений SAP, Under Armour может совместить данные о клиентах с географическими данными и понять, например, где сейчас в стране люди занимаются регби, и на основе этого планировать свою рекламу. Все это способствует увеличению эффективности продаж.
Американский ритейлер Walmart, магазины которого расположены по всей стране и находятся в шести часовых поясах, регулярно обрабатывает 250 000 000 транзакций с данными о клиентах. При этом 94% запросов формируются меньше чем за две секунды. В период «черной пятницы» загрузка данных не превышает одного часа. Компания оперативно анализирует реакцию потребителей на ту или иную акцию на Восточном побережье и на основании этого корректирует выкладку товаров на Западном, где магазины еще не открылись.
Лаборатория Х5
Специалисты по Big Data трудятся в большом подразделении X5 Retail Group. Мы решили получить информацию из первых рук и разобраться, как там организован процесс.
В компании создали дирекцию по большим данным, то есть выделили все, что касается данных, в отдельную структуру. Отбросили ли там слово science? На вопрос отвечает Валерий Бабушкин, руководитель управления развития данных компании X5 Retail Group: «Мы не входим ни в состав ИТ-дирекции, ни в состав дирекции по стратегии. С большими данными в Х5 работает автономное подразделение. У нас есть группа Research and Development, где ребята пробуют что-то новое. У них нет задач наподобие «Сделай это к завтрашнему дню». Они занимаются тем, что можно считать наукой».
Валерий Бабушкин привел примеры задач, решаемых в департаменте больших данных Х5.
Первая задача – прогнозирование спроса. Хотелось бы, чтобы товара было, с одной стороны, достаточно, с другой стороны – ровно столько, сколько нужно, чтобы он не залеживался, а раскупался. Если товар испортился, ритейлер теряет деньги, если товара слишком мало – покупатели перестают ходить в эту торговую точку. Поэтому спрос нужно прогнозировать, выгода здесь очевидна.
Вторая задача – это промо. Здесь есть место оптимизации. Дано: определенная кривая эластичности спроса. Видно, что с определенного периода скидки будут содействовать не прибыли, а убытку. Поэтому здесь нужно найти оптимум. Кроме того, промо влияет на спрос, и его тоже следует учитывать в прогнозе, о котором мы говорили выше.
Третья задача – матрица ассортимента. «Представьте ситуацию: человек пришел в магазин, взял бутылку пива, – рассказывает Валерий Бабушкин. – Что он будет делать дальше? Можно нарисовать целое «дерево» вариантов его дальнейшего продвижения. При этом возникает понимание того, какие товары нужно располагать рядом, как их группировать. Кроме того, когда покупатель заходит в незнакомый магазин, то довольно быстро понимает, дорогое это место или нет. Даже если он пришел в магазин наподобие «Пятерочки», ему приходится искать нужное среди большого ассортимента, который состоит в среднем из 4500 уникальных товаров. Очевидно, что люди не ходят с блокнотом и не записывают туда все позиции, сравнивая цены и выгоду. Обычно покупатель смотрит только на несколько ключевых товаров и делает выводы – например, тут дешево. Или наоборот. Таким образом, мы можем создать правильную ассортиментную матрицу, понять, какие товары стоит заказать в магазин, а какие нет».
Четвертая задача – это карты лояльности, персональные предложения и более глубокое понимание клиента. Это помогает сделать так, чтобы покупатель возвращался снова и снова, средний чек повышался, трафик рос. «X5 Retail Group открывает в среднем шесть магазинов в день, – объясняет Валерий Бабушкин. – За второй квартал открылось около 500 магазинов. Когда магазин открывается, то первое, что нужно – обеспечить хороший трафик. Мы разработали систему, которая прогнозирует трафик для каждой торговой точки. Это дает более точное понимание желательного и нежелательного расположения конкретных магазинов».
Пятая задача – это интерактивная отчетность, BI, или бизнес-аналитика. Не будем забывать, что это тоже Data Science в смысле «работа с данными». «График – это лучшая форма статистики, но он должен быть максимально удобен и информативен. Этим мы тоже вполне успешно занимаемся», – поясняет Валерий Бабушкин.
Шестая задача – это профиль пользователя, создание его точного портрета. Он сторонник ЗОЖ? Если да, то именно ему нужно рассказать о том, что в сети появились новые протеиновые батончики, а не тому покупателю, который их никогда не купит.
«Наш седьмой продукт решает задачи, связанные с монетизацией за пределами торговых сетей. Мы можем помогать другим компаниям с их данными», – заключает Валерий Бабушкин.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>
Данных в мире все больше, а термин Big Data вдруг перестал быть модным. О Business Intelligence, разведке в дебрях больших данных, перестали говорить с былым восторгом. Новый фаворит сезона – Data Science.
[~PREVIEW_TEXT] =>Данных в мире все больше, а термин Big Data вдруг перестал быть модным. О Business Intelligence, разведке в дебрях больших данных, перестали говорить с былым восторгом. Новый фаворит сезона – Data Science.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 2901 [TIMESTAMP_X] => 11.03.2020 15:38:14 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 287 [WIDTH] => 443 [FILE_SIZE] => 53513 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/016 [FILE_NAME] => 016323af10e05aa5ec98d4c51f65215b.jpg [ORIGINAL_NAME] => md_11_2018.p54.cmyk.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => e4ea54869f293a058948c19cd04c1db2 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/016/016323af10e05aa5ec98d4c51f65215b.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/016/016323af10e05aa5ec98d4c51f65215b.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/016/016323af10e05aa5ec98d4c51f65215b.jpg [ALT] => Наука побеждать [TITLE] => Наука побеждать ) [~PREVIEW_PICTURE] => 2901 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => nauka-pobezhdat [~CODE] => nauka-pobezhdat [EXTERNAL_ID] => 4789 [~EXTERNAL_ID] => 4789 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 22.11.2018 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Наука побеждать [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Наука побеждать [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => <p> Данных в мире все больше, а термин Big Data вдруг перестал быть модным. О Business Intelligence, разведке в дебрях больших данных, перестали говорить с былым восторгом. Новый фаворит сезона – Data Science. </p> [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Наука побеждать [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Наука побеждать | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [19] => Array ( [ID] => 4788 [~ID] => 4788 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Реальная виртуальность [~NAME] => Реальная виртуальность [ACTIVE_FROM_X] => 2018-11-22 00:00:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2018-11-22 00:00:00 [ACTIVE_FROM] => 22.11.2018 [~ACTIVE_FROM] => 22.11.2018 [TIMESTAMP_X] => 11.03.2020 15:34:56 [~TIMESTAMP_X] => 11.03.2020 15:34:56 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/realnaya-virtualnost/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/realnaya-virtualnost/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>В мире, где все проще купить любой товар онлайн, заманить покупателя в физический магазин стало сложнее. В ответ на этот тренд компании стали вносить элементы виртуального мира, который так влечет потребителей, в мир реальный, а маркетологи уже подобрали этому новое слово – фиджитал. Ритейл сближается с индустрией развлечений, однако виртуальная и дополненная реальность проникает в залы магазинов и офисы розничных компаний не только для того, чтобы поразить зрителей, но и для того, чтобы лучше информировать, научить, ускорить разработку проектов.

АВТОР: Наталья Николаева
Несмотря на то что компания Microsoft в ходе недавно прошедшего в Москве круглого стола назвала фиджитал среди глобальных ИТ-трендов в сфере ритейла, это слово еще не полностью вошло в обиход. Даже поисковые системы автоматически меняют его на «диджитал». Один из корней они угадали верно: определение выросло из слияния двух английских слов – физический (physical) и цифровой (digital). На практике термин означает очень простую вещь – всеми правдами и неправдами в реальный мир стараются вытащить то, что присуще миру компьютерному, что бы это ни было: виртуальная или дополненная реальность, лайки из соцсети прямо на товарах, интерактивные игры. Все, что может зацепить покупателя и не дать ему пройти мимо. «Покупательская психология меняется: теперь люди хотят не просто приобрести товар – они приходят за новыми эмоциями, впечатлениями и персонализированным подходом, – говорит Михаил Черномордиков, директор по индустриальным стратегическим технологиям в регионе ЕМЕА компании Microsoft. – Вовлечение становится ключевым фактором успеха, а ритейл превращается в индустрию развлечений. В этом контексте фиджитал стал естественным ответом индустрии на эти вызовы. В это понятие входит не только применение дополненной реальности, но и любое использование технологий, в частности, Интернета вещей и искусственного интеллекта, которое позволяет привнести цифровой опыт в физический магазин».
По сути, фиджитал – это еще одна попытка сближения, попытка найти общий язык с покупателем и поговорить. Использование фиджитал-инструментов – современный подход к созданию принципиально нового потребительского опыта. «Этот вид цифрового маркетинга, объединяющий виртуальные и реальные коммуникации, позволяет ритейлеру вступить с клиентом в прямой диалог и предложить тот товар, который подходит конкретно ему», – поясняет Илья Симонов, директор Центра виртуальной реальности компании «КРОК».
Это логично. Раз клиенты привыкли к онлайн-решениям, если лайки правят миром, а интерфейсы приложений стали пользователям ближе, чем тексты на бумаге, то почему бы не взять их новые привычки на вооружение? «Это может стать новым форматом взаимодействия, – полагает Денис Захаркин, исполнительный директор компании VR Concept. – Особенно учитывая тот факт, что люди стали чаще покупать в онлайне, чем в офлайне. При этом остается достаточно много вещей, которые мы привыкли и будем покупать в офлайн-магазинах. Поэтому фиджитал – это один из способов перетягивания клиентов из онлайна и повышения конкурентоспособности в физически существующих магазинах за счет интерактивности и дополнительных эффектов».
При этом сейчас на розничном рынке наблюдается интересная тенденция: офлайн-магазины стремятся увеличить свою клиентскую базу в интернет-пространстве, а онлайн-магазины, наоборот, открывают физические точки присутствия в попытке захватить часть рынка традиционной торговли. «И в том, и в другом случае в качестве инструмента взаимодействия между брендом и потребителем могут выступать технологии виртуальной и дополненной реальности. Так, многие интернет-магазины открывают инновационные шоу-румы, чтобы увеличить узнаваемость своего бренда и завоевать лояльность покупателей», – поясняет Светлана Савельева, руководитель департамента развития отраслевой экспертизы группы компаний Softline.
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[~DETAIL_TEXT] =>В мире, где все проще купить любой товар онлайн, заманить покупателя в физический магазин стало сложнее. В ответ на этот тренд компании стали вносить элементы виртуального мира, который так влечет потребителей, в мир реальный, а маркетологи уже подобрали этому новое слово – фиджитал. Ритейл сближается с индустрией развлечений, однако виртуальная и дополненная реальность проникает в залы магазинов и офисы розничных компаний не только для того, чтобы поразить зрителей, но и для того, чтобы лучше информировать, научить, ускорить разработку проектов.

АВТОР: Наталья Николаева
Несмотря на то что компания Microsoft в ходе недавно прошедшего в Москве круглого стола назвала фиджитал среди глобальных ИТ-трендов в сфере ритейла, это слово еще не полностью вошло в обиход. Даже поисковые системы автоматически меняют его на «диджитал». Один из корней они угадали верно: определение выросло из слияния двух английских слов – физический (physical) и цифровой (digital). На практике термин означает очень простую вещь – всеми правдами и неправдами в реальный мир стараются вытащить то, что присуще миру компьютерному, что бы это ни было: виртуальная или дополненная реальность, лайки из соцсети прямо на товарах, интерактивные игры. Все, что может зацепить покупателя и не дать ему пройти мимо. «Покупательская психология меняется: теперь люди хотят не просто приобрести товар – они приходят за новыми эмоциями, впечатлениями и персонализированным подходом, – говорит Михаил Черномордиков, директор по индустриальным стратегическим технологиям в регионе ЕМЕА компании Microsoft. – Вовлечение становится ключевым фактором успеха, а ритейл превращается в индустрию развлечений. В этом контексте фиджитал стал естественным ответом индустрии на эти вызовы. В это понятие входит не только применение дополненной реальности, но и любое использование технологий, в частности, Интернета вещей и искусственного интеллекта, которое позволяет привнести цифровой опыт в физический магазин».
По сути, фиджитал – это еще одна попытка сближения, попытка найти общий язык с покупателем и поговорить. Использование фиджитал-инструментов – современный подход к созданию принципиально нового потребительского опыта. «Этот вид цифрового маркетинга, объединяющий виртуальные и реальные коммуникации, позволяет ритейлеру вступить с клиентом в прямой диалог и предложить тот товар, который подходит конкретно ему», – поясняет Илья Симонов, директор Центра виртуальной реальности компании «КРОК».
Это логично. Раз клиенты привыкли к онлайн-решениям, если лайки правят миром, а интерфейсы приложений стали пользователям ближе, чем тексты на бумаге, то почему бы не взять их новые привычки на вооружение? «Это может стать новым форматом взаимодействия, – полагает Денис Захаркин, исполнительный директор компании VR Concept. – Особенно учитывая тот факт, что люди стали чаще покупать в онлайне, чем в офлайне. При этом остается достаточно много вещей, которые мы привыкли и будем покупать в офлайн-магазинах. Поэтому фиджитал – это один из способов перетягивания клиентов из онлайна и повышения конкурентоспособности в физически существующих магазинах за счет интерактивности и дополнительных эффектов».
При этом сейчас на розничном рынке наблюдается интересная тенденция: офлайн-магазины стремятся увеличить свою клиентскую базу в интернет-пространстве, а онлайн-магазины, наоборот, открывают физические точки присутствия в попытке захватить часть рынка традиционной торговли. «И в том, и в другом случае в качестве инструмента взаимодействия между брендом и потребителем могут выступать технологии виртуальной и дополненной реальности. Так, многие интернет-магазины открывают инновационные шоу-румы, чтобы увеличить узнаваемость своего бренда и завоевать лояльность покупателей», – поясняет Светлана Савельева, руководитель департамента развития отраслевой экспертизы группы компаний Softline.
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>В мире, где все проще купить любой товар онлайн, заманить покупателя в физический магазин стало сложнее. В ответ на этот тренд компании стали вносить элементы виртуального мира, который так влечет потребителей.
[~PREVIEW_TEXT] =>В мире, где все проще купить любой товар онлайн, заманить покупателя в физический магазин стало сложнее. В ответ на этот тренд компании стали вносить элементы виртуального мира, который так влечет потребителей.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 2900 [TIMESTAMP_X] => 11.03.2020 15:34:56 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 292 [WIDTH] => 442 [FILE_SIZE] => 35353 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/b98 [FILE_NAME] => b983cd1247c2810bcee6ef5ea875f027.jpg [ORIGINAL_NAME] => md_10_2018.p54.cmyk.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 69147bf8d4bb69a07be0ef6303140385 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/b98/b983cd1247c2810bcee6ef5ea875f027.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/b98/b983cd1247c2810bcee6ef5ea875f027.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/b98/b983cd1247c2810bcee6ef5ea875f027.jpg [ALT] => Реальная виртуальность [TITLE] => Реальная виртуальность ) [~PREVIEW_PICTURE] => 2900 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => realnaya-virtualnost [~CODE] => realnaya-virtualnost [EXTERNAL_ID] => 4788 [~EXTERNAL_ID] => 4788 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 22.11.2018 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Реальная виртуальность [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Реальная виртуальность [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => <p>В мире, где все проще купить любой товар онлайн, заманить покупателя в физический магазин стало сложнее. В ответ на этот тренд компании стали вносить элементы виртуального мира, который так влечет потребителей.</p> [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Реальная виртуальность [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Реальная виртуальность | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) ) [ELEMENTS] => Array ( [0] => 6770 [1] => 6651 [2] => 6465 [3] => 6358 [4] => 6276 [5] => 6017 [6] => 5883 [7] => 5668 [8] => 5496 [9] => 5448 [10] => 5378 [11] => 5277 [12] => 5204 [13] => 5042 [14] => 4961 [15] => 4908 [16] => 4889 [17] => 4798 [18] => 4789 [19] => 4788 ) [NAV_STRING] => [NAV_CACHED_DATA] => [NAV_RESULT] => CIBlockResult Object ( [result] => mysqli_result Object ( [current_field] => 0 [field_count] => 5 [lengths] => [num_rows] => 20 [type] => 0 ) [arResult] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 6770 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2022-02-06 13:07:00 [ACTIVE_FROM] => 06.02.2022 13:07:00 [SORT] => 500 ) [1] => Array ( [ID] => 6651 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-16 15:28:00 [ACTIVE_FROM] => 16.11.2021 15:28:00 [SORT] => 500 ) [2] => Array ( [ID] => 6465 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-22 12:44:00 [ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 12:44:00 [SORT] => 500 ) [3] => Array ( [ID] => 6358 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-05-18 13:31:00 [ACTIVE_FROM] => 18.05.2021 13:31:00 [SORT] => 500 ) [4] => Array ( [ID] => 6276 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-03-31 10:37:00 [ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 10:37:00 [SORT] => 500 ) [5] => Array ( [ID] => 6017 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2020-10-21 15:39:00 [ACTIVE_FROM] => 21.10.2020 15:39:00 [SORT] => 500 ) [6] => Array ( [ID] => 5883 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2020-08-19 17:01:00 [ACTIVE_FROM] => 19.08.2020 17:01:00 [SORT] => 500 ) [7] => Array ( [ID] => 5668 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2020-04-29 16:29:00 [ACTIVE_FROM] => 29.04.2020 16:29:00 [SORT] => 500 ) [8] => Array ( [ID] => 5496 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2020-02-26 19:02:00 [ACTIVE_FROM] => 26.02.2020 19:02:00 [SORT] => 500 ) [9] => Array ( [ID] => 5448 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2020-02-04 20:30:00 [ACTIVE_FROM] => 04.02.2020 20:30:00 [SORT] => 500 ) [10] => Array ( [ID] => 5378 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2019-12-11 16:43:00 [ACTIVE_FROM] => 11.12.2019 16:43:00 [SORT] => 500 ) [11] => Array ( [ID] => 5277 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2019-10-23 16:08:00 [ACTIVE_FROM] => 23.10.2019 16:08:00 [SORT] => 500 ) [12] => Array ( [ID] => 5204 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2019-09-16 23:17:00 [ACTIVE_FROM] => 16.09.2019 23:17:00 [SORT] => 500 ) [13] => Array ( [ID] => 5042 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2019-06-26 13:33:00 [ACTIVE_FROM] => 26.06.2019 13:33:00 [SORT] => 500 ) [14] => Array ( [ID] => 4961 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2019-05-22 18:06:00 [ACTIVE_FROM] => 22.05.2019 18:06:00 [SORT] => 500 ) [15] => Array ( [ID] => 4908 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2019-04-16 21:31:00 [ACTIVE_FROM] => 16.04.2019 21:31:00 [SORT] => 500 ) [16] => Array ( [ID] => 4889 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2019-04-09 13:06:00 [ACTIVE_FROM] => 09.04.2019 13:06:00 [SORT] => 500 ) [17] => Array ( [ID] => 4798 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2018-12-07 00:00:00 [ACTIVE_FROM] => 07.12.2018 [SORT] => 500 ) [18] => Array ( [ID] => 4789 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2018-11-22 00:00:00 [ACTIVE_FROM] => 22.11.2018 [SORT] => 500 ) [19] => Array ( [ID] => 4788 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2018-11-22 00:00:00 [ACTIVE_FROM] => 22.11.2018 [SORT] => 500 ) ) [arReplacedAliases] => [arResultAdd] => [bNavStart] => 1 [bShowAll] => [NavNum] => 1 [NavPageCount] => 5 [NavPageNomer] => 1 [NavPageSize] => 20 [NavShowAll] => [NavRecordCount] => 90 [bFirstPrintNav] => 1 [PAGEN] => 1 [SIZEN] => 20 [SESS_SIZEN] => [SESS_ALL] => [SESS_PAGEN] => [add_anchor] => [bPostNavigation] => [bFromArray] => [bFromLimited] => 1 [nPageWindow] => 5 [nSelectedCount] => 90 [arGetNextCache] => [bDescPageNumbering] => [arUserFields] => [usedUserFields] => [SqlTraceIndex] => [DB] => CDatabase Object ( [DBName] => u0488182_mdmag [DBHost] => localhost [DBLogin] => u0488182_mdmag [DBPassword] => D1u4O2d1%#! [db_Conn] => mysqli Object ( [affected_rows] => 1 [client_info] => mysqlnd 8.2.15 [client_version] => 80215 [connect_errno] => 0 [connect_error] => [errno] => 0 [error] => [error_list] => Array ( ) [field_count] => 3 [host_info] => Localhost via UNIX socket [info] => [insert_id] => 0 [server_info] => 5.7.27-30 [server_version] => 50727 [sqlstate] => 00000 [protocol_version] => 10 [thread_id] => 19977359 [warning_count] => 0 ) [debug] => [DebugToFile] => [ShowSqlStat] => [db_Error] => [db_ErrorSQL] => [result] => [type] => MYSQL [column_cache] => Array ( ) [bModuleConnection] => [bNodeConnection] => [node_id] => [obSlave] => [connection:protected] => Bitrix\Main\DB\MysqliConnection Object ( [resource:protected] => mysqli Object ( [affected_rows] => 1 [client_info] => mysqlnd 8.2.15 [client_version] => 80215 [connect_errno] => 0 [connect_error] => [errno] => 0 [error] => [error_list] => Array ( ) [field_count] => 3 [host_info] => Localhost via UNIX socket [info] => [insert_id] => 0 [server_info] => 5.7.27-30 [server_version] => 50727 [sqlstate] => 00000 [protocol_version] => 10 [thread_id] => 19977359 [warning_count] => 0 ) [isConnected:protected] => 1 [configuration:protected] => Array ( [className] => \Bitrix\Main\DB\MysqliConnection [host] => localhost [database] => u0488182_mdmag [login] => u0488182_mdmag [password] => D1u4O2d1%#! [options] => 2 [include_after_connected] => /var/www/u0488182/data/www/mdmag.ru/bitrix/php_interface/after_connect_d7.php ) [sqlHelper:protected] => Bitrix\Main\DB\MysqliSqlHelper Object ( [connection:protected] => Bitrix\Main\DB\MysqliConnection Object *RECURSION* [idCache:protected] => Array ( [main_site] => `main_site` [LID] => `LID` [SORT] => `SORT` [DEF] => `DEF` [ACTIVE] => `ACTIVE` [NAME] => `NAME` [DIR] => `DIR` [LANGUAGE_ID] => `LANGUAGE_ID` [DOC_ROOT] => `DOC_ROOT` [DOMAIN_LIMITED] => `DOMAIN_LIMITED` [SERVER_NAME] => `SERVER_NAME` [SITE_NAME] => `SITE_NAME` [EMAIL] => `EMAIL` [CULTURE_ID] => `CULTURE_ID` [b_lang] => `b_lang` [main_site_domain] => `main_site_domain` [LD_LID] => `LD_LID` [DOMAIN] => `DOMAIN` [LD_DOMAIN] => `LD_DOMAIN` [b_lang_domain] => `b_lang_domain` [main_localization_language] => `main_localization_language` [CODE] => `CODE` [b_language] => `b_language` [main_localization_culture] => `main_localization_culture` [ID] => `ID` [FORMAT_DATE] => `FORMAT_DATE` [FORMAT_DATETIME] => `FORMAT_DATETIME` [FORMAT_NAME] => `FORMAT_NAME` [WEEK_START] => `WEEK_START` [CHARSET] => `CHARSET` [DIRECTION] => `DIRECTION` [SHORT_DATE_FORMAT] => `SHORT_DATE_FORMAT` [MEDIUM_DATE_FORMAT] => `MEDIUM_DATE_FORMAT` [LONG_DATE_FORMAT] => `LONG_DATE_FORMAT` [FULL_DATE_FORMAT] => `FULL_DATE_FORMAT` [DAY_MONTH_FORMAT] => `DAY_MONTH_FORMAT` [DAY_SHORT_MONTH_FORMAT] => `DAY_SHORT_MONTH_FORMAT` [DAY_OF_WEEK_MONTH_FORMAT] => `DAY_OF_WEEK_MONTH_FORMAT` [SHORT_DAY_OF_WEEK_MONTH_FORMAT] => `SHORT_DAY_OF_WEEK_MONTH_FORMAT` [SHORT_DAY_OF_WEEK_SHORT_MONTH_FORMAT] => `SHORT_DAY_OF_WEEK_SHORT_MONTH_FORMAT` [SHORT_TIME_FORMAT] => `SHORT_TIME_FORMAT` [LONG_TIME_FORMAT] => `LONG_TIME_FORMAT` [AM_VALUE] => `AM_VALUE` [PM_VALUE] => `PM_VALUE` [NUMBER_THOUSANDS_SEPARATOR] => `NUMBER_THOUSANDS_SEPARATOR` [NUMBER_DECIMAL_SEPARATOR] => `NUMBER_DECIMAL_SEPARATOR` [NUMBER_DECIMALS] => `NUMBER_DECIMALS` [b_culture] => `b_culture` [main_group] => `main_group` [GROUP_ID] => `GROUP_ID` [SECURITY_POLICY] => `SECURITY_POLICY` [b_group] => `b_group` [CONDITION] => `CONDITION` [main_task] => `main_task` [LETTER] => `LETTER` [MODULE_ID] => `MODULE_ID` [SYS] => `SYS` [DESCRIPTION] => `DESCRIPTION` [BINDING] => `BINDING` [b_task] => `b_task` [main_task_operation] => `main_task_operation` [OPERATION_ID] => `OPERATION_ID` [main_task_operation_operation] => `main_task_operation_operation` [b_operation] => `b_operation` [TASK_ID] => `TASK_ID` [UALIAS_0] => `UALIAS_0` [UALIAS_1] => `UALIAS_1` [b_task_operation] => `b_task_operation` [iblock_property] => `iblock_property` [IBLOCK_ID] => `IBLOCK_ID` [iblock_property_iblock] => `iblock_property_iblock` [b_iblock] => `b_iblock` [TIMESTAMP_X] => `TIMESTAMP_X` [DEFAULT_VALUE] => `DEFAULT_VALUE` [PROPERTY_TYPE] => `PROPERTY_TYPE` [ROW_COUNT] => `ROW_COUNT` [COL_COUNT] => `COL_COUNT` [LIST_TYPE] => `LIST_TYPE` [MULTIPLE] => `MULTIPLE` [XML_ID] => `XML_ID` [FILE_TYPE] => `FILE_TYPE` [MULTIPLE_CNT] => `MULTIPLE_CNT` [TMP_ID] => `TMP_ID` [LINK_IBLOCK_ID] => `LINK_IBLOCK_ID` [WITH_DESCRIPTION] => `WITH_DESCRIPTION` [SEARCHABLE] => `SEARCHABLE` [FILTRABLE] => `FILTRABLE` [IS_REQUIRED] => `IS_REQUIRED` [VERSION] => `VERSION` [USER_TYPE] => `USER_TYPE` [USER_TYPE_SETTINGS] => `USER_TYPE_SETTINGS` [USER_TYPE_SETTINGS_LIST] => `USER_TYPE_SETTINGS_LIST` [HINT] => `HINT` [b_iblock_property] => `b_iblock_property` [iblock_inherited_property] => `iblock_inherited_property` [b_iblock_iproperty] => `b_iblock_iproperty` ) ) [sqlTracker:protected] => [trackSql:protected] => [version:protected] => [versionExpress:protected] => [host:protected] => localhost [database:protected] => u0488182_mdmag [login:protected] => u0488182_mdmag [password:protected] => D1u4O2d1%#! [initCommand:protected] => [options:protected] => 2 [nodeId:protected] => 0 [utf8mb4:protected] => Array ( ) [tableColumnsCache:protected] => Array ( ) [lastQueryResult:protected] => mysqli_result Object ( [current_field] => 0 [field_count] => 7 [lengths] => [num_rows] => 140 [type] => 0 ) [queryExecutingEnabled:protected] => 1 [disabledQueryExecutingDump:protected] => [engine:protected] => [transactionLevel:protected] => 0 ) [connectionName:protected] => [cntQuery] => 0 [timeQuery] => 0 [arQueryDebug] => Array ( ) [sqlTracker] => [version] => [escL] => ` [escR] => ` ) [NavRecordCountChangeDisable] => [is_filtered] => [nStartPage] => 1 [nEndPage] => 5 [resultObject] => [arIBlockMultProps] => Array ( ) [arIBlockConvProps] => Array ( ) [arIBlockAllProps] => Array ( ) [arIBlockNumProps] => Array ( ) [arIBlockLongProps] => Array ( ) [nInitialSize] => [table_id] => [strDetailUrl] => [strSectionUrl] => [strListUrl] => [arSectionContext] => [bIBlockSection] => [nameTemplate] => [_LAST_IBLOCK_ID] => 8 [_FILTER_IBLOCK_ID] => Array ( [8] => 1 ) ) [NAV_PARAM] => Array ( ) )